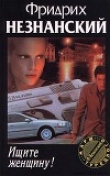Текст книги "Операция "Фауст""
Автор книги: Фридрих Незнанский
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Я был потрясен этим безумием.
– Но это уже было! Было! «Вся Европа у нас под ногами. Мы раса победителей! Долой евреев, цыган, славян и прочее!»
– Нет! – спокойно ответил он. – Такого еще не было. Наше братство решило уничтожить худшую часть населения, чтобы расцвела —лучшая!
– И сколько же вы хотите уничтожить? – холодея, проговорил я.
– Уничтожим семьдесят процентов. Может быть, даже восемьдесят. Зачем быдло? Быдло выполнило свою миссию, нарожало столько, что на земле не повернешься! Теснота! Самые лучшие идеи испоганены из-за тупости быдла. Оно выдвигает правительства, достойные его самого. А те, видите ли, берутся за реформы. Нельзя идти на поводу у масс. Это недостойно правительства. А если недостойны и правительства, то и их надо уничтожать...
– Как уничтожать? Вырезать ножами?
– Зачем ножами? – возмутился Ивонин. – Это было бы нерационально и... негуманно. Бактериология, радиация, химические средства.
– Не понимаю, как вы собираетесь все это делать? Кучкой солдат? И по какому принципу?
– По классовому принципу. Собрать быдло, трах-тарарах, нет их. Пример? Вот пример. Слушай. В один прекрасный день Сталин отдает приказ, приготовиться.
– Какой Сталин? Ты имеешь в виду – Стален? Стален Серый?
– Нет. Придет новый Сталин. Все должно быть как раньше. Ты знаешь, сколько у нас атомных реакторов? Пятьдесят один. Под пять закладывается взрывчатка, и бах... От взрыва-то погибнет мало, ну пара-тройка тысяч. А от радиации -миллионы...
– С каких же станций вы хотите начать?
– Первая – Чернобыльская, под Киевом. Дубна, под Москвой, два. Ленинград, Свердловск. Эти, пожалуй, легче всего подорвать. Репетицию мы провели хорошую. Одновременно взорвали московское метро и атомный реактор в Волгодонске. Про метро ты, наверное, сам знаешь. А про Волгодонск известно только посвященным и... тем, которые уже в раю. Можешь проверить.
Я слушал, не перебивая. С трудом переваривал слова, сказанные этим безумцем.
– А при чем тут эта девочка, Ким? Она-то вашему братству чем помешала?
На его лице возникла противная улыбка, та, давнишняя:
– А как же она не мешала? Ты сам посуди, Турецкий. Ты же следователь. Ей этот Дубов послал документы нашего братства. Секретные планы. Он продал нас. Получил свое. А она, сучка, обнародовать это хотела.
Я не мог слышать, как он говорил о Ким. Я закурил еще одну сигарету, вернул ему «Сэлем» и зажигалку. Он подбросил ее на широкой жлобской ладони и убрал в карман.
– А знаешь, ничего у вас не выйдет. Собираетесь уничтожить население, а сами зажигалки воруете Вы друг другу глотки перегрызете за банку черной икры.
Я думал, что он меня ударит. Но он захохотал, как тогда в буфете, – захрюкал, не открывая рта.
– А этот, напарник твой, с кем ты убивал Ким, кто он —?– солдат? Офицер? Он здесь, в Афганистане? Или в Москве?
Он прекратил хрюкать, долго смотрел на нагрудный карман моей ковбойки, как будто прицелился в самое сердце.
– Этого ты никогда не узнаешь...
– Почему не узнаю?
– А потому, Турецкий, что за тобой смерть пришла. Через пять минут явится прапорщик Цегоев и разрежет тебя на куски... И подбросит их к афганцам. Не нашим, а душманам. И объявят твоей маме, что погиб, мол, сыночек смертью храбрых... Может, посмертно звездочку отвалят. Как Дубову...
Снова меня везли куда-то, но не в грузовике, а в «газике», которым управлял Ивонин, а Цегоев – коренастый небритый мужик, – сидел, прижавшись ко мне и обдавая гнилым дыханием.
– Еще нэмножко патарпи, дарагой! – И он показал мне ряд желтых редких зубов, что, должно быть, означало улыбку,
Где-то я видел эту харю совсем недавно. И эти злые, звериные глазки. Я весь сосредоточился на воспоминаниях, как будто от этого зависела моя жизнь, мое спасение.
Я всматривался в его лицо и видел, как эти глазки, попадая в луч восходящего солнца, из темно-серых превращались в прозрачно-зеленые.
И тут я вспомнил: он был среди телохранителей Зайцева, стоял за спиной генерала, когда тот вошел в отсек-капсулу – отнять у меня Ивонина.
– Сейчас будет «Соловьиная роща», – уточнил Цегоев и, поняв, что мне эта информация ничего не говорит, добавил: – Лихое мэстэчко, прострэливается насквозь. Пули как шальные соловьи...
И как иллюстрацию я увидел обгоревший остов автобуса, завалившегося в кювет, на асфальте – бурые пятна крови. Я вглядывался в заросли садов: хоть бы душманы, черт подери, напали...
Теперь подъем с каждым метром становился все круче. Дорога, пружинистая как каучук, стала колдобистой, петляла по самому краю ущелья, прижималась к отвесным скалам. Тишина стояла в прозрачном горном воздухе. Хотелось, чтобы тишина эта оборвалась спасением. И еще я подумал: если они действительно прикончат меня, не будет наказания палачам, не будет мести за расправу над Ким. Ведь для этого я должен выполнить свою работу, исполнить профессиональный долг. Но я знал – чудес на свете не бывает и дело мое дохлое...
Цегоев и Ивонин выволокли меня из «газика» и повели. Мы шли довольно долго.
– Здесь, – сказал Ивонин.
Я прислонился спиной к стволу кипариса и запрокинул голову. Малиновый рассвет озарял верхушки деревьев. Небо было в легких облачках, как родное, московское. Кто-то дышал рядом со мной, судорожно, со всхлипами. Это я дышал. Боже мой, неужели я плачу.
– Сними с него повязку, пусть отдохнет, подышит перед смертью, – сказал Ивонин.
– Нэльзя, шуметь будет, потом снимем. А пэред смэртью нэ надышишься, – сказал Цегоев.
Он замахнулся огромным, фантастически огромным кулаком, и я догадываюсь, что в нем зажат кастет. Это смерть!
И – я делаю подсечку, как тогда на ковре Дворца тяжелой атлетики, где проводилось первенство Москвы по самбо – тогда я в первый и в последний раз стал чемпионом столицы в среднем весе, выиграл у непобедимого Родионова. Я делаю свою коронку. Это страшный удар, его терпеливо отрабатывал со мной тренер. Я бью Цегоева левой ногой по руке с кастетом, и тут же правой – в живот. Сила удара, помноженная на неожиданность, делают свое дело, и Цегоев камнем летит на землю, хватая ртом воздух. Я бросаюсь на Ивонина, с руками, вывернутыми за спину, и ртом, перетянутым клейкой лентой: ярость придает сил. Я бью его ногой. Но Ивонин проворный, недаром спецназовец. Падая, он парирует мой удар и в свою очередь наносит мне свой – под ложечку. Я сгибаюсь, но не падаю, снова бросаюсь на Ивонина. В моем натиске столько дерзкой смелости, что он отскакивает, нанося мне в скулу резкий, но не очень сильный удар. Я прицеливаюсь, я знаю: сейчас я прыгну, как тогда на ковре Дворца тяжелой атлетики, сделаю в воздухе кульбит и нанесу ему удар такой силы, что он не встанет – я перебью ему позвоночник...
И вот я готов, я взлетаю... Сзади кто-то бьет меня в спину. Я лечу куда-то. Тело мое обвисает. Огушительный удар кастетом обрушивается на меня. Это – Цегоев. Очухался, гад...
Я падаю навзничь, подкошенный. Острая боль в ушах и носу. Цегоев надо мной. Бьет меня сапогом по ребрам, по животу. Я со стоном перекатываюсь по траве, корням, колючкам. А он бьет и бьет мое скрюченное тело кованым сапогом. Я слышу всхлип – ушито у меня не зажаты клейкой лентой. Я уже не могу набрать воздуха в отбитые легкие, не могу вздохнуть.
И уже палач Цегоев рвет мою одежду на части, трещит ковбойка, сыплются пуговицы.
– Разрэжу на куски гада! – ревет Цегоев, и я вижу в его руке кинжал. Я пытаюсь увернуться, но кастет сделал свое дело – я потерял координацию. И увертки мои медленны и неуклюжи.
– Кончай его! – кричит Ивонин. – Быстро! Нам могут помешать!
– Не-ет – это мой последний всхлип.
Удар кинжалом. Я успеваю перекатиться на бок, и кинжал свистит мимо уха в миллиметре от моей кожи.
– Отойди, Цегоев! – кричит Ивонин. —Я сам!
Надо мной стоит Ивонин. В трех шагах от себя я вижу его искаженное злобой лицо – лицо психа.
—Все, отжил законник... – шипит он и целится в меня из пистолета.
Он стреляет. Один раз, второй, третий! Я слышу выстрелы, они идут один за другим – очередью...
И я проваливаюсь в мир иной, где все лучше. И в этом новом мире, я не погибаю, а побеждаю... Ивонин летит на меня, сваливается и, как-то странно дергается, кричит:
– Я-а-а! Тебя-а-а!..
И он ползет на меня. Давит, прижимает к земле, пахнущей плесенью, ползет еще дальше. Уползает в темноту. Он исчезает, а я свободен. Потому что Цегоева тоже нет. Вернее, есть, но он падает в метре от меня. Мне даже кажется, что земля вздрогнула, как при землетрясении. Руки мои по-прежнему стянуты, рот тоже, но ноги, мои ноги свободны. И я приподнимаюсь на ослабевших ногах и вижу афганцев-душманов, бегущих мне навстречу...
Я прислоняюсь спиной к кипарису. Это на том свете. И на том свете подбегает ко мне мой друг Грязнов. Ничего, что он похож на душмана – в каком-то полосатом халате и чалме. У меня кружится голова и раскалывается череп от боли. И тогда я понимаю, что не умер. На том свете голова не болит. Пелена застилает глаза, я ничего не вижу. Зашлось дыхание, щиплет глаза. Но я слышу знакомый голос Грязнова:
– Прорвемся, Шурик, не боись!
Зрение возвращается ко мне. Я вижу – это Грязнов, мой рыжий Грязнов...
– Сматываемся, братцы, потом будете обниматься, – говорит он, и мы «сматываемся», при чем идти мне очень легко, руки у меня свободны, и я могу издавать звуки, еще не совсем членораздельные; только вот голова у меня не на месте – в полном смысле этого слова, – она болтается где-то в воздухе на уровне чьих-то рук с тонкими, почти изящными пальцами, вытирающими носовым платком окровавленный нож. Потом я вижу, как эти руки засовывают нож за голенище офицерского сапога. Я не могу вспомнить фамилию, но я знаю, что это тот самый офицер-узбек из военной прокуратуры. И тогда до меня доходит, что я не иду, а меня несет Бунин, перекинув мое тело через плечо. Я бурно протестую, но он крепко держит своими ручищами меня за ноги и не обращает внимания на мое мычание.
Я с трудом поворачиваю голову из стороны в сторону. Наш маленький отряд двигается по узкой тропинке сквозь чащу и выходит к кишлаку. Тяжелым дыханием вздымается бунинская спина.
– Иван Алексеевич, отпустите Сашку, пусть попробует сам, – слышу я чей-то очень знакомый голос, и, когда Бунин осторожно ставит меня на ноги, я вижу, что это Женя Жуков в такой же афганской чалме, как и Грязнов. Я бодро шагаю вместе со всеми, но замечаю, что наша группа сбавила шаг. Боли я не чувствую, но к горлу подкатывается тошнота и дома прыгают перед глазами. Кругом квадратные глухие дувалы с узкими бойницами, напоминающими декорации спектакля об Афганистане. Кажется, кишлак вымер. Кто-то быстро говорит на незнакомом языке – сопровождают два «всамделишных» афганца с автоматами.
– Что он сказал? – спрашивает Грязнов. – Кишлак вырезан, и кто это сделал – не установлено, – переводит Жуков.
Около дороги валяется труп молодого афганца. Я содрогаюсь: и я мог вот так лежать, устремив неподвижный взгляд в палево – голубое небо.
Еще несколько шагов, сверкнули за поворотом вершины заснеженных гор, и глазам открылась выжженая солнцем долина, по которой разбросаны какие-то древние жилища. Возле ручья стоял вертолет МИ-24.
А тишина была такая осязаемая, хоть бери ее в руки и неси.
– Привал. Приходим в себя и вылетаем. А то у Сашки шок. Главное – не давать ему спать. Будоражить надо. Слышь, Сашок – пой, ори, матерись, только не спи!
Я тупо слушал Грязнова, потом так же тупо смотрел на Бунина: он корчил рожи, пытаясь рассмешить. Рассматривал чернобородых афганцев, перешептывавшихся с Жуковым, но мой мозг – всемогущий хозяин тела – словно атрофировался, он лишь фиксировал, а не анализировал окружающую обстановку. Мне не хотелось петь, орать, материться. Больше всего на свете мне хотелось спать...
– Э-эх, глупо получилось, пацаны! Надо было брать их живьем. Начали мы операцию нормально, а завершить не смогли, – возмущается Грязнов.
– Иди ты знаешь куда? Если бы я не прошил этого Цегоева, он бы прирезал Шурку! – сипит Бунин (голос у него пропал начисто) и сморкается в грязный платок.
– Видит Аллах, я тоже не мог поступить иначе!
Ивонин убил моего брата! Я в ответе, товарищи.
Пойду под трибунал.
– Никакого трибунала. Никто никогда не узнает, что здесь произошло. Переведи, Женя этим...
Афганцы слушают Жукова и делают какие-то странные движения руками, то ли молятся, то ли еще что...
– Порядок, – говорит Жуков.
Грязнов объясняет, обращаясь только ко мне:
– В час дня из Кабула вылетает спецрейсом самолет. Прокурор армии отправляет группу контрабандистов. Мы летим этим рейсом, я договорился. Нам нужно отвалить, иначе кранты! А сейчас на вертолете летим за вещичками нашего друга Жукова – ему тоже незачем тут оставаться... Переводить это, Женя, не обязательно.
– Эй, друг, у тебя есть пластиковый мешочек, а то нашему парню плохо?—спрашивает Грязнов вертолетчика.
Тот кивает и протягивает мне мешочек.
Я обжигался горячим чаем, зубы выбивали дробь о края фарфоровой чашки. Мне было очень страшно, мне хотелось плакать от страха, я сдерживал слезы, но они все равно периодически выкатывались из глаз и капали в черный кипяток—кап-кап...
– Ничего, Сашок, сейчас вся заморочка кончится. Ребята проспятся, мы сходим с тобой к доктору – и прощай Ховнистан. Ну вот, ты уже и улыбаешься.
Жуков заглядывает мне в лицо своими синими-пресиними глазами. По-моему, он нисколько не изменился за два года, что я его не видел, только загорел до черноты. И в русых волосах белая полоска—выгорели от афганского солнца.
– А ты не хочешь чаю?
– Чаю... – Жуков смотрит на часы. – А ты думаешь, для водки еще рано?
– А у тебя есть?
– Спиртяга. Меня знакомая врачиха снабжает. Будешь?
– Давай, Женя. А то я что-то расклеился.
– Ну, ты даешь, Сашок! Расклеился! Можно сказать, одной ногой ты уже тю-тю – на тот свет собрался!
Мы пьем чистый спирт и закусываем каким-то невиданным мною плодом с лохматой кожурой. И я сразу начинаю чувствовать боль во всем теле: ломит спину, тянет под диафрагмой, гудит голова. И очень хочется спать...
—Э, нет, Сашок. Спать тебе нельзя. Давай о чем-нибудь говорить.
Я стараюсь изо всех сил поднять тяжелые веки и вспомнить – о чем это я хотел поговорить с Жуковым? Ведь что-то очень важное было, что я хотел у него спросить.
– Славка мне говорил, что у вас там заморочка с Фаустом вышла. Тут вот какая ситуация...
Ну да, конечно, Фауст!
– ...У меня одна дама сердца имеется, врач в Большом госпитале. Она мне рассказала, что у них есть секретное отделение, где держат наших больных солдат с галлюциногенными расстройствами. Представляешь себе, что это значит?
– Немножко.
– Вот и я тоже. И что эти расстройства – следствия инъекций препарата под названием (Жуков достал из кармана бумажку) фенол-алкалоид-ультра-стабилизирующий. Усекаешь? Нет? Повторяю фенол – это Ф, алкалоид—А, ультра—У, стабилизирующий Ст. ФАУСт. Я не уверен, что это его официальное сокращение, действие его вроде бы схоже с действием эликсира молодости доктора Фауста из одноименного произведения Гете. Все эти эксперименты держатся в строжайшей тайне. Мы со Славкой придумали план проникновения в это секретное отделение, туда днем идти нельзя, врачи приходят в восемь утра. Ночью дежурит врач. Охрана, конечно, будь здоров. Но их надо обмануть.
– Женя, я что-то туго соображаю. Может быть, можно мне самому поговорить с этой... дамой сердца?
Жуков посмотрел на часы:
– Через полчаса она придет в госпиталь. Коли ты за это время выучишь фарси, то вполне сможешь с ней объясниться...
– Она что... афганка?
–Ну.
Действительно «заморочка».
– Мне с тобой все равно в госпиталь идти, пусть она твою черепушку проверит. И хребет. Остальное чепуха... Да, крепенько он тебя приложил... – Жуков снял с меня полосатый халат и осмотрел мое тело. – ...Живого места нет.
– Черт с ними, с синяками, – сказался Жукову, а вслух подумал: – Не умер все-таки! Женя, я не могу лететь с вами в Москву.
– У тебя, видно, с головой не совсем в порядке. Это мы с тобой летим, а не ты с нами. Тебя надо срочно отсюда эвакуировать.
– Я не окончил намеченное в Афганистане расследование, у меня по плану было – найти однополчан Дубова и выяснить причину его гибели. У меня есть фамилии —Смирнов, Халилов. Я не могу уехать, не поговорив с ними. Через них я смогу выйти на второго убийцу Ким. Ведь он существует, Женя! И он для меня даже важнее. Ведь именно его знала Ким, она ему открыла дверь. Ивонин не врал – он ее видел впервые в день убийства.
– Очень впечатляюще. Но если ты не вылетишь отсюда немедленно, тебя вряд ли что-либо спасет от молодчиков генерала Серого. Что же касается Смирнова и Халилова, то мы со Славкой раскопали списки ивонинского взвода: со времени гибели Дубова трое откомандированы на курсы, семь погибло... Уточняю: на сегодняшнее число – девять... Остальные – госпитализированы.
– Ранены?
– Вот тут заморочка. Все наши раненые поступают в Большой госпиталь, дольше чем на сутки в полевых не задерживаются. Но в списках раненых ни один из взвода Ивонина не числится. Анаит подозревает, что они в секретном отделении.
– Кто такой Анаит?
– Это она. Моя... знакомая.
Жуков вытащил из кармана джинсовой безрукавки сложенный вчетверо лист и протянул мне. На бланке Главного медицинского управления Министерства обороны СССР текст:
«Начальнику Центрального госпиталя города
Кабул (Афганистан)
генерал-майору мед.службы
товарищу Валояту Хабиби
Уважаемый товарищ Хабиби!
Для изучения культуры вирусного штамма меробиуса направляются микробиологи Главного медицинского управления Министерства обороны СССР майор медицинской службы тов. Клочков Виктор Петрович и главный психиатр ташкентского отделения Центрального института усовершенствования врачей кандидат медицинских наук тов. Осипов Борис Ильич.
Предлагаю Вам обеспечить указанных товарищей необходимым материалом (история болезней лиц, находящихся на излечении в отделении АБ Вашего госпиталя), а также контакт с больными по представленному списку. Поскольку действие вируса меробиус, переносчиком которого является азиатский комар мерби, оказалось молекулярно-активным в значительно более высокой степени, чем мы предполагали, просим оказать товарищам Клочкову и Осипову всяческое содействие незамедлительно.
Начальник Главного медицинского управления Министерства обороны СССР генерал-полковник медицинской службы...»
– Кто это такие – товарищи Клочков и Осипов? – спросил я Жукова, напряженно вчитываясь в строчки и стараясь понять их смысл.
– Я думаю, что микробиолог – это ты, а психиатр —я... Не напрягайся, Саш, кроме подлинных фамилий генералов, все остальное псевдонаучный вздор, который мы вчера со Славкой изобрели. Боюсь, что времени у нас уже нет. До прихода врачей осталось два часа. Мы же не знали, что с тобой такая заморочка получится, надо было идти ночью...
– Женя, мы сейчас же поедем в госпиталь, понимаешь, сейчас же... Только как же я в таком виде?..
Жуков пристально посмотрел на меня и хлопнул ладонью по столу:
– Ладно.
Он ушел в другую комнату, откуда доносилась разноголосица храпа Грязнова и Бунина, и вернулся в одной руке с костюмом на вешалке, в другой – со свертком.
– Поскольку моей Анаит удалось спереть только одну форму военврача из каптёрки, мне приходится оставаться штатским.
– Подожди, Женя. Ну какой из меня микробиолог, я ни одного термина даже не знаю, да еще синяк под глазом...
– Синяк сейчас загримируем. Насчет терминологии я тоже не силен. Ты просто должен издавать звуки как микробиолог. Сегодня ночью дежурит врач-диетолог Клопова, она же жена главного хирурга. В микробиологии она понимает столько же, сколько и ты. А в психиатрии – меньше, чем я.
– Слушай, а комар этот, как его?– меробил – он действительно существует?
– Весьма возможно, – невозмутимо ответил Жуков, натягивая голубую рубашку. – Кстати, еду с одним условием: сначала пусть Анаит проверит твою башку и хребет. Она специально приедет в полседьмого.
– Женя, сейчас не до этого.
– Ну, тогда я снимаю новые штаны...
– Хорошо. Десять минут – согласен.
– Давай натягивай форму, я вывожу из гаража мотоцикл.
Мне очень хочется выглядеть мужественным перед этой потрясающе красивой женщиной, и я делаю громадные усилия, чтобы не морщиться от легких прикосновений ее пальцев к моим ушибам и царапинам. Но мой стоицизм нисколько не трогает Анаит: она смотрит на Женю Жукова через мое плечо, вернее, они смотрят друг на друга, причем так, как будто в кабинете, кроме них, никого нет. Глаза у нее такие голубые, что мне просто непонятно, как это могут быть такими голубыми глаза у женщины по имени Анаит Седдык.
Она что-то сказала Жукову, тот перевел:
– Тебе надо сделать рентген. Два ушиба головы и удар по позвоночнику, это плохо. И она просит тебя не притворяться, потому что ты путаешь клиническую картину.
Анаит засмеялась, и я кое-что заподозрил.
– Вы знаете русский?
–Да, конечно. Я закончила Первый медицинский институт в Москве. Только акцент у меня ужасный. Я показал Жукову кулак.
– ...И я не всегда ищу правильные слова.
– Может быть, можно без рентгена?
– Нет. Нельзя.
Ого. Характер.
– Это скоро. Десять минут. Или надо сказать «быстро»?
– Вы хирург? – зачем-то поинтересовался я.,
– Нейрохирург. Я проходила практику в институте Бурденко.
При этих словах они с Жуковым так смотрят друг на друга, что я догадываюсь: они там и познакомились, у Бурденко. Жуков месяца три провел в этом институте по какому-то делу, которое он вел года два с половиной назад. И еще я догадываюсь, что главной причиной Женькиного бегства в Афганистан было вовсе не знание фарси.
– Надо подождать две или три минуты, – сказала Анаит, сделав штук десять снимков на различных рентгеновских аппаратах, и провела меня в маленькую комнатушку.
Где-то пели под гитару. Я подумал: «Не спится ребятам»,– и приоткрыл дверь, прислушался. Какой-то знакомый мотив, но слова я слышал впервые:
Рассеял ветер над Кабулом серый дым.
Девчонка та идет по улице с другим,
Девчонка та, что обещала: «Подожду».
Растаял снег – исчезло имя на снегу...
Рыдает мать, и словно тень стоит отец,
Как много их, невозвратившихся сердец,
Как много их, не сделав в жизни первый шаг,
Пришли домой в суровых цинковых гробах...
– Можно одеться, – услышал я голос Анаит. – Что-нибудь случилось?
– Н-нет... Можно мне посмотреть, кто это поет?
– Вам понравилось? Они очень хорошо поют.
Больше грустные песни.
Анаит открыла дверь в палату: на кроватях сидели молоденькие ребятишки, как и полагается раненым – у кого голова, у кого рука перевязана.
– Привет! – сказал я им, по-моему, чересчур громко.
Анаит посмотрела на меня с удивлением. Не мог же я ей объяснить, что мне надо было обязательно посмотреть на этих ребят, мне показалось – поют мертвецы.
* * *
– Сотрясения мозга нет, позвоночник не поврежден, трещин на черепных костях нет...
Анаит водит указкой по бело-серым пятнам на освещенном экране.
– Но надо избежать... избегать стресс, шок, полгода, даже год, поскольку внутричерепные гематомы».
Я не очень внимательно вслушиваюсь в то, что она говорит, и откровенно поглядываю на часы. Одно понятно: я должен обеспечить себе безмятежную жизнь по крайней мере на ближайшие шесть месяцев. Вот это-то я как раз не могу обещать.
Дежурный врач Клопова взмахивает полными ручками и томно говорил
– Ну, расскажите же, как там в Москве? Ведь здесь такая провинциальность, такая провинциальность...
У меня есть подозрение, что мадам Клопова в Москве бывала только проездом, но я сочувственно киваю головой и говорю твердо.
– Товарищ Клопова, мы очень ограничены временем, поскольку активизация меробиуса принимает угрожающие размеры. Мы с большим удовольствием предадимся воспоминаниям по окончании нашей работы.
– Да, да, товарищи, конечно. Идите.
– Мы просим товарища Седдык нас сопровождать, – добавил Жуков, – нам понадобится ее помощь не только как врача, но и переводчика.
– Понимаю, понимаю!
Что она понимает, трудно сказать. Мадам Клопова на наше счастье глупа как пробка.
Дежурный прапорщик отдает мне честь и стоит навытяжку как перед старшим по званию. Я умышленно держу белый халат в руке, чтобы дежурному были видны мои майорские погоны. Он внимательно изучает «письмо из Министерства». Я со страхом ожидаю, что он попросит предъявить документы. Но прапорщик неожиданно разливается широкой улыбкой к Жукову.
– Так вы мой земляк! Я с Госпитальной. А где вы живете, товарищ Осипов!
У меня остановилось дыхание. Но только на секунду, потому что Жуков весело хлопает прапорщика по плечу:
– В самом центре! На улице Двенадцати Тополей.
– Так это ж рядом со мной. Вот три года сижу в этом Ховнистане, да что же я вас, земляки, задерживаю. Идемте, я вам все покажу. Только вот документы-то хранятся в сейфе товарища Хабиби, вам придется его подождать. Но он скоро придет...
– А где кабинет товарища Хабиби?
– На первом этаже. А сейф с историями болезней вот за этой дверью, – радостно сообщает прапорщик.
«Слишком хорошо, чтобы быть правдой», – говорят англичане в таких случаях. Воистину сильна сила землячества вдали от родных мест.
На двери табличка: «Отделение АБ». Солдат в афганской военной форме лениво открывает дверь по знаку прапорщика. Длинный коридор. У окна столик. За ним – молоденькая медсестра. Прапорщик обращается к ней начальственным тоном —демонстрирует перед земляками власть:
– Оля, дай списки больных товарищей.
– Все?! – испуганно спрашивает Оля.
– А их много? – осведомляюсь я.
– Около двухсот... Ничего себе...
– Да, конечно, все.
Мы с Жуковым просматриваем списки. Я вижу сразу: Смирнов. На следующей странице—еще один Смирнов. И еще один. Совершенно не к месту вспоминаю детский стишок: «Много на свете Смирновых, чуть меньше, чем Ивановых»...
– Начнем с палаты номер четыре, – говорит Жуков, – все товарищи могут быть свободны, за исключением доктора... простите, забыл вашу фамилию...
– Седдык, – еле слышно отвечает Анаит.
В четвертой палате двое. На спинках кроватей таблички с фамилиями и кратким анамнезом на латыни. Но я и без таблички знаю, что один из них Халилов. Он делает летающие движения руками, потом, увидев нас, смеется и залезает с головой под одеяло. Анаит снимает таблички.
– У обоих тяжелая форма. Ускользающее сознание. Амнезия.
– Вы можете его вернуть в реальность каким-либо способом?
– Это очень опасно. Я могу сделать инъекцию, это, как вы сказали, вернет его в реальность, но не больше, чем на пять минут.
– Я прошу вас, Анаит.
Анаит резким движением отбрасывает одеяло и берет вялую руку Халилова. Парень никак не реагирует на укол. Но лицо его постепенно приобретает выражение – он испуган.
– Здравствуй, Булат. Я врач. Я хочу тебе помочь. И всем вам. Ты мне должен рассказать, что произошло с Дубовым, Алексеем Дубовым. Ты помнишь его?
– Алеша, Алеша. Я помню, помню. Он умер, умер.
Булат Халилов плачет, тоненько, с завываниями. Жуков как тень неслышно уходит из палаты, прихватив с собой списки солдат.
– Отчего он умер, Булат?
– От ножика умер.
– Кто его зарезал этим ножиком?
– Командир.
– Как его фамилия?
– Лейтенант Ивонин его фамилия.
– Почему лейтенант это сделал, Булат?
– Алеша очень ругался. Очень сердитый был на командира.
– Почему он сердился?
Халилов опять начинает тоненько выть.
– Почему Алеша ругался с командиром, Булат?
– Алеша не хотел делать укол. Алеша не хотел, чтобы они нам делали укол.
– Кто вам делал уколы?
– Не знаю, как зовут. Плохой доктор. Говорил «смелый будешь».
– Русский доктор или афганский?
– Русский доктор, плохой.
– Кто еще видел, Булат, как командир убил Алешу?
– Сержант видел. Никто не знает, что он видел.
– Как фамилия сержанта?
– Морозов фамилия. Он письмо писал в Москву. У Алеши девочка был. Хорошенький такой девочка. Морозов ему письмо написал. Большой драка был. Никто не видел. Я видел. Морозов видел. Сержант Морозов сказал: «Говорить не будем, Булат. Убьют нас».
Халилов замолкает на мгновение и вдруг начинает петь по-татарски.
– Булат, подожди, не пой. Еще с вами был Смирнов. Рядовой Смирнов.
Выражение испуга исчезло с лица Халилова. Он опять машет руками, как будто собирается взлететь.
– Это все, Саша, – говорит Анаит.
В руке у меня фоторобот второго убийцы, грязновская копия – моя осталась вместе с портфелем у генерала Серого. Я не успел показать фоторобот Халилову. Теперь мне нужны Смирновы.
В палате номер два – Виталий Смирнов. На мое счастье (и на счастье остальных Смирновых в госпитале), именно он оказывается Смирновым из роты Ивонина. Но он ничего не знает об обстоятельствах смерти Алексея Дубова. То есть знает, но официальную версию. Нет, он никогда не видел человека, похожего на изображение на фотороботе. Кто делал уколы? Доктор Зинаида Павлова. Анаит подсказывает тихонько – врач Головко. Знает ли он, зачем делали уколы? Да, чтобы ничего не бояться.
Я чувствую, что больше не могу находиться в отделении АБ, сердце разрывается от жалости к этим ребятам. Мы покидает отделение. Я захожу подряд во все палаты, где находятся «обыкновенные» раненые – показываю фоторобот. Нет, никто никогда не видел этого парня...
– Саша, Анаит, сматываемся! – слышу я громкий шепот Жукова. – Хабиби пришел!
– Что такое «сматываемся»? – с тревогой спрашивает Анаит.
Жуков быстро говорит что-то на фарси, обнимает Анаит. Мы идем по длинному коридору в сторону, противоположную выходу. Жуков все время оборачивается. Мы доходим до лестницы, ведущей вниз. Жуков останавливается и несколько секунд недвижимо смотрит назад, где в конце коридора виднеется тоненькая фигурка доктора Анаит Седдык.
– Подведем мы ее под монастырь, Женя.
– Не. Версии разработаны. Она справится. Давай, спускайся в подвал, там есть выход на боковую улицу.
С трудом тяну на себя тяжелую стальную дверь. Жуков плотно прикрывает ее за собой и... матерится страшно. До меня не сразу доходит, что мы открыли не ту дверь. Это не подвал, это бойлерная. Мы не можем без ключа открыть дверь изнутри. Мы в ловушке.
Кругом нас все свистит и шипит в полной темноте. Единственное, что я знаю о бойлерах, – сведения, вынесенные из лекции по противовоздушной обороне, – бойлеры имеют тенденцию взрываться.
– У тебя есть зажигалка? – спрашивает Жуков. – Я свою в джинсах оставил.
Я нахожу зажигалку, и мы медленно обходим душное и сырое помещение. Жара, наверное, градусов пятьдесят.
– Должен же быть здесь вентиляционный люк, черт возьми! – орет Жуков.