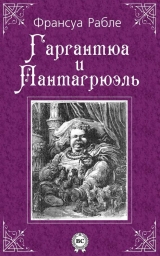
Текст книги "Гаргантюа и Пантагрюэль"
Автор книги: Франсуа Рабле
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 62 страниц)
О том, как Пантагрюэль прибыл на остров Звонкий[873]873
Остров Звонкий. – Название прозрачно ассоциируется с колокольным звоном. Аллегория Рима.
[Закрыть], а равно и о том, какой мы там услышали шум
Ни в тот день, ни на другой, ни на третий мы не видели суши и не обнаружили ничего нового, ибо это побережье было нам уже знакомо. На четвертый день, начав огибать полюс и удаляться от экватора, мы наконец завидели сушу; лоцман же нам сказал, что это остров Трифы[874]874
Трифа – наслаждение (гр.).
[Закрыть], и тут мы услыхали долетавший издали частый и беспорядочный звон, в котором мы различили большие, маленькие и средние колокола и который напомнил нам трезвон, какой бывает по большим праздникам в Париже, Туре, Жаржо, Медоне и других местах. По мере нашего приближения звон все усиливался.
Мы было подумали, что это додонские бубенцы, или же олимпийский портик Гептафон, или же постоянный звон, исходящий от колосса, воздвигнутого над гробницей Мемнона в египетских Фивах, или же, наконец, тот шум и гам, что раздавались в былые времена вокруг некоей усыпальницы на одном из Эолийских островов, а именно Липаре, но все это, однако ж, не подтверждалось местоположением.
– Сдается мне, – сказал Пантагрюэль, – что оттуда поднялся было пчелиный рой, и вот, дабы водворить его на прежнее место, все и начали бить в сковороды, в котлы, в тазы и в корибантские кимвалы Кибелы, праматери всех богов. Ну что ж, послушаем!
Подойдя еще ближе, мы установили, что к неумолчному звону колоколов примешивалось беспрерывное пение людей – по-видимому, местных жителей. Вот почему Пантагрюэль, прежде чем пристать к острову Звонкому, порешил подплыть в челне к невысокой скале и у ее подошвы высадиться, ибо неподалеку от нее виднелась хижина с садиком.
Нас встретил низенький простоватый отшельник по имени Гульфикус, уроженец Глатиньи; он дал нам исчерпывающие объяснения касательно трезвона и весьма странно нас угостил. Он велел нам четыре дня подряд поститься, иначе, мол, нас не пустят на остров Звонкий, а там сейчас начался пост четырех времен года.
– Не понимаю, что это значит, – заговорил Панург, – скорей уж это время четырех ветров: ведь этот пост одним только ветром нас и начинит. Нет, правда, неужто вы, кроме поста, иного времяпрепровождения не знаете? Приятного мало, я вам доложу. Нам эти придворные церемонии, собственно, ни к чему.
– Мой Донат различает только три времени: прошедшее, настоящее и будущее, – заметил брат Жан, – а четвертое время – это уж у них так, сбоку припека.
– Это аорист[875]875
Аорист – в греческом, древнерусском и некоторых других языках – время, обозначающее действие, законченное в прошлом.
[Закрыть], превратившийся из прошедшего весьма совершенного греков и латинян в наше мутное и смутное время, – пояснил Эпистемон. – Ну что ж, слепой сказал: «Посмотрим».
– Время роковое, вот что я вам скажу, – объявил отшельник, – а кто пойдет мне наперекор, того еретика прямо на костер.
– Ну еще бы, отче! – подхватил Панург. – Вот только когда я на море, я гораздо больше боюсь промокнуть, нежели перегреться, и потонуть, нежели сгореть. Ладно уж, попостимся для Бога, но ведь я так долго постился, что посты подорвали мою плоть, и я очень опасаюсь, что бастионы моего тела в конце концов рухнут. А еще я боюсь прогневать вас во время поста: я ведь в этом ничего не смыслю, и у меня это не особенно ловко получается, – так по крайности мне говорили многие, и я не имею основания им не верить. Меня же лично пост не смущает – что может быть проще и сподручнее? Меня больше смущает, как бы нам не пришлось поститься и впредь, а про черный день непременно нужно иметь какой-нибудь запас. Ну да уж попостимся для Бога, коль скоро мы попали в самые голодные праздники, – я их не праздновал с давних пор.
– Если уж не поститься нельзя, то лучше возможно скорее от этого отделаться, как от плохой дороги, – молвил Пантагрюэль. – Вот только я бы хотел просмотреть сперва свои бумаги и удостовериться, не хуже ли морская наука сухопутной: недаром Платон, описывая человека глупого, несовершенного и невежественного, сравнивает его с человеком, выросшим на корабле, а мы бы сравнили его с человеком, выросшим в бочке и глядевшим только в дыру.
Пост наш оказался страшным и ужасным: в первый день мы постились через пень-колоду; во второй – спустя рукава; в третий – во всю мочь; в четвертый – почем зря. Таково было веление фей.
Глава IIО том, как ситицины, населявшие остров Звонкий, превратились впоследствии в птиц
Когда наш пост окончился, отшельник дал нам письмо к некоему мэтру Эдитусу[876]876
Эдитус – сторож при храме, пономарь (лат.)
[Закрыть], жителю острова Звонкого; Панург, однако ж, переименовал его в Антитуса. Это был славный старичок, лысый, румяный, багроволицый; благодаря рекомендации отшельника, который уведомил его, что мы постились, как о том было сказано выше, он встретил нас с распростертыми объятиями. Досыта накормив, он ознакомил нас со всеми особенностями этого острова и сообщил, что прежде остров был населен ситицинами[877]877
Ситицины – музыканты на похоронах. Упоминаются у Авла Геллия
[Закрыть], которые впоследствии по велению природы (ведь все же на свете меняется) превратились в птиц.
Тут только я вполне уразумел, что Аттей Капитон, Поллукс, Марцелл, А. Геллий, Афиней, Свида, Аммоний и другие писали о ситицинах и сициннистах, и теперь нам уже не показалось маловероятным превращение в птиц Никтимены, Прокны, Итиса, Альционы, Антигоны, Терея и других. Равным образом мы уже почти перестали сомневаться в том, как могли Матабрюнины дети превратиться в лебедят, а фракийские палленцы, девять раз искупавшиеся в Тритоновом болоте, – внезапно превратиться в птиц.
Затем старичок ни о чем другом уже с нами не говорил, кроме как о клетках да о птицах. Клетки были большие, дорогие, великолепные, сработанные на диво. Птицы были большие, красивые, приятные в обращении, живо напоминавшие моих соотечественников; пили и ели они, как люди, испражнялись, как люди, спали и совокуплялись, как люди; словом, с первого взгляда можно было подумать, что это люди; и все же, как пояснил нам мэтр Эдитус, это были не люди и, по его словам, не принадлежали ни к мирянам, ни к белому духовенству. Оперение их также заставило нас призадуматься: у одних оно было сплошь белое, у других – сплошь черное, у третьих – сплошь серое, у четвертых – наполовину белое, наполовину черное, у пятых – сплошь красное, у шестых – белое с голубым, так что любо-дорого было на них смотреть. Самцов старичок называл так: клирцы, инокцы, священцы, аббатцы, епископцы, кардинцы и, единственный в своем роде, папец. Самки назывались: клирицы, инокицы, священницы, аббатицы, епископицы, кардиницы и папицы. Далее старичок сообщил нам, что, подобно тому как к пчелам забираются трутни, которые ровным счетом ничего не делают и только все поедают и портят, так же точно и к этим веселым птицам вот уже триста лет каждую пятую луну неизвестно отчего налетает видимо-невидимо ханжецов, опозоривших и загадивших весь остров, до того безобразных и отталкивающих, что все от них – как от чумы: шея у них свернута, лапы – мохнатые, когти и живот, как у гарпий, зад, как у стимфалид[878]878
Стимфалиды – в греческой мифологии хищные птицы, пожиравшие людей; с ними расправился Геракл.
[Закрыть], истребить же их невозможно: одну убьешь – сей же час налетит еще двадцать четыре. Я невольно пожалел, что среди нас нет второго Геркулеса. А брат Жан с таким жадным вниманием все обозревал, что под конец совсем обалдел.
Отчего на острове Звонком всего лишь один папец
Мы спросили у мэтра Эдитуса, отчего, несмотря на то что все разновидности почтенных этих птиц представлены здесь в изобилии, папец всего лишь один. На это он нам ответил, что таково было извечное установление и фатальное предопределение небесных светил: от клирцов рождаются священцы и инокцы, однако ж, как это бывает у пчел, без плотского соития. От священцов рождаются епископцы, от епископцов – пригожие кардинцы; иной кардинец, если только дни его не прервет смерть, может превратиться в папца, папец же обыкновенно бывает только один, подобно тому как в пчелиных ульях бывает только одна матка, а в мире есть только одно солнце.
Как скоро папец преставится, на его место рождается кто-нибудь другой, из породы кардинцов, но только, разумеется, без плотского совокупления. Таким образом, у этой породы бывает только одна-единственная особь с непрерывною преемственностью – точь-в-точь как у аравийского феникса. Впрочем, около двух тысяч семисот шестидесяти лун тому назад природа произвела на свет двух папцов одновременно, но то было величайшее из всех бедствий[879]879
…величайшее из всех бедствий… – Имеется в виду Великая схизма, церковный раскол 1378—1414 гг.
[Закрыть], когда-либо остров сей посещавших.
– Птицы в те поры принялись друг друга грабить, и все они передрались, – повествовал Эдитус, – так что острову грозила опасность остаться совсем без обитателей. Часть птиц примкнула к одному из папцов и оказала ему поддержку; другая – к другому и стала на его защиту; часть птиц молчала, как рыбы, они уже больше не пели, и колокола их, точно на них был наложен запрет, ни разу не зазвонили. В это смутное время на помощь к ним являлись императоры, короли, герцоги, маркизы, графы, бароны, а также представители всех общин мира, какие только существуют на материке, и ереси этой и расколу пришел конец не прежде, чем один из папцов приказал долго жить и множественность вновь свелась к единству.
Затем мы задали старцу вопрос, что побуждает этих птиц петь без умолку. Эдитус нам ответил, что причиной тому колокола, висящие над клетками.
– Хотите, я сейчас заставлю петь вот этих инокцов, у которых капюшоны – что мешочки для фильтрования красного вина или же хохолки у лесных жаворонков? – предложил он.
– Пожалуйста, – сказали мы.
Тут он ударил в колокол всего только шесть раз, и инокцы в тот же миг слетелись и запели.
– А если я зазвоню в другой колокол, вон те птички, у которых оперение цвета копченых сельдей[880]880
…птички, у которых оперение цвета копченых сельдей… – монахи-францисканцы.
[Закрыть], тоже запоют? – полюбопытствовал Панург.
– Тоже, – отвечал старик.
Панург позвонил, и прокопченные птицы мгновенно слетелись и хором запели, но только голоса у них были хриплые и неприятные. Эдитус нам пояснил, что они питаются одною рыбой, словно цапли или же бакланы, и что это пятая разновидность новоиспеченных ханжецов. К сказанному он еще прибавил, что по имеющимся у него сведениям, полученным от Робера Вальбренга[881]881
Робер Вальбренг – скорее всего некий Роберваль, сопровождавший известного путешественника Жака Картье в его путешествиях в Канаду (1541—1542) и ставший там генерал-лейтенантом.
[Закрыть], который был здесь проездом из Африки, сюда должна прилететь еще и шестая разновидность – так называемые капуцинцы, самые унылые, самые тощие и самые несносные из всех разновидностей, какие только на острове этом представлены.
– Это в обычаях Африки – производить на свет все новых и новых чудищ, – заметил Пантагрюэль.
Глава IVОтчего птицы острова Звонкого – перелетные
– Вы нам объяснили, как от кардинцов рождается папец, кардинцы – от епископцов, епископцы – от священцов, священцы – от клирцов, – сказал Пантагрюэль, – а теперь я желал бы знать, откуда у вас берутся клирцы.
– Все они – птицы перелетные, и прибывают они к нам из дальних стран, – отвечал Эдитус, – одни – из чрезвычайно обширной страны под названием Голодный день, другие же – из страны западной под названием Насслишкоммного. Оттуда клирцы ежегодно слетаются к нам целыми стаями, покидая отцов, матерей, друзей и родичей своих. Вот каков там обычай: когда в стране Насслишкоммного в каком-нибудь знатном доме народится слишком много детей, все равно – мужеского или женского пола, то если бы каждый из них получил свою долю наследства, как того хочет разум, требует природа и велит Господь Бог, дом был бы разорен. Потому-то родители и сбывают их с рук на наш остров, даже если они обитатели острова Боссара.
– Уж верно, вы разумеете Бушар, что близ Шинона, – заметил Панург.
– Нет, Боссар, от слова боссю, то есть горбатый, — возразил Эдитус, – дети-то ведь у них почти что все горбатые, кривые, хромые, однорукие, подагрики, уроды и калеки, даром бременящие землю.
– Этот обычай, – молвил Пантагрюэль, – прямо противоположен соблюдавшимся в былое время правилам посвящения девушек в весталки, каковые правила, по свидетельству Лабеона Антистия[882]882
Лабеон Антистий — римский юрист I в.
[Закрыть], воспрещали возводить в этот сан девушку с каким-либо душевным пороком, каким-либо изъяном в органах чувств или же каким-нибудь физическим недостатком, хотя бы даже крошечным и незаметным.
– Я поражаюсь, – продолжал Эдитус, – как это тамошние матери еще носят их девять месяцев во чреве: ведь в своем доме они не способны выносить их и терпеть дольше девяти, а чаще всего и семи лет, – они накидывают им поверх детского платья какую ни на есть рубашонку, срезают с их макушек, творя при этом заклинания и умилостивительные молитвы, сколько-то там волосков, точь-в-точь как египтяне, которым, для того чтобы посвятить кого-нибудь в жрецы Изиды, также требовались льняная одежда и бритва, и открыто, явно, всенародно, путем пифагорейского метемпсихоза, не нанося им ни ран, ни повреждений, превращают их вот в этаких птиц. Одно только, друзья мои, мне неясно и непонятно: отчего это самки, будь то священницы, инокицы или же аббатицы, вместо приятных для слуха благодарственных песнопений, которые, как установил Зороастр, полагается петь в честь Ормузда, распевают богомерзкие мрачные гимны, подобающие демону Ариману. И все они – и старые и молодые – беспрестанно осыпают проклятиями родичей своих и друзей, которые превратили их в птиц.
Больше всего их летит к нам из страны Голодный день, коей нет конца-краю: когда населяющим сей остров асафиям[883]883
Асафии – собравшиеся вместе (др. – евр.).
[Закрыть] грозит такое не слишком приятное удовольствие, как голодовка, то ли от нехватки пищи, то ли от неумения и нежелания хоть что-нибудь делать, заниматься каким-либо благородным искусством или почтенным ремеслом, верой и правдой служить честным людям; когда им не везет в любви; когда они, потерпев неудачу в своих предприятиях, впадают в отчаяние; когда они, совершив какое-нибудь гнусное преступление, скрываются от позорной казни, то все они слетаются сюда на готовенькое: прилетят тощие, как сороки, – глядь, уж разжирели, как сурки. Здесь они в полной безопасности, неприкосновенности и на полной свободе.
– А что, эти милые птички, прилетев сюда, возвращаются потом в тот край, где они были высижены? – осведомился Пантагрюэль.
– Лишь немногие, – отвечал Эдитус. – Прежде – совсем мало, долгое время спустя и неохотно. А вот после некоторых затмений, под влиянием небесных светил, снялась сразу целая стая. Мы, однако ж, на то не в обиде, – слава Богу, на наш век хватит. И перед тем как улететь, все они побросали свое оперение в крапиву и в терновник.
И точно, мы наткнулись на остатки этого оперения, а кроме того, случайно обнаружили раскрытую баночку из-под румян.
Глава VО том, что на острове Звонком прожорливые птицы никогда не поют
Не успел он договорить, как возле нас опустилось двадцать пять, а то и тридцать птиц такого цвета и оперения, каких мы еще на острове не видывали. Оперение их меняло окраску час от часу, подобно коже хамелеона или же цветку триполия и тевкриона. И у всех под левым крылом был знак в виде двух диаметров, делящих пополам круг, или же линии, перпендикулярной к прямой. Знак этот был почти у всех одинаковой формы, но цвета разного[884]884
Знак этот был… цвета разного… – Имеются в виду различные монашеские ордена: белый цвет креста у Мальтийского ордена, зеленый – у ордена св. Лазаря, красный – св. Иакова (в Испании), фиолетовый – того же святого, но в Португалии; голубой – св. Антония.
[Закрыть]: у одних – белого, у других – зеленого, у третьих – красного, у четвертых – фиолетового, у пятых – голубого.
– Кто они такие и как они у вас называются? – осведомился Панург.
– Это метисы, – отвечал Эдитус, – зовем же мы их командорами, то бишь обжорами, – у вас к их услугам многое множество ломящихся от снеди обжорок.
– Сделайте милость, заставьте их спеть, – сказал я, – нам бы хотелось послушать их голоса.
– Они никогда не поют, – отвечал старикан, – зато едят за двоих.
– А где же их самки? – спросил я.
– Самок у них нет, – отвечал тот.
– Почему же они в таком случае покрыты коростою и изъедены дурной болезнью? – ввернул Панург.
– Дурной болезнью эта порода птиц часто болеет, оттого что она общается с флотом, – отвечал старец. – К вам же они слетелись, – продолжал он, – дабы удостовериться, нет ли среди вас представителей еще одной, будто бы встречающейся в ваших краях, великолепной породы цов, хищных и грозных птиц, не идущих на приманку и не признающих перчатки сокольничьего. А вот некоторые из этих носят на ногах вместо ремешков красивые и дорогие подвязки с надписью на колечке, но только слова кто об этом дурно подумает частенько бывают загажены. Другие поверх оперения носят знак победы над злым духом, третьи – баранью шкуру.
– Такая порода, может быть, и существует, мэтр Антитус, однако ж нам она неизвестна, – объявил Панург.
– Ну, довольно болтать, – заключил Эдитус, – пойдемте выпьем.
– А как насчет закуски? – спросил Панург.
– Где жажду заливают, там и брюхо набивают, – ответствовал Эдитус. – Нет ничего дороже и драгоценнее времени, – так употребим же его на добрые дела.
Прежде всего он отвел нас в кардинцовые бани, отменные бани, где вы чувствуете себя наверху блаженства; когда же мы вышли из бань, он велел алиптам[885]885
Алипты — у римлян рабы, натиравшие посетителей бань благовониями.
[Закрыть] умастить нас дорогими благовонными мазями. Пантагрюэль, однако ж, ему сказал, что он и без того выпьет как должно. Тогда старик провел нас в большую, весьма заманчивую трапезную и сказал:
– Мне ведомо, что отшельник Гульфикус заставил вас поститься четыре дня подряд, ну, а здесь вы, напротив, четыре дня подряд будете есть и пить без передышки.
– А спать-то мы все-таки будем? – спросил Панург.
– Это уж как кому угодно, – заметил Эдитус, – кто спит, тот и пьет.
Господи Боже мой, ну и пир же он нам закатил! То-то добрая душа!
Глава VIЧем птицы острова Звонкого питались
Пантагрюэль приуныл; по-видимому, четырехдневный срок, который определил нам Эдитус, был ему не по душе, что не прошло незамеченным для самого Эдитуса, и он сказал Пантагрюэлю:
– Государь! Вам известно, что всю неделю перед зимним солнцестоянием и всю неделю после него на море не бывает бурь. Это зависит от того, что стихии благосклонны к алькионам[886]886
Алькионы – зимородки.
[Закрыть], птицам, посвященным Фетиде, которые как раз в это время высиживают и выводят на берегу птенцов. У нас здесь море мстит за долгое спокойствие, и, когда к нам приезжают путешественники, четыре дня кряду грозно бушует. Все же, думается нам, это оно для того, чтобы вы по необходимости здесь задержались и в течение четырех дней угощались на доходы от колокольного звона. Не думайте, однако ж, что это для вас потерянное время. Вам волей-неволей придется у нас побыть, если только вы не хотите иметь дело с Юноной, Нептуном, Доридой, Эолом и всеми вейовисами. Но у вас теперь одна забота: попировать на славу.
Основательно подзакусив, брат Жан обратился к Эдитусу с такими словами:
– У вас на острове все только клетки да птицы. Птицы не обрабатывают и не возделывают землю. Они знай себе прыгают, щебечут да поют. Откуда же у вас этот рог изобилия, откуда же столько благ и столько лакомых кусочков?
– Со всего света, – отвечал Эдитус, – за исключением некоторых областей в царстве Аквилона[887]887
…некоторых областей в царстве Аквилона… – то есть в тех северных странах, где дует Аквилон; аллюзия на Германию и Англию.
[Закрыть], из-за коих вот уже несколько лет волнуются болота Камарины.
– Ни черта, – сказал брат Жан. —
Их ждет раскаянье, дон-динь,
Их ждет раскаянье, динь-дон!*
Выпьем, друзья!
– А вы-то сами откуда? – спросил Эдитус.
– Из Турени, – отвечал Панург.
– Раз вы из благословенной Турени, стало быть, вы племя не злое, – заметил Эдитус. – Из Турени к нам ежегодно чего-чего только не доставляют, и даже как-то раз ваши соотчичи, заезжавшие к нам по пути, говорили, что герцог Туреньский подголадывает по причине чрезмерной щедрости его предшественников, которые закармливали высокопреосвященнейших наших птиц фазанами, куропатками, рябчиками, индейками, жирными лодюнскими каплунами и всякого рода крупной и мелкой дичью. Выпьем, друзья мои! Взгляните на этот насест с птицами: какие они откормленные, раздобревшие, – это все благодаря пожертвованиям, и потому-то они так сладко поют. Лучшего пения вам не услышать, как ежели они увидят два золотых жезла…
– Это, уж верно, в праздник жезлов, – вставил брат Жан.
– …или ежели я зазвоню в большие колокола, что вокруг ихних клеток. Выпьем, друзья! Сегодня хорошо пьется, как, впрочем, и в любой другой день. Выпьем! Пью за вас от всей души, будьте здоровы! Не бойтесь, что вина и закуски не хватит. Даже когда небеса сделаются медью, а земля – железом, все равно к тому времени наши запасы еще не подберутся, – с ними мы продержимся лет на семь – на восемь дольше, чем длился голод в Египте. А посему давайте в мире и согласии выпьем!
– Дьявольщина! – воскликнул Панург. – Славно же вам на этом свете живется!
– А на том еще лучше будет, – подхватил Эдитус. – Нас там ждут Елисейские поля, можете быть уверены. Выпьем, друзья! Пью за вас всех.
– Уж верно, по внушению божественного и совершенного духа первые ваши ситицины изобрели средство, благодаря которому у вас есть то, к чему все люди, естественно, стремятся и что мало кому, а вернее сказать, никому не бывает даровано, – заметил я: – рай не только на этом, но и на том свете.
О полубоги! О счастливцы!
Судьбы такой же я хочу!*








