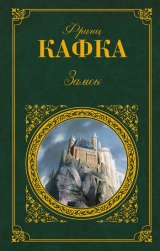
Текст книги "Замок (другой перевод)"
Автор книги: Франц Кафка
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Вы, господин староста, – сказал К., – толкуете письмо так хорошо, что в конце концов от него не остается ничего, кроме подписи на пустом листе бумаги. Вы не замечаете, как вы тем самым унижаете имя Кламма, хотя заявляли о своем уважении к нему.
– Это недоразумение, – запротестовал староста. – Я не отрицаю значения письма и не умаляю его своим истолкованием – напротив. Частное письмо Кламма, естественно, имеет намного большее значение, чем какая-то официальная бумага, – вот только того значения, какое вы ему придаете, оно не имеет.
– Вы знаете Шварцера? – спросил К.
– Нет, – сказал староста, – может быть, ты, Мицци? Тоже нет. Нет, мы его не знаем.
– Это странно, – заметил К., – он сын младшего кастеляна.
– Дорогой господин землемер, – проговорил староста, – как я могу знать всех сыновей всех младших кастелянов?
– Хорошо, – сказал К., – значит, тогда вы должны поверить мне, что он сын. С этим Шварцером у меня уже в день моего прибытия была неприятная стычка. Но потом он справился по телефону у младшего кастеляна по имени Фриц и получил справку, что я принят в качестве землемера. Как вы себе это объясните, господин староста?
– Очень просто, – сказал староста. – Дело в том, что в действительности вы еще ни разу не вступали в контакт с нашими инстанциями. Все эти контакты лишь кажущиеся, вы же вследствие вашего незнания здешних условий считаете их действительными. Теперь что касается телефона: взгляните, у меня, при том что уж я поистине имею достаточно дел с инстанциями, телефона нет. В трактирах и тому подобных местах – там он может сослужить хорошую службу, так же как, скажем, музыкальный автомат, большего он из себя и не представляет. Вы здесь уже звонили по телефону, да? Прекрасно, тогда вы меня, наверное, поймете. В Замке телефон, по-видимому, функционирует отлично; как мне рассказывали, там по телефону говорят непрерывно, что, естественно, очень ускоряет работу. Эти непрерывные телефонные разговоры мы в здешних телефонах слышим как шорохи и гудение, вы, конечно, их тоже слышали. Ну так вот: одни только эти шорохи и гудение – истинны и заслуживают доверия из всего, что нам передают здешние телефоны, все остальное обманчиво. У нас нет ни четкой телефонной связи с Замком, ни телефонной станции, которая бы соединяла по вызову; когда отсюда звонишь кому-нибудь в Замке, там звонят все телефоны нижних отделов или, точнее, все бы звонили, если бы почти во всех (я это точно знаю) не были отключены звонки. Но время от времени какой-нибудь переутомившийся чиновник чувствует потребность немного отвлечься, особенно вечером или ночью, и включает звонок – тогда мы получаем ответ, однако такой ответ, который не что иное, как шутка. Да это ведь и очень понятно. Кто же вправе претендовать на то, чтобы из-за своих маленьких частных дел врываться звонками в ход важнейших и всегда бурно протекающих работ? Я также не представляю себе, как может даже и чужак верить, что когда он звонит, к примеру, Сордини, то тот, кто ему отвечает, действительно и есть Сордини. Отнюдь, скорей всего, это какой-нибудь мелкий регистратор совсем из другого отдела. С другой стороны, конечно, может в один прекрасный день случиться и так, что позвонишь мелкому регистратору, а ответит сам Сордини. Тогда, правда, самое лучшее бежать от телефона прочь, прежде чем услышишь первое слово.
– Так я, конечно, на это не смотрел, – сказал К., – я не мог знать таких деталей, но большого доверия к этим телефонным разговорам у меня не было, и про себя я всегда понимал, что реальное значение имеет только то, что узнаешь или получаешь непосредственно в Замке.
– Нет, реальное значение, – сказал староста, прицепляясь к слову, – эти телефонные ответы обязательно имеют, как же иначе? Как может информация, которую сообщает чиновник из Замка, не иметь значения? Я уже говорил вам по поводу Кламмова письма: все эти высказывания не имеют официального значения, и когда вы приписываете им официальное значение, вы заблуждаетесь, – напротив, их приватное значение в смысле дружественности или враждебности очень велико и, как правило, больше, чем какое-то официальное значение когда-либо могло бы быть.
– Хорошо, – сказал К., – предположим, что все это так, тогда, следовательно, у меня куча добрых друзей в Замке, и если разобраться, то уже тогда, много лет назад, затея этого отдела с приглашением землемера была дружественным актом в отношения меня, а потом одно пошло цепляться за другое и кончилось тем, что меня, со скверной, разумеется, целью, заманили сюда и теперь угрожают выкинуть на улицу.
– Известная доля истины в ваших рассуждениях есть, – признал староста, – вы правы в том, что сообщения из Замка нельзя понимать дословно. Но ведь осторожность необходима везде, не только здесь, – и тем необходимее, чем важнее сообщение, о котором идет речь. Что же касается ваших слов о заманивании, то они мне совершенно непонятны. Если бы вы лучше следили за моими объяснениями, вы должны были бы уже понять, что вопрос с вашим приглашением сюда слишком сложен, чтобы мы могли здесь, в ходе одной маленькой беседы, его разрешить.
– Значит, остаемся при том, что все очень неясно и неразрешимо, вплоть до того, выкинут меня или нет.
– Кто бы осмелился вас выкинуть, господин землемер? – сказал староста. – Как раз неясность предварительного вопроса гарантирует вам самое вежливое обращение, просто вы, по-видимому, слишком впечатлительны. Никто вас здесь не удерживает, но это еще не значит «выкидывать на улицу».
– О-о, господин староста, – покачал головой К., – уж слишком все для вас, как я посмотрю, просто. Я перечислю вам кое-что из того, что меня здесь удерживает: жертвы, на которые я пошел, уезжая из дома; долгое тяжелое путешествие; небезосновательные надежды, которые я питал в связи с принятием меня здесь; полное отсутствие у меня состояния; невозможность теперь снова найти дома какую-то другую соответствующую работу и, наконец, не в последнюю очередь – моя невеста, потому что она здешняя.
– Ах, Фрида, – ничуть не удивился староста. – Я знаю. Но Фрида пошла бы за вами куда угодно. Что же касается остального, то тут, конечно, нужно кое-что взвесить, и я доложу об этом в Замок. Если будет получено решение или если предварительно возникнет необходимость допросить вас еще раз, я пошлю за вами. Вас это устраивает?
– Нет, нисколько, – отрезал К., – я хочу от Замка не подарков из милости, а того, что мне положено.
– Мицци, – сказал староста жене, которая все еще сидела, прижавшись к нему, и в задумчивости играла с Кламмовым письмом, из которого сделала кораблик; К. испуганно отобрал у нее письмо. – Мицци, нога у меня снова начинает очень болеть, придется нам заменить этот компресс.
К. поднялся.
– Значит, я тогда буду откланиваться, – сказал он.
– Да, – сказала Мицци, которая уже приготовляла какую-то мазь, – к тому же и тянет слишком сильно.
К. повернулся, помощники с их вечно неуместным служебным рвением сразу после слов К. распахнули обе створки двери. Чтобы предохранить комнату больного от мощно хлынувшего в нее холода, К. мог уже только на ходу поклониться старосте. Вслед за тем, увлекая за собой помощников, он выбежал из комнаты и резко захлопнул двери.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
У дверей трактира его ждал хозяин. Если бы к нему не обратились, он не посмел бы заговорить, поэтому К. сам спросил, чего ему надо.
– У тебя есть уже новая квартира? – спросил хозяин, глядя в землю.
– Ты спрашиваешь по поручению твоей жены, – догадался К., – ты, наверное, от нее очень зависишь?
– Нет, – сказал хозяин, – я спрашиваю не по ее поручению. Но она очень взволнована и несчастна из-за тебя, лежит в постели и все вздыхает и жалуется.
– Мне пойти к ней? – спросил К.
– Да, прошу тебя, – сказал хозяин, – я даже хотел тебя от старосты привести, слушал там за дверью, но вы беседовали, я не хотел мешать, и потом я все беспокоился за жену, побежал опять сюда, но она меня к себе не пустила, и мне ничего больше не оставалось, как только ждать тебя.
– Ну и пошли тогда быстрей, – сказал К., – я ее живо успокою.
– Если бы только это удалось, – вздохнул хозяин.
Они прошли через светлую кухню, где три или четыре служанки, каждая в стороне от остальных с какой-то своей работой, прямо-таки застыли под взглядом К. Уже в кухне слышны были вздохи хозяйки. Она лежала в чулане без окон, отделенном от кухни тонкой дощатой перегородкой. Места там хватало только для большой двуспальной кровати и шкафа. Кровать стояла так, что из нее можно было видеть всю кухню и наблюдать за работой; в то же время из кухни в чулане едва ли можно было что-то разглядеть, там было совершенно темно, и лишь немного высвечивалось бело-розовое постельное белье. Только войдя туда и подождав, пока привыкнут глаза, можно было различить детали.
– Пришли наконец, – слабым голосом сказала хозяйка.
Она лежала, раскинувшись, на спине, видно было, что ей трудно дышать, перина была сброшена. В кровати она выглядела намного моложе, чем в одежде, но ночной чепчик из тонкой кружевной материи, который она надела, хотя он был ей слишком мал и сползал у нее с головы, подчеркивал дряблость лица и вызывал сострадание.
– Откуда я знал, что нужно прийти? – спросил К. мягко. – Вы же не посылали за мной.
– Вы не должны были заставлять меня так долго ждать, – с упрямством больного сказала хозяйка. – Садитесь, – и она указала на край кровати, – а вы все – пошли вон!
(Кроме помощников, в чулан за это время протиснулись и служанки.)
– Я тоже пойду, Гардена, – сказал хозяин.
К. впервые услышал имя этой женщины.
– Конечно, – медленно проговорила она и – рассеянно, как будто ее занимали другие мысли, добавила: – С чего бы именно тебе оставаться?
Однако, когда все вытеснялись в кухню – даже помощники на этот раз сразу подчинились, впрочем, они заигрывали с одной из служанок, – задумчивая Гардена оказалась достаточно предусмотрительной: заметив, что в кухне слышно все, о чем говорится в чулане, потому что двери в чулане не было, она приказала всем уйти и из кухни. Это было немедленно выполнено.
– Пожалуйста, – попросила Гардена, – господин землемер, там, в шкафу, сразу, как откроете, висит шаль, достаньте мне ее, я хочу ею укрыться, я не выношу перины, мне так тяжело дышать. – И когда К. принес ей шаль, продолжила: – Вот видите, какая красивая шаль – правда?
К. она показалась обычной шерстяной шалью, только из любезности он еще раз пощупал ее, но ничего не сказал.
– Да, это красивая шаль, – повторила Гардена, закутываясь.
Она лежала теперь умиротворенная, казалось, груз ее страданий был снят с нее, она даже вспомнила о своей растрепавшейся от лежания прическе, приподнялась на минутку в кровати и немного поправила волосы вокруг чепчика. Волосы у нее были густые. К. потерял терпение и сказал:
– Вы, госпожа хозяйка, посылали спросить у меня, нашел ли я уже другую квартиру.
– Я посылала спросить у вас? – удивилась хозяйка. – Нет, вы ошибаетесь.
– Ваш муж сейчас только спрашивал меня об этом.
– Очень возможно, – согласилась хозяйка, – я с ним поругалась. Когда я не хотела, чтобы вы здесь были, он вас здесь держал; а теперь, когда я счастлива, что вы здесь живете, он вас прогоняет. Вот так вот он вечно.
– Вы, следовательно, – сказал К., – так сильно изменили свое мнение обо мне? За какие-то пару часов?
– Я свое мнение не изменила, – проговорила вновь ослабевшим голосом хозяйка, – дайте мне вашу руку. Хорошо. А теперь пообещайте мне, что вы будете со мной совершенно откровенны – и я буду с вами тоже.
– Ладно, – пообещал К., – только кто начнет?
– Я, – сказала хозяйка.
Впечатления, что она хочет пойти К. навстречу, это не производило, скорее – что ей ужасно хочется говорить первой. Она вытащила из-под подушки какую-то фотографию и протянула ее К.
– Взгляните на этот снимок, – попросила она.
Чтобы лучше видеть, К. сделал шаг в кухню, но и там нелегко было разглядеть что-нибудь, так как снимок выцвел от времени, был мятый, в пятнах и во многих местах потрескался.
– Он в не очень-то хорошем состоянии, – заметил К.
– К сожалению, к сожалению, – сказала хозяйка, – когда годами везде носишь с собой, становится таким. Но если вы как следует на него посмотрите, то вы все-таки все разглядите, обязательно. Впрочем, я могу вам помочь, скажите мне, что вы видите, я очень люблю слушать про этот снимок. Ну – что?
– Какого-то молодого человека, – начал К.
– Правильно, – подтвердила хозяйка, – и что он делает?
– Он лежит, по-моему, на какой-то доске, потягивается и зевает.
Хозяйка засмеялась.
– Ничего подобного, – сказала она.
– Но вот же доска, и вот он лежит, – отстаивал свою точку зрения К.
– Да вы смотрите внимательнее, – раздражительно сказала хозяйка, – разве он лежит?
– Нет, – согласился на этот раз К., – он не лежит, он летит, теперь я это вижу, это совсем не доска, а скорее какая-то веревка, и молодой человек прыгает в высоту.
– Ну вот, – обрадовалась хозяйка, – он прыгает, так тренируют посыльных всех служб. Я же знала, что вы это разглядите. А его лицо тоже видите?
– От лица я тут очень мало что вижу, – заявил К., – он, видимо, очень напрягся: рот раскрыт, глаза зажмурены и волосы разлетелись.
– Очень хорошо, – с уважением сказала хозяйка, – разглядеть больше тому, кто сам его не видел, невозможно. А он был красивый мальчик, я только один раз мельком видела его – и никогда не забуду.
– Кто же это был? – спросил К.
– Это, – сказала хозяйка, – был посыльный, через которого Кламм в первый раз позвал меня к себе.
К. толком не расслышал ответ, его отвлекло дребезжание стекла. Причину помехи он нашел сразу: снаружи, во дворе, прыгая в снегу с ноги на ногу, маячили помощники. Они вели себя так, словно были счастливы снова видеть К., вне себя от счастья они показывали его друг другу и при этом беспрерывно постукивали по стеклу в окне кухни. При угрожающем движении К. они это тотчас прекратили, попытались оттащить один другого, но тут же выскользнули друг у друга из рук и уже снова были у окна. К. поторопился скрыться в чулане, где помощники не могли увидеть его, а он мог не видеть их. Но слабое, словно молящее дребезжание оконного стекла и там долго еще преследовало его.
– Опять эти помощники, – сказал он, извиняясь, хозяйке и показал на двор.
Хозяйка, не обращая на него внимания, забрала у него снимок, посмотрела, разгладила и снова сунула под подушку. Движения ее замедлились, но не от усталости, а под грузом воспоминаний. Она собиралась рассказывать К. – и забыла его за рассказом, и перебирала бахрому своей шали. Только через некоторое время она подняла голову, провела ладонью по лицу и сказала:
– И эта шаль – от Кламма. И этот чепчик тоже. Снимок, шаль и чепчик – это те три сувенира, которые у меня остались от него. Я не молода, как Фрида, я не так тщеславна, как она, и не так деликатна – она очень деликатна, – короче, я умею приноравливаться к жизни, но в одном я должна признаться: без этих трех вещей я бы здесь не смогла так долго выдержать – да я бы, наверное, и одного дня не смогла здесь выдержать. Эти три сувенира вам, может быть, покажутся мелочью, но заметьте: у Фриды, которая так долго была связана с Кламмом, нет ни одного сувенира, я ее спрашивала; она слишком восторженна, да и слишком требовательна, я же, всего только трижды побывав у Кламма – потом он за мной уже больше не посылал, я не знаю почему, – будто предчувствуя, что мое время будет коротким, запасла себе эти сувениры. Правда, тут надо было приложить старание: Кламм сам ничего не дает, но если увидишь, что там лежит что-нибудь подходящее, то можно это себе выпросить.
К. испытывал неловкость, выслушивая эти истории, как ни близко они его касались.
– И как давно все это было? – спросил он, вздыхая.
– Больше двадцати лет тому назад, – сказала хозяйка, – намного больше двадцати лет.
– Так долго хранят верность Кламму, – подытожил К. – А вы, госпожа хозяйка, вообще-то понимаете, что подобными признаниями вы меня наводите – когда я думаю о моем будущем браке – на тяжелые размышления?
Хозяйка сочла неприличным, что в такой момент К. вздумал вмешиваться со своими делами, и искоса гневно взглянула на него.
– Зачем же так сердиться, госпожа хозяйка, – сказал К. – Я ведь ни слова не говорю против Кламма. Но в то же время волею обстоятельств я вступил в известные отношения с Кламмом, и этого самый большой почитатель Кламма не может отрицать. Так вот. Вследствие такого положения, при упоминании о Кламме я всегда поневоле думаю и о себе, тут уж ничего не поделаешь. Кстати, госпожа хозяйка, – тут К. схватил ее ослабевшую руку, – вспомните о том, как плохо закончился наш последний разговор и что на этот раз мы хотим разойтись мирно.
– Вы правы, – согласилась хозяйка и опустила голову, – но пощадите меня. Я не чувствительней других – напротив, но у каждого есть свои чувствительные места, у меня – только одно это.
– К сожалению, оно одновременно – и мое, – сказал К., – однако я, безусловно, справлюсь с собой; но теперь объясните мне, госпожа хозяйка, как я должен терпеть в браке эту ужасающую верность Кламму, если предположить, что и Фрида похожа в этом на вас.
– Ужасающую верность? – неприязненно повторила хозяйка. – Разве это верность? Верна я моему мужу, а что – Кламм? Кламм когда-то сделал меня своей возлюбленной, разве могу я это отличие когда-нибудь потерять? И как вам это терпеть с Фридой? Ах, господин землемер, ну кто вы такой, что осмеливаетесь так спрашивать?
– Госпожа хозяйка, – предостерегающе сказал К.
– Я помню, – сказала хозяйка, покоряясь, – но мой муж таких вопросов не задавал. Я не знаю, кого тут надо назвать несчастной, меня тогда или Фриду теперь. Фриду, которая по своей воле оставила Кламма, или меня, за которой он больше уже не посылал. Может быть, все-таки Фриду, хотя она, кажется, в полной мере этого еще не понимает. Зато мое несчастье было тогда беспредельнее и завладело всеми моими мыслями, потому что я вынуждена была все время себя спрашивать – а в сущности, и сегодня еще не перестала спрашивать: почему так случилось? Три раза Кламм посылает за тобой, а в четвертый раз уже – нет, и уже никогда – в четвертый раз! Что же могло больше занимать меня тогда? О чем еще могла я говорить с моим мужем, с которым мы вскоре после этого поженились? Днем у нас не было времени: мы получили этот трактир в жалком состоянии и должны были попытаться поднять его – но ночью? Годами крутились наши ночные разговоры только вокруг Кламма и причин перемены его настроения. И когда мой муж во время этих разговоров засыпал, я будила его и мы разговаривали дальше.
– Теперь, – сказал К., – я, если разрешите, задам вам один очень грубый вопрос.
Хозяйка молчала.
– Мне, следовательно, не позволено спрашивать, – констатировал К., – уже этого мне достаточно.
– Разумеется, – сказала хозяйка, – вам уже этого достаточно, и этого – в особенности. Вы неверно истолковываете все, даже молчание. Вы просто не можете иначе. Я разрешаю вам спрашивать.
– Если я все неверно истолковываю, – продолжил К., – то, может быть, я неверно истолковываю и мой вопрос, может быть, он совсем не так уж груб. Я хотел только узнать, как вы познакомились с вашим мужем и как этот трактир перешел в вашу собственность.
Хозяйка поморщилась, но сказала невозмутимо:
– Это очень простая история. Мой отец был кузнецом, а Ганс, мой теперешний муж, был конюхом у одного богатого крестьянина и часто приходил к моему отцу. Это произошло после того, как я последний раз была с Кламмом; я была очень несчастна, хотя, собственно, не имела на это права, так как все ведь шло правильно, и то, что мне больше нельзя было к Кламму, было решением самого Кламма, следовательно, было правильно, только причины были неясны – их я имела право доискиваться, но быть несчастной я права не имела. Не имела, но все равно – была, и не могла работать, и по целым дням просиживала в нашем палисадничке. Ганс видел меня там, иногда он подсаживался ко мне, я ему не жаловалась, но он знал, в чем дело, и так как он хороший мальчик, то, бывало, плакал вместе со мной. И когда однажды мимо нашего садика проходил тогдашний трактирщик (у него умерла жена, и он поэтому должен был оставить свое дело – впрочем, он был уже и старый человек) и увидел, как мы там сидим, он остановился и, недолго думая, предложил нам трактир в аренду; денег, поскольку он нам доверял, вперед не спросил и плату за аренду назначил очень дешевую. Я не хотела быть отцу обузой, все остальное было мне безразлично, и, подумав о трактире и новой работе, которая, может быть, принесет немного забвения, я протянула Гансу руку. Вот и вся история.
С минуту было тихо, потом К. сказал:
– Трактирщик поступил прекрасно, но неосмотрительно. Или у него были особые причины доверять вам обоим?
– Он хорошо знал Ганса, – пояснила хозяйка, – он был его дядей.
– Тогда конечно, – сказал К. – Следовательно, семья Ганса явно многого ждала от его связи с вами?
– Может быть, – пожала плечами хозяйка, – не знаю, я никогда об этом не задумывалась.
– Но, по-видимому, это все-таки было так, – сказал К., – если семья была готова пойти на такие жертвы и просто так, без гарантий, отдать трактир в ваши руки.
– Как потом оказалось, это не было неосмотрительно, – возразила хозяйка. – Я вовсю принялась за работу, я сильная была, дочь кузнеца, мне не надо было ни слуг, ни служанок, я успевала всюду: в зале, в кухне, на дворе, в конюшне; я готовила так хорошо, что даже у господского трактира посетителей отбивала. Вы у нас в обед еще не были, вы не знаете, кто к нам ходит обедать, а тогда ходило еще больше, за это время уж многие разбежались. И результат был такой, что мы не только смогли аренду вовремя выплачивать, но через несколько лет и весь трактир откупили, и он теперь почти без долгов. Правда, другим результатом было то, что я на этом надорвалась, сердце стало болеть, и вот теперь я старуха. Вы, наверное, думаете, что я намного старше Ганса, но на самом деле он всего на два или на три года моложе меня, да и вообще никогда не состарится, потому что от его работы: покурить трубку, послушать гостей, потом трубку выколотить и когда-нибудь стакан пива принести – от такой работы не старятся.
– Ваши успехи достойны восхищения, – признал К., – это несомненно, но мы говорили о времени до вашего замужества, а тогда все же было бы странно, если бы родственники Ганса, жертвуя деньгами или, по крайней мере, идя на такой большой риск, как сдача трактира, торопились бы со свадьбой и при этом не имели бы никаких других надежд, кроме как на вашу работоспособность, которой они ведь еще совершенно не знали, и на работоспособность Ганса, в отсутствии которой, наверное, уже должны были убедиться.
– Ну да, – устало сказала хозяйка, – я ведь понимаю, куда вы клоните и как вы при этом заблуждаетесь. Кламм ко всем этим делам не имел отношения. С чего бы он стал обо мне заботиться или, вернее, как он вообще мог бы обо мне заботиться? Он ведь меня уже не знал. То, что он больше не посылал за мной, означало, что он меня забыл. Если он больше не посылает, он забывает полностью. Я не хотела говорить об этом при Фриде, но это не просто забвение, это что-то большее. С тем, кто забыт, можно ведь снова познакомиться. Для Кламма такое невозможно. Если он за тобой больше не посылает, он забывает полностью не только все твое прошлое, но форменным образом и все твое будущее. Я, конечно, могу, если очень постараюсь, вдуматься в ваши рассуждения, в эти, может быть, справедливые в тех краях, откуда вы пришли, но здесь – бессмысленные рассуждения. Вы еще, пожалуй, дойдете до сумасбродной мысли, что Кламм мог бы дать мне в мужья как раз такого, как Ганс, чтобы я без особенных помех могла прийти к нему, если бы когда-нибудь в будущем он меня позвал. Ну уж дальше никакое сумасбродство завести не может. Да где бы нашелся такой муж, который помешал бы мне побежать к Кламму, если бы Кламм подал мне знак? Чепуха, полнейшая чепуха, это только самому себе голову морочить – заниматься такой чепухой.
– Нет, – сказал К., – морочить себе голову мы не будем, я отнюдь не зашел еще в своих мыслях так далеко, как вы предположили, хотя, по правде говоря, был на пути к этому. Но пока меня удивляет только то, что родня так много ожидала от этой женитьбы и что эти надежды и в самом деле сбылись, – правда, за это было заплачено вашим сердцем, вашим здоровьем. Напрашивающаяся мысль о некоей связи этого факта с Кламмом у меня, разумеется, возникла, но не в такой или пока еще не в такой грубой форме, как вы это изобразили – явно с единственной целью еще раз задеть меня, потому что вы получаете от этого удовольствие. Ладно, получайте ваше удовольствие! Моя же мысль была такой: во-первых, Кламм, безусловно, явился причиной женитьбы. Без Кламма вы не были бы несчастны, не сидели бы без дела в вашем палисадничке; без Кламма Ганс не увидел бы вас там, не будь вы печальны, робкий Ганс никогда не осмелился бы заговорить с вами; без Кламма вы никогда не стали бы там плакать вместе с Гансом; без Кламма старый добрый дядя-трактирщик никогда бы не увидел там Ганса и вас согласной парой; без Кламма вы бы не сделались равнодушны к жизни, следовательно, не вышли бы за Ганса. Итак, во всем этом уже более чем достаточно Кламма, я бы сказал. Но это еще не все. Разве не искали вы забвения, разве не работали так – конечно же, не щадя себя – и не подняли хозяйство на такую высоту? Следовательно, и тут Кламм. Но Кламм, помимо этого, был еще и причиной вашей болезни, так как ваше сердце еще до женитьбы было разбито несчастной страстью. Остается еще только один вопрос: что же так сильно привлекало в этой женитьбе родню Ганса? Вы сами здесь упомянули, что быть возлюбленной Кламма – значит получить такое отличие, которое нельзя потерять, ну так вот это, может быть, их и привлекало. А кроме этого, я думаю, – надежда, что счастливая звезда, которая привела вас к Кламму (если считать, что это была счастливая звезда, но вы это утверждаете), определена светить только вам, следовательно, при вас должна остаться и, пожалуй, не покинет вас так скоро и неожиданно, как это сделал Кламм.
– Вы все это серьезно? – спросила хозяйка.
– Серьезно, – быстро ответил К., – только я думаю, что Гансова родня со своими надеждами не была ни совсем права, ни совсем не права, и я думаю, что понимаю и ошибку, которую они допустили. Внешне ведь все как будто удалось: Ганс хорошо пристроен, у него видная жена, он в чести, и хозяйство без долгов. Но, однако, на деле-то удалось не все: с простой девушкой, у которой он был бы первой большой любовью, он наверняка был бы намного счастливее; если он временами – за что вы его упрекаете – стоит посреди залы как потерянный, то это оттого, что он в самом деле чувствует себя потерянным (несчастным от этого он себя не чувствует, это точно, настолько я его уже знаю), но так же точно и то, что с другой женой этот симпатичный понятливый мальчик стал бы счастливее, под чем я одновременно подразумеваю и – самостоятельнее, прилежнее, мужественнее. И вы ведь сами наверняка не счастливы и, по вашим словам, без этих трех сувениров вообще не захотели бы жить дальше, и сердце у вас больное. Так значит, родня в своих надеждах была не права? Я думаю, нет. Благословение было вам отпущено, но под него не сумели подойти.
– Что же упустили? – спросила хозяйка. Она лежала теперь, вытянувшись, на спине и неподвижно смотрела в потолок.
– Спросить Кламма, – ответил К.
– Значит, мы опять возвращаемся к вам, – сказала хозяйка.
– Или к вам, – уточнил К. – Наши случаи граничат.
– Так чего же вы хотите от Кламма? – спросила хозяйка. Она села в кровати, взбила подушки, чтобы можно было сидеть облокотившись, и теперь смотрела К. прямо в глаза. – Я откровенно рассказала вам мой случай, и вам стоило попытаться кое-что из него понять. Теперь вы скажите мне так же откровенно, что вы хотите спросить у Кламма. Я с большим трудом уговорила Фриду уйти наверх в ее комнату и подождать там, я боялась, что в ее присутствии вы не будете достаточно откровенны.
– Мне нечего скрывать, – сказал К. – Но сперва я хочу обратить кой на что ваше внимание. «Кламм забывает сразу», сказали вы. Так вот, во-первых, это представляется мне весьма маловероятным, во-вторых же, это недоказуемо и явно не что иное, как легенда, рожденная фантазией тех самых девиц, которые были как раз в милости у Кламма. Я удивляюсь, как вы поверили такой плоской выдумке.
– Это совсем не легенда, – возразила хозяйка, – напротив, это выведено из всеобщего опыта.
– Так значит, новым опытом опровергается, – сказал К. – Но, кроме того, тут есть еще одно различие между случаем Фриды и вашим. Что Кламм больше якобы уже не звал Фриду – это в определенном смысле совсем не так, напротив, он ее звал, но она не послушалась. Не исключено даже, что он ее все еще ждет.
Хозяйка молчала, только ее изучающий взгляд медленно скользил по К. вверх и вниз. Потом она сказала:
– Я намерена спокойно выслушать все, что у вас есть сказать. И вы, чем щадить меня, говорите лучше откровенно. Только у меня будет одна просьба: не упоминайте имени Кламма. Называйте его «он» или еще как-нибудь, но не по имени.
– Охотно, – согласился К., – но что я хочу от него – это нелегко сказать. Для начала я хочу увидеть его вблизи, потом я хочу услышать его голос, потом я хочу узнать от него, как он относится к нашей женитьбе. О чем я его потом еще, может быть, попрошу, зависит от того, как пойдет беседа. Поговорить можно о многом, но для меня самое важное то, что я встречусь с ним лицом к лицу. Ведь непосредственно я еще ни с одним настоящим чиновником не говорил. Кажется, добиться этого труднее, чем я полагал. Но теперь я должен говорить с ним как с частным лицом, а это, насколько я понимаю, осуществить намного легче. Как с чиновником я могу с ним говорить только в его, быть может, недоступном кабинете в Замке или – что уже сомнительно – в господском трактире; как с частным лицом – везде: дома, на улице, – где только мне удастся его встретить. То, что при этом мне будет противостоять, кроме того, еще и чиновник, я охотно принимаю, но это не основная моя цель.
– Хорошо, – сказала хозяйка и спрятала лицо в подушку, словно сказала что-то бесстыдное. – Если я через мои связи добьюсь, что ваша просьба о разговоре будет передана Кламму, вы обещаете мне, что до получения ответа ничего не будете предпринимать на свой страх и риск?
– Этого я не могу обещать, – не согласился К. – При всем моем желании я не могу обещать выполнить вашу просьбу или ваш каприз. Потому что дело не терпит, особенно после того, как мои переговоры со старостой дали неблагоприятные результаты.







