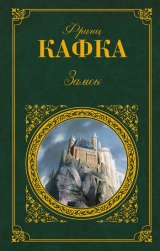
Текст книги "Замок (другой перевод)"
Автор книги: Франц Кафка
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
ГЛАВА ПЯТАЯ
Предстоящие переговоры со старостой общины мало беспокоили К., чему он сам почти удивлялся. Он пытался найти оправдание в том, что, исходя из предшествующего опыта, официальные отношения с графскими инстанциями были для него очень просты. Это объяснялось, с одной стороны, тем, что относительно обращения с ним была, очевидно, раз и навсегда дана некая, внешне очень для него благоприятная установка, а с другой стороны, это объяснялось достойным удивления единством замковых служб, и в особенности там, где его как будто и не было, оно представлялось особенно совершенным. Временами, когда он размышлял только об этих вещах, К. был недалек от того, чтобы счесть свое положение удовлетворительным, хотя после таких приступов благодушия он всякий раз торопился сказать себе, что именно в этом и заключена опасность.
Непосредственные отношения с инстанциями были действительно не слишком тяжелы, потому что эти инстанции, как бы там хорошо они ни были организованы, должны были во имя далеких, чуждых им господ защищать далекие, чуждые им интересы, в то время как К. боролся за самое животрепещущее и близкое, за самого себя, да еще – по крайней мере в первое время – по собственной воле, ибо он был нападающей стороной; и не только он один боролся за себя, но, очевидно, еще и другие силы, которых он не знал, но о существовании которых он, судя по мерам, предпринимавшимся инстанциями, мог догадываться. Однако же эти инстанции – тем, что с самого начала они в несущественных вещах (о большем пока речи не было) во многом шли К. навстречу – отнимали у него возможность маленькой, легкой победы, а вместе с этой возможностью также и соответственную удовлетворенность, и вытекающую из нее надежно обоснованную уверенность в себе для дальнейшей, более масштабной борьбы. Вместо этого они позволяли К. – правда, только в пределах деревни – проскальзывать куда он только хотел, и этим изнеживали и ослабляли его, исключали здесь вообще всякую борьбу, зато переносили ее в неофициальную, совершенно невыясненную, смутную, чуждую ему жизнь. При таком положении, если он не будет постоянно начеку, вполне может случиться, что когда-нибудь, несмотря на все любезности инстанций и несмотря на безупречное исполнение всех (столь чрезмерно легких) служебных обязанностей, он, обманутый выказанной ему мнимой благосклонностью, поведет другую свою жизнь так неосмотрительно, что на чем-нибудь сорвется, и тогда они, все так же мягко и дружелюбно, словно бы против своей воли, а лишь по обязанности, во имя поддержания какого-то неизвестного ему общественного порядка, придут, чтобы убрать его с дороги. Но что это, собственно, такое здесь, эта другая жизнь? Никогда еще К. не видел, чтобы служба и жизнь были переплетены так тесно, как здесь, – так тесно, что иногда могло показаться, будто служба и жизнь поменялись местами. Что значила, к примеру, эта до сих пор лишь формальная власть, которую Кламм осуществлял над К. по службе, в сравнении с той совершенно реальной властью, которую Кламм имел в каморке, где К. спал? И получалось, что легкомысленное в какой-то мере поведение, некая расслабленность были здесь уместны только непосредственно по отношению к инстанциям, тогда как в остальном все время нужно было держаться очень осторожно и оглядываться по сторонам перед каждым шагом.
Посещение старосты поначалу очень укрепило К. в его мнении о местных инстанциях. Староста, приветливый, толстый, гладковыбритый человек, был болен – у него был тяжелый приступ подагры – и принял К., не вставая с постели.
– Вот, стало быть, и наш господин землемер, – сказал он, хотел приподняться для приветствия, но осуществить намерения не смог и снова рухнул на подушки, извиняющимся жестом указывая на свои ноги.
Тихая женщина (в сумрачном свете, проникавшем сквозь маленькие и еще затемненные занавесками окна, она казалась почти тенью) принесла К. стул и поставила у кровати.
– Садитесь, садитесь, господин землемер, – пригласил староста, – и выскажите мне ваши желания.
К. зачитал вслух письмо Кламма, присовокупив к нему кое-какие замечания. Снова у него появилось ощущение необычной легкости контактов с инстанциями. На них можно валить все на свете, они готовы нести прямо-таки любую ношу, и при этом тебя даже не трогают и ты остаешься на свободе. Староста, как будто тоже по-своему почувствовав это, беспокойно пошевелился в постели. Наконец он сказал:
– Я, господин землемер, как вы, конечно, заметили, обо всем этом знал. То, что я сам еще ничего не предпринял, объясняется, во-первых, моей болезнью и далее тем, что вы так долго не приходили; я уже подумал, что вы все это дело бросили. Но теперь, раз вы оказались столь любезны, что сами разыскали меня, я должен, конечно, сказать вам всю неприятную правду. Вы приняты, как вы говорите, в качестве землемера, но, к сожалению, нам не требуется землемер. Для него здесь не было бы ни малейшей работы. Границы наших маленьких хозяйств размечены, все надлежащим образом зарегистрировано. Переходов владений из рук в руки, можно сказать, не бывает, а маленькие споры из-за границ мы улаживаем сами. Так для чего нам землемер?
Хотя К. и не обдумывал этого заранее, но в глубине души он был убежден, что ему следует ждать подобного сообщения. Именно поэтому он смог сразу сказать:
– Это чрезвычайно поражает меня. Это опрокидывает все мои расчеты. Мне остается только надеяться, что произошло недоразумение.
– К сожалению, нет, – сказал староста, – все обстоит именно так, как я сказал.
– Но как это может быть! – воскликнул К. – Я же не для того проделал это бесконечное путешествие, чтобы меня теперь отправили обратно!
– Это – другой вопрос, который я решать не уполномочен, но как это недоразумение могло произойти, я, конечно, могу вам объяснить. В таком большом аппарате, как графский, может когда-то случиться, что один отдел отдает одно распоряжение, а другой – другое; ни один не знает о другом, контроль вышестоящих органов, хотя он и предельно строгий, но в силу своей природы осуществляется с опозданием, и таким образом может все-таки возникнуть какая-то маленькая путаница. Правда, это всегда только самые ничтожнейшие мелочи, такие, например, как ваш случай. В серьезных вещах мне пока еще ни одной ошибки не известно, но и мелочи часто бывают достаточно неприятны. Что же касается вашего случая, то я не собираюсь делать из него служебной тайны, я для этого еще не настолько чиновник, я крестьянин, крестьянином и остаюсь, и прямо изложу вам весь ход событий. Много лет назад (я тогда только несколько месяцев как стал старостой) пришло предписание, – уж не помню из какого отдела, – в котором в свойственном этим господам категорическом тоне сообщалось, что должен быть приглашен землемер и что общине вменяется в обязанность подготовить все необходимые для его работы планы и чертежи. Это предписание, естественно, не может касаться вас, так как это было очень давно, и я бы и не вспомнил о нем, если бы не был сейчас болен и не имел достаточно времени, чтобы, лежа в кровати, размышлять о забавнейших вещах. Мицци, – сказал он, неожиданно перебив свой отчет, женщине, которая все время сновала по комнате, занимаясь чем-то непонятным, – поищи-ка, пожалуйста, в шкафу, может быть, ты найдешь предписание. Это ведь было в первые месяцы службы – пояснил он К., – я тогда еще все сохранял.
Женщина немедленно открыла шкаф; К. и староста наблюдали. Шкаф был до отказа набит бумагами. Когда его открыли, две большие связки документов – они были округлые, как вязанки дров, – выкатились наружу; женщина испуганно отскочила.
– Внизу оно должно быть, внизу, – сказал староста, руководя из кровати.
Женщина, загребая двумя руками охапки документов, начала послушно выбрасывать все из шкафа, чтобы добраться до бумаг внизу. Бумаги устилали уже полкомнаты.
– Много работы проделано, – сказал, кивая, староста, – и это только малая часть. Основную массу я держу в сарае, впрочем, большая часть уже пропала. Кто все это может сохранить! Но в сарае еще очень много. Ты сможешь найти предписание? – Он снова повернулся к своей жене. – Ты ищи бумагу, на которой подчеркнуто синим слово «землемер».
– Здесь слишком темно, – сказала женщина, – я возьму свечу.
И она по бумагам пошла из комнаты.
– Моя жена, – продолжал староста, – большая опора мне в этой тяжелой служебной работе, которую к тому же приходится выполнять только между делом. У меня, правда, есть для письменных работ еще один подручный – учитель, но справиться все равно невозможно, постоянно остается много несделанного; оно – там, в том ящике собрано, – и он указал на другой шкаф. – Особенно теперь, когда я болен, это совсем разрастается, – сказал он устало, но в то же время и гордо и снова улегся.
– Не могу ли я, – сказал К., когда женщина вернулась со свечой и, встав на колени перед ящиком, принялась искать предписание, – помочь вашей жене в поисках?
Староста, усмехаясь, покачал головой:
– Как я вам уже говорил, у меня нет от вас служебных тайн, но чтобы позволить вам самим рыться в документах – так далеко я все же не могу зайти.
В комнате теперь наступила тишина, слышно было только шуршание бумаги; староста, по-видимому, даже слегка задремал. Легкий стук в дверь заставил К. обернуться. Конечно, это были помощники. Они, однако, были уже немного обучены, не ввалились сразу в комнату, а сперва прошептали сквозь чуть приоткрытую дверь:
– Нам на улице слишком холодно.
– Кто это? – испуганно вскинулся староста.
– Это всего лишь мои помощники, – пояснил К., – не знаю, где мне их оставить ждать меня: на улице слишком холодно, а здесь они помешают.
– Мне они не помешают, – приветливо возразил староста, – вы им скажите, пусть заходят. Кроме того, я ведь их знаю. Старые знакомые.
– Но мне они мешают, – прямо сказал К.
Он перевел взгляд с помощников на старосту, потом снова – на помощников и обнаружил, что усмешки всех троих неразличимо одинаковы.
– Но раз вы все равно уже здесь, – сказал он тогда для пробы, – оставайтесь и помогите там супруге господина старосты найти документ, на котором подчеркнуто синим слово «землемер».
Староста ничего не возразил. То, что не разрешалось К., помощникам разрешалось, и они сразу же набросились на бумаги, но больше рылись в куче, чем искали, и пока один читал по складам написанное на каком-нибудь листе, другой непременно вырывал этот лист у него из рук. Зато женщина, стоявшая на коленях перед пустым ящиком, кажется, вообще ничего не искала, во всяком случае, свеча стояла очень далеко от нее.
– Помощнички, – сказал староста с такой самодовольной усмешкой, как будто все делалось по его распоряжениям, но никто не был в состоянии хотя бы даже предположить это, – вам, значит, они мешают, но это ведь ваши собственные помощники.
– Нет, – холодно ответил К., – они уже здесь ко мне приблудились.
– Как это «приблудились», – удивился староста, – «были приданы» вы, очевидно, хотите сказать.
– Ну, были приданы, – сказал К., – но с тем же успехом они могли свалиться с неба – настолько это была бездумная придача.
– Бездумно здесь не делается ничего, – сказал староста и сел в постели, забыв даже о боли в ногах.
– Ничего, – повторил К. – А как с моим приглашением?
– И ваше приглашение было, очевидно, обдумано, – сказал староста, – только вмешались побочные запутывающие обстоятельства, я это вам докажу по документам.
– Документов же не найдут, – предположил К.
– Не найдут? – крикнул староста. – Мицци, ищи, пожалуйста, чуточку быстрее! Но пока что я могу вам рассказать эту историю и без документов. На то предписание, о котором я уже говорил, мы ответили, что благодарим, но в землемере не нуждаемся. Но этот ответ попал, по-видимому, не в первоначальный отдел – я буду обозначать его А, – а по ошибке в другой отдел, Б. Отдел А остался, таким образом, без ответа, но, к сожалению, и Б не получил весь наш ответ: то ли содержимое папки осталось у нас, то ли оно потерялось по дороге (конечно, не в самом отделе – за это я готов ручаться), – как бы там ни было, но и в отдел Б пришла только папка, на которой не было помечено ничего, кроме того, что во вложенном в нее – а в действительности, к сожалению, отсутствовавшем – документе говорится о приглашении землемера. Между тем отдел А ждал нашего ответа; у них, правда, были записи по этому вопросу, но как это, вполне понятно, нередко случается и, несмотря на всеобщую исполнительность и точность, может случаться, референт понадеялся на то, что мы ответим, и тогда он будет либо приглашать землемера, либо при необходимости продолжит деловую переписку с нами. По этой причине он оставил пометки без внимания, и все дело у него позабылось. Между тем в отделе Б папка ответа попадает к одному славящемуся своей добросовестностью референту, Сордини его зовут, он итальянец (даже для меня, для посвященного, непостижимо, почему человека его способностей держат на положении почти что подчиненного). Этот Сордини, естественно, отправляет нам пустую папку для восполнения. Но теперь с того первого письма отдела А прошло уже много месяцев, если не лет, – вполне понятно, так как, если документ проходит, как это и надлежит, правильный путь, он приходит в свой отдел самое позднее через день и в тот же день уже будет проработан, но если уж он пошел неверно, а при совершенстве их организации он должен этот неверный путь искать прямо-таки с усердием, иначе он его не найдет, тогда – тогда это длится, конечно, очень долго. Поэтому, когда мы получили записку Сордини, у нас об этом деле уже оставались лишь самые неопределенные воспоминания; мы тогда только вдвоем делали эту работу, Мицци и я; учитель мне в то время еще не был придан, копии мы сохраняли лишь в самых важных случаях, короче, мы могли только очень неопределенно ответить, что мы о такого рода приглашении ничего не знаем и что у нас в землемере потребности нет.
– Но, – перебил тут сам себя староста так, как если бы в пылу рассказа зашел слишком далеко или как если бы было по крайней мере возможно, что он зашел слишком далеко, – вам не надоела эта история?
– Нет, – сказал К., – она меня развлекает.
Староста на это:
– Я рассказываю вам это не для развлечения.
– Она развлекает меня только в том смысле, – сказал К., – что я получаю некоторое представление о забавной путанице, от которой при определенных обстоятельствах зависит жизнь человека.
– Вы еще не получили никакого представления, – серьезно сказал староста, – но я могу рассказать вам дальше. Такого, как Сордини, наш ответ, конечно, не удовлетворил. Я восхищаюсь этим человеком, хотя он для меня – сущая мука. Дело в том, что он никому не доверяет; даже если, к примеру, он бессчетное число раз убеждался, что такой-то, скажем, человек достоин всяческого доверия, – в следующий раз он не доверяет ему так, словно он вообще его не знает, или, вернее, так, словно он знает его как проходимца. Я считаю это правильным, чиновник так и должен поступать; к сожалению, я по своему характеру не могу следовать этому правилу: вы же видите, как я вам, чужому человеку, прямо все раскрываю, я просто не умею иначе. Сордини, напротив, сразу почувствовал к нашему ответу недоверие. И началась большая переписка. Сордини спрашивал, почему это мне вдруг взбрело в голову, что не надо приглашать землемера; я с помощью Мицци – у нее отличная память – отвечал, что инициатива исходит от самих же служебных инстанций (что это было из другого отдела, мы, естественно, уже давно забыли); Сордини на это: почему я об этом официальном письме только теперь упоминаю; я в ответ: потому что я только теперь о нем вспомнил; Сордини: это очень странно; я: это совсем не странно при таком затянувшемся деле; Сордини: это все-таки странно, поскольку письма, о котором я вспомнил, не существует; я: конечно, его не существует, раз все документы из папки пропали; Сордини: но ведь должна была остаться запись об этом первом письме, а ее не осталось. Тут я запнулся, потому что не смел не только утверждать, но и поверить, что в отделе Сордини могли допустить ошибку. Вы, господин землемер, возможно, про себя упрекаете Сордини в том, что, мол, мое утверждение должно было привлечь его внимание и заставить его, по крайней мере, справиться об этом деле в других отделах. Но вот это-то и было бы неправильно – я не хочу, чтобы на этого человека ложилось пятно, пусть даже только в ваших мыслях. Таков принцип работы инстанций, что возможность ошибки вообще не принимается в расчет. Этот принцип оправдывается превосходной организацией всего аппарата, и он необходим, когда хотят достичь предельной быстроты исполнения. Таким образом, Сордини вообще не имел права справляться в других отделах, кроме того, эти отделы ему бы попросту не ответили, потому что там бы сразу поняли, что речь идет об установлении возможности ошибки.
– Позвольте, господин староста, я вас перебью вопросом, – сказал К., – не упоминали ли вы несколько ранее о каком-то контрольном органе? Ведь это хозяйство, как вы его изображаете, такого сорта, что если представить, что, может быть, нет и контроля, так дурно делается.
– Вы очень строги, – заметил староста. – Но умножьте вы вашу строгость в тысячу раз – и это все еще будет ничто в сравнении со строгостью, которую инстанции проявляют по отношению к самим себе. Только совершенно не знающий нашей жизни человек может задавать такие вопросы. Существуют ли контрольные органы? Существуют только контрольные органы. Правда, они не предназначены для того, чтобы отыскивать ошибки в буквальном, грубом смысле этого слова, потому что ошибок ведь не происходит, и даже если когда-то какая-то ошибка и происходит – как в вашем случае, – то кто может окончательно утверждать, что это – ошибка?
– Это уже нечто совершенно новое! – воскликнул К.
– Для меня это нечто очень старое, – сказал староста. – Я убежден – не намного отличаясь в этом от вас самих – в том, что произошла ошибка, и именно поэтому, от отчаяния тяжело заболел Сордини, и первые контрольные службы, благодаря которым был открыт источник ошибки, тоже признали здесь ошибку. Но кто может поручиться, что вторые контрольные службы считают так же – и третьи, и далее, все остальные?
– Может быть, – сказал К. – Я предпочитаю не вдаваться в подобные рассуждения, кроме того, я вообще в первый раз слышу об этих контрольных службах и, естественно, еще не могу в них разобраться. Я только полагаю, что здесь имеется две стороны, которые следует различать: это, во-первых, то, что происходит внутри служб и что может быть истолковано так или иначе, но опять-таки с точки зрения служебной, и, во-вторых, – моя реальная личность, я, причем этот «я» существует вне ваших служб, этому «я» ваши службы грозят причинить ущерб, и это было бы настолько нелепо, что я все еще не могу поверить в серьезность такой опасности. Что касается первого, то тут, вероятно, все обстоит так, как вы, господин староста, с таким ошеломляющим, незаурядным знанием дела рассказываете, но только я хотел бы теперь услышать что-нибудь и о себе.
– К этому я и перехожу, – сказал староста, – но вы не сможете меня понять, если я не предпошлю этому еще кое-что. Уже даже то, что я упомянул сейчас контрольные службы, было преждевременно. Я возвращаюсь, следовательно, к разногласиям с Сордини. Как уже было упомянуто, мое сопротивление постепенно ослабевало. Но если Сордини получает в руки хотя бы самое малое преимущество над кем-то, то уже – он победил, потому что тогда еще больше возрастают его внимательность, энергия, находчивость, и он тогда для атакованных – ужасающая, а для врагов этих атакованных – величественная фигура. Это последнее я тоже испытал – в других случаях, только поэтому я могу рассказывать о Сордини так, как я это делаю. Впрочем, мне никогда еще не удавалось увидеть его собственными глазами, он не может спускаться сюда, он слишком завален работой; в его комнате – мне ее так описывали – вдоль всех стен высятся колонны из толстых, сложенных друг на друга папок с документами, причем это только те документы, которые у Сордини непосредственно в работе, и так как документы беспрерывно вынимаются, а другие – добавляются, и все делается в большой спешке, то колонны беспрерывно рушатся, и именно эти постоянные, часто друг за другом следующие обвалы сделались отличительной особенностью комнаты Сордини. Ну, Сордини – работник, этого у него не отнять, и в самом мелком деле он проявляет такую же тщательность, как и в самом большом.
– Господин староста, – перебил К., – вы постоянно называете мое дело одним из самых мелких, однако же многие чиновники над ним очень серьезно потрудились, и если вначале оно, может быть, и было самым мелким, то теперь, благодаря усердию чиновников вроде господина Сордини, оно стало большим делом. К сожалению. И совсем против моего желания, ибо мое тщеславие не требует, чтобы воздвигались и рушились колонны относящихся ко мне документов, мне достаточно быть маленьким землемером и тихо работать за маленьким столиком.
– Нет, – сказал староста, – дело это не большое. В этом смысле у вас нет оснований для жалоб: ваше дело – одно из мельчайших среди самых мелких. Объем работы не определяет значимость дела – если вы так думаете, то вы еще далеки от понимания инстанций. Но даже если бы все сводилось к объему работы, то и тогда ваше дело было бы одним из ничтожнейших, самых заурядных, потому что по другим делам – без так называемых «ошибок» – работы намного больше, разумеется, она и намного продуктивнее. Впрочем, вы же еще ничего не знаете о той работе, которая в действительности привела к возникновению вашего дела, я же только сейчас начинаю о ней рассказывать. Так вот, вначале Сордини оставил меня в покое, но появились его чиновники, и в господском трактире ежедневно шли под протокол допросы авторитетных членов общины. Большинство держалось меня, только некоторые заупрямились; землемерский вопрос крестьянину близок, они заподозрили какие-то тайные сговоры, несправедливости, к тому же нашелся и вождь, – и у Сордини из их показаний должно было составиться убеждение, что если бы я вынес вопрос на совет общины, то не все были бы против приглашения землемера. Таким образом то, что было само собой разумеющимся, а именно: что никакого землемера не нужно – постепенно сделалось по меньшей мере сомнительным. Особенно отличился при этом один такой Брунсвик – вы его, наверное, не знаете, – он, может быть, человек и неплохой, но глуп и с фантазиями; он зять Лаземана.
– Кожевника? – спросил К. и описал бородача, которого он видел у Лаземана.
– Да, это он, – подтвердил староста.
– Я и его жену знаю, – сказал несколько наобум К.
– Это возможно, – произнес староста и замолчал.
– Она красивая, – продолжал К., – но немного бледная и болезненная. Она, наверное, из Замка? – сказано это было полувопросительно.
Староста посмотрел на часы, налил в ложку лекарство и поспешно проглотил.
– Вы, наверное, в Замке только канцелярские порядки знаете? – грубо спросил К.
– Да, – сказал староста, иронически и в то же время благодарно усмехнувшись. – Но это и самое важное. А что касается Брунсвика, то если бы мы могли исключить его из общины, почти все мы были бы счастливы, и Лаземан не меньше других. Но тогда Брунсвик приобрел некоторое влияние; он хоть и не оратор, но крикун большой, а многим и этого довольно. И дошло до того, что я был вынужден представить дело совету общины; впрочем, вначале это был единственный успех Брунсвика, так как, естественно, абсолютное большинство совета и слышать не хотело ни о каком землемере. С тех пор уже тоже прошло много лет, но за все это время дело так и не затихло, отчасти из-за добросовестности Сордини, который с помощью тщательнейших расследований пытался выяснить побудительные мотивы как большинства, так и оппозиции, отчасти из-за глупости и тщеславия Брунсвика, который, имея всякие личные связи с инстанциями, приводил их в действие все новыми выдумками, порожденными его фантазией. Сордини, разумеется, не дал Брунсвику обмануть себя – как мог бы Брунсвик обмануть Сордини? – но именно для того, чтобы не дать обмануть, нужны были новые расследования, а еще прежде, чем они заканчивались, Брунсвик уже опять изобретал что-нибудь новое – он в самом деле очень инициативен, это одна из сторон его глупости. И вот теперь я подхожу к одному особому свойству аппарата наших инстанций. Соответственно своей точности, он в то же время и крайне чувствителен. Если какой-либо вопрос рассматривается очень долго, то может случиться (даже еще до того, как рассмотрение будет окончено), что в каком-то непредсказуемом и впоследствии уже неустановимом месте вдруг молниеносно появляется резолюция, которая этот вопрос – хотя в большинстве случаев и очень правильно, но тем не менее все-таки произвольно – закрывает. Получается так, словно аппарат инстанций больше уже не выдерживает этого напряжения, этого длящегося годами возбуждения, вызванного одним и тем же, может быть, незначительным по существу вопросом, и сам по себе без участия чиновников принимает решение. Разумеется, чуда не происходит, и, конечно, какой-то чиновник пишет резолюцию или принимает решение не записывая, но, так или иначе, установить – по крайней мере, нам здесь, да даже и самим службам, – какой чиновник и из каких соображений принял в данном случае решение, невозможно. Только контрольные службы – много позже – установят это, но мы об этом уже не узнаем, да, впрочем, тогда это уже вряд ли кого и заинтересовало бы. Так вот, эти решения, как уже говорилось, большей частью превосходны, неприятно в них только то, что, как обычно в таких делах бывает, узнают об этих решениях слишком поздно, и поэтому в то время, когда вопрос уже давно решен, его все еще горячо обсуждают. Я не знаю, было ли в вашем случае вынесено подобное решение, многое говорит в пользу такого предположения, многое – против, но если бы это случилось, то вам было бы послано приглашение, и вы проделали бы большое путешествие сюда, при этом прошло бы много времени, а здесь пока что Сордини над этим же самым делом все бы еще работал до изнеможения, Брунсвик интриговал, и оба бы мучили меня. Я только указываю на такую возможность, а вот что я знаю наверняка: за это время одна из контрольных служб обнаружила, что отдел А много лет назад направил в общину запрос, на который до сих пор не получено ответа. Снова запросили у меня, и тут уж все дело, конечно, выяснилось; отдел А удовлетворился моим ответом, что никакого землемера не требуется, а Сордини должен был признать, что он в этом случае был некомпетентен и, хотя его вины в этом нет, проделал много ненужной изнурительной работы. И если бы, как всегда, не стекалась со всех сторон новая работа, и если бы ваше дело не было все-таки очень мелким делом, можно даже сказать – мельчайшим среди мелких, то, наверное, все бы мы наконец облегченно вздохнули, я думаю, даже и сам Сордини. Один Брунсвик злился, но это было только забавно. И вот представьте себе, господин землемер, мое разочарование, когда теперь, после счастливого окончания всего этого дела (а с тех пор уже снова прошло много времени), вдруг появляетесь вы, и, похоже, все может начаться сначала. Вы, очевидно, понимаете, что я твердо намерен – насколько это будет от меня зависеть – ни в коем случае этого не допустить?
– Конечно, – кивнул К., – но еще лучше я понимаю, что здесь в отношении меня и, может быть, даже в отношении законов допущено ужасающее злоупотребление. Однако я свои интересы сумею защитить.
– Как вы собираетесь это делать? – спросил староста.
– Этого я не могу раскрыть, – заявил К.
– Я не хочу быть назойливым, – сказал староста, – я только обращаю ваше внимание на то, что в моем лице вы имеете – я не хочу сказать «друга», так как мы совершенно чужие, но в известном смысле – компаньона. Я лишь не допущу, чтобы вас приняли на службу в качестве землемера, в остальном же вы всегда можете рассчитывать на меня – правда, только в пределах моей власти, которая невелика.
– Вы все время говорите о том, – сказал К., – что я еще должен быть принят в качестве землемера, но ведь я уже принят. Вот письмо Кламма.
– Письмо Кламма, – повторил староста. – Оно ценно и внушает почтение благодаря подписи Кламма, которая кажется подлинной, но в остальном… однако я сам не решусь высказываться о нем. Мицци! – позвал он – и сразу вслед за тем: – Что это вы там делаете?
Столь долго остававшиеся без надзора помощники и Мицци, очевидно не найдя нужного документа, решили снова запереть все в шкаф, но из-за обилия беспорядочно наваленных бумаг им это не удалось. Тогда, по-видимому, у помощников возникла идея, которую они теперь и осуществляли. Они положили шкаф на пол, свалили в него все документы, затем уселись вместе с Мицци на дверцы и таким способом пытались их постепенно прижать.
– Документ, значит, не нашли, – сказал староста. – Жаль, но всю историю вы ведь уже знаете, так что он нам, собственно, больше и не нужен, впрочем, он, конечно, еще найдется, он, наверное, у учителя – у него там очень много документов. Но иди же сюда со свечой, Мицци, и прочти со мной это письмо.
Мицци подошла. Теперь, сидя на краешке кровати и прижимаясь к сильному, полному жизни мужу, обнимавшему ее за плечи, она казалась еще более седой и невзрачной. Только на ее маленьком лице резко выступили теперь в свете свечи отчетливые, жесткие линии, смягченные лишь старческой дряблостью. Едва заглянув в письмо, она легонько всплеснула руками. «От Кламма», – сказала она. Потом они вместе прочли письмо, пошептались немножко между собой, и наконец (в это время помощники как раз закричали «ура!» – они дожали все-таки дверцы шкафа, и Мицци молча благодарно на них оглянулась), староста сказал:
– Мицци полностью разделяет мое мнение, и теперь я, пожалуй, решусь высказаться. Это письмо – вообще не официальная бумага, а просто частное письмо. Это ясно можно видеть уже по обращению «глубокоуважаемый господин!». Кроме того, в нем ни одним словом не сказано, что вы приняты в качестве землемера, напротив, там лишь вообще говорится о господской службе, да и это высказано не как обязательство, а лишь так, что вы приняты «как вы знаете», то есть труд доказывания того, что вы приняты, возложен на вас. Наконец, в плане службы вам указывают исключительно на меня, старосту, как на вашего непосредственного начальника, который должен сообщить вам все подробности, что в основном уже и сделано. Для того, кто умеет читать официальные бумаги и, вследствие этого, еще лучше читает неофициальные письма, здесь все более чем ясно. То, что вы, чужак, этого не улавливаете, меня не удивляет. В общем, это письмо означает только то, что Кламм имеет намерение лично позаботиться о вас в случае, если вы будете приняты на господскую службу.







