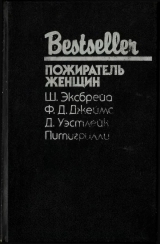
Текст книги "Пожиратель женщин (Сборник)"
Автор книги: Филлис Дороти Джеймс
Соавторы: Дональд Эдвин Уэстлейк,Шарль Эксбрайя,
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
– Понимаю, понимаю. – Ливайн с трудом выбрался из кресла. – Очень вам благодарен.
– Не стоит, – отмахнулся управляющий и засеменил за Ливайном к двери. – Это все, чем я мог помочь.
– Еще раз благодарю, – произнес Ливайн.
Он вышел в коридор и остановился, обдумывая ситуацию. Сзади щелкнул замок двери. Ливайн повернулся, прошел по коридору к квартире Грубера и постучал.
Как он и полагал, в квартире для наблюдения на некоторое время был оставлен полицейский. Когда тот открыл дверь, Ливайн показал ему удостоверение и сказал:
– Я веду расследование по этому делу. Мне хотелось бы еще раз осмотреть место.
Полицейский впустил его, и Ливайн стал внимательно перебирать личные вещи Грубера. Наконец на дне ящика кухонного стола он нашел пять записных книжек. Четыре были полностью исписаны четким и– аккуратным почерком, а пятая оказалась исписанной лишь наполовину. Ливайн отнес блокноты на карточный столик, отодвинул пишущую машинку, сел и начал их бегло перелистывать.
Он нашел то, что искал, в середине третьего блокнота. Описание Ларри Перкинса, сделанное человеком, только что убитым Перкинсом. Описание, или, скорее, исследование характера, занимавшее четыре страницы, начиналось с внешнего портрета и переходило к обсуждению личности Перкинса. Ливайн обратил особое внимание на последнюю часть этой записи: «Ларри не хочет писать, он хочет быть писателем, а это разные вещи. Он жаждет романтического ореола, славы и денег и думает, что добьется этого, став писателем. Вот почему он поверхностно занимался театром, живописью и всеми другими так называемыми изящными искусствами. Передо мной и Ларри стоит одна и та же преграда: ни один из нас не может сказать что-то особенное, заслуживающее внимания. Разница между нами в том, что я стараюсь найти, что сказать, а Ларри хочет выехать лишь на одной бойкости. Однажды он поймет, что потерпел поражение на этом пути. И этот день будет для него роковым».
Ливайн закрыл блокнот, взял последний, тот, что был не до конца исписан, и перелистал его. Одно слово в этом блокноте привлекло его внимание: «Нигилизм». Грубер явно ненавидел это слово и в то же время боялся его. «Нигилизм – это смерть, – было написано на одной странице. – Это вера в то, что убеждений не существует, что нет задачи, стоящей того, чтобы тратить на нее время. Может ли писатель так считать? Литература – это положительное действие. Как же можно ее использовать во имя отрицательных целей? Выражение нигилизма есть смерть. Если я не могу сказать ничего Обнадеживающего, я вообще не должен говорить».
Ливайн положил записные книжки обратно в ящик кухонного стола, поблагодарил полицейского и пошел к машине. Он надеялся, что заполнит пробелы в характеристике Перкинса с помощью записных книжек Грубера, но, по-видимому, определить личность Перкинса представлялось Груберу таким же трудным делом, как сейчас Ливайну. Он узнал многое о покойном: тот был искренним, сильно чувствующим, требовательным к себе, насколько к этому способен молодой человек, и все же Перкинс все еще оставался для него загадкой. «Бойкость», – так сказал Грубер. Но что скрывалось за этой бойкостью? Способность убить, а потом признаться? Или что-то еще?
Ливайн сел в машину и направился в сторону Манхэттена.
Профессор Харви Стоунгелл находился в аудитории, когда детектив появился в Колумбийском университете, но девушка, сидевшая за столом перед кабинетом декана, сказала ему, что Стоунгелл буквально через несколько минут выйдет из аудитории и будет некоторое время свободен.
Дверь кабинета была закрыта, так что Ливайн ждал в коридоре, наблюдая за студентами, спешащими по своим делам.
Профессор появился примерно минут через пятнадцать в сопровождении двух студентов. Это был высокий и стройный человек с удлиненным лицом и густой пепельной шевелюрой. Ему можно было дать и пятьдесят, и семьдесят лет. Одет он был в твидовый пиджак с кожаными вставками на локтях и широкие серые брюки.
– Профессор Стоунгелл? – спросил Ливайн.
– Да.
Ливайн представился и показал свое удостоверение.
– Мне хотелось бы поговорить с вами несколько минут.
– Пожалуйста. Только извините, я сейчас...
Стоунгелл дал книгу одному из студентов, указывая, какие разделы тот должен прочитать, и объяснил другому студенту, почему тот не получил удовлетворительной оценки за последнее задание.
Когда студенты ушли, Ливайн прошел в тесный узкий кабинет Стоунгелла и сел за стол.
– Вы по поводу моих студентов? – спросил профессор.
– Двух из них. С вашего вечернего курса. Грубер и Перкинс.
– Эти двое? Что с ними, они попали в беду?
– Боюсь, да. Перкинс признался, что убил Грубера.
Узкое лицо Стоунгелла побледнело.
– Грубер умер? Убит?
– Перкинсом. Он отдал себя в руки правосудия после случившегося. Но, буду с вами откровенен, меня тревожит один момент. Не могу этого объяснить. Вы знали обоих. Я подумал, что вы могли бы кое-что рассказать мне.
Стоунгелл закурил сигарету, предложил Ливайну, но тот отказался. Он бросил курить вскоре после того, как его стало беепокоить сердце.
– Надо немного подумать, – сказал через минуту Стоунгелл. – Грубер и Перкинс... Они оба были хорошими студентами в моей группе, возможно, даже лучшими. И были хорошими приятелями.
– Я слышал, что они дружили.
– Между ними было дружеское соревнование, – продолжал Стоунгелл. – Стоило одному начать работу, как и другой принимался за подобную, стремясь превзойти друга-соперника. Впрочем, это скорее касалось Перкинса, чем Грубера. И они всегда занимали противоположные позиции в любом вопросе и кричали друг на друга, словно заклятые враги. Но на самом деле были очень близкими людьми. Я не могу себе представить, как один из них мог убить другого.
– Был ли Грубер похож на Перкинса?
– Можно ли так сказать? Нет, они были совершенно непохожи. Старая история о том, что противоположности притягиваются. Грубер был, несомненно, более чувствительным и искренним. Я не хочу этим сказать, что Перкинс был совершенно бесчувственным и неискренним. Перкинсу свойственны чувствительность и искренность, но они были почти исключительно направлены на него самого. Все соотносил с собой, со своими чувствами и желаниями. Грубер был гораздо шире, его чувствительность была обращена к внешнему миру, к чувствам других людей. Все это можно проследить по их произведениям. Сила Грубера заключалась в глубокой мотивации образов, в тонком изображении взаимоотношений между персонажами. Перкинс отличался бойкостью в создании и развитии динамических сюжетов. Но его характерам не хватало глубины. В действительности, его ничто не интересовало, кроме самого себя,
– Судя по всему, он не из тех парней, кто спешит сознаться в совершенном убийстве.
– Я понимаю, что вы имеете в виду. Да, Это на него не похоже. Не думаю, что Перкинс способен испытывать угрызения совести. Скорее, он из тех, кто считает, что преступник лишь тот, кто пойман.
– Однако не мы поймали его. Он сам пришел к нам.
Ливайн рассматривал названия книг на полке позади Стоунгелла.
– А что вы можете сказать об их психическом состоянии в последние дни? – спросил он. – В общих чертах, конечно. Были они счастливы или несчастливы, раздражительны или довольны?
– Думаю, оба они были немного подавлены, – сказал Стоуйгелл. – Хотя по разным причинам. Оба вернулись из армии менее года назад и приехали в Нью-Йорк, чтобы попытаться стать писателями. Груберу трудно давался сюжет. Мы говорили об этом несколько раз.
– А Перкинс?
– Подобные проблемы его особенно не волновали. Он, как я уже говорил, писал довольно ловко и искусно, но все это было поверхностно. Думаю, они действительно могли ссориться. Перкинс видел, что у Грубера были сила и искренность, которых недоставало ему, а Грубер считал, что Перкинс свободен от исканий и сомнений, так сильно мешающих ему, Груберу.
В прошлом месяце они говорили о том, что бросят колледж, вернутся домой и забудут обо всех этих вещах. Но никто из них не сделал этого, по крайней мере до сих пор. Грубер не мог, потому что желание писать было слишком сильно в нем, Перкинс, потому что очень хотел стать знаменитым писателем.
– Год может показаться прекрасным мгновением, когда получаешь все, к чему стремишься, – заметил Ливайн.
Стоунгелл улыбнулся.
–Когда вы молоды, – сказал он, – год может показаться вечностью. Терпение – атрибут старости.
– Полагаю, вы правы. Что вы можете сказать о подругах или других людях, которые знали их?
– Есть здесь одна девушка, они оба с ней встречались. Опять соперничество. Не думаю, что это было что-то серьезное, но сильным было желание отбить ее друг у друга.
– Вы знаете ее имя?
– Да конечно. Она училась в одной группе с Перкинсом и Грубером. Попробую найти ее домашний адрес.
Стоунгелл достал с полки ящик с небольшой картотекой и просмотрел ее.
– Вот, нашел, – сказал он. – Ее зовут Анна Мария Стоун. Живет на Гроув-стрит. Пожалуйста.
Детектив взял карточку у Стоунгелла, записал имя и адрес.
– Извините за беспокойство, – сказал он.
– Не стоит, – ответил Стоунгелл, вставая. Он протянул руку, и Ливайн, пожимая ее, отметил, что она красивая и тонкая, но удивительно сильная.
– Не знаю, могу ли я вам еще чем-то помочь,—сказал профессор.
– Не думаю, – проговорил Ливайя. —Это было бы пустой тратой вашего времени. Перкинс, в конце концов, сознался.
– Еще... – начал Стоунгелл.
Ливайн кивнул.
– Знаю. Это то, что дало бы мне лишнюю работу.
– Если бы вы знали, о чем я думаю. Все происшедшее представляется мне выдумкой, фантазией. Два молодых студента, к которым я проявлял интерес, должны были ходить по земле спустя полвека после моей смерти, и вдруг вы говорите мне, что одного из них нет в живых, а другой все равно что мертв. Это не укладывается в голове. Они не придут сегодня вечером на занятия – нет, я еще не могу поверить в это.
Анна Мария Стоун жила в квартире на пятом этаже дома без лифта, на Гроув-стрит в Гринвич-Виллидж. Ливайн запыхался, пока достиг третьего этажа, и остановился на минуту, чтобы отдышаться и дать успокоиться своему сердцу. Не было звукав мире более громкого, чем биение его собственного сердца в эти дни, когда это биение ускорялось или становилось слишком неровным, что вызывало у детектива такой страх, какого он не испытывал за все двадцать четыре года службы в полиции.
Наконец он добрался до пятого этажа и постучал в дверь квартиры 5Б. Изнутри донесся неясный шум, открылся смотровой глазок, и на него подозрительно уставился голубой глаз.
– Кто там? – спросил приглушенный голос.
– Полиция, – ответил Ливайн. Он вытащил свой бумажник и поднял его высоко, так, чтобы глаз в смотровом глазке мог видеть удостоверение.
– Секунду, – произнес глухой голос, и смотровой глазок закрылся.
Послышалось лязганье отпираемых замков, дверь открылась, и невысокая стройная девушка с белокурым хвостом, одетая в розовые эластичные брюки и серый пушистый свитер, жестом предложила Ливайну войти.
– Возьмите кресло, – сказала она, закрывая за ним дверь.
– Благодарю вас.– Ливайн опустился в весьма неудобное корзинообразное кресло, а девушка села на такое же лицом к нему. Казалось, ей там вполне удобно.
– В чем я провинилась? – спросила она его. – Неосторожно перешла улицу или что-нибудь еще?
Ливайн улыбнулся. Почему это люди обычно считают себя в чем-то провинившимися, если полиция заходит к ним?
– Нет, – ответил он. – Это касается двух ваших друзей: Эла Грубера и Ларри Перкинса.
– Этих двух?
Девушка выглядела спокойной. Она была слегка заинтригована, но отнюдь не встревожена. Видно было, что ей не о чем больше думать, кроме как о неосторожном переходе улицы.
– Что они натворили?
– Как близки вы были с ними?
Девушка пожала плечами.
– Я была в их обществе, только и всего. Мы вместе учились в «Колумбии». Они оба хорошие парни, но ничего серьезного ни с одним из них у меня не было.
– Не знаю, как сказать вам об этом, – начал было Ливайн. Чтобы не так сразу. – Он немного помолчал. – Вскоре после полудня Перкинс сдался полиции, заявив, что он только что убил Грубера.
Девушка вытаращила на него глаза. Дважды она пыталась что-то произнести, но так ничего и не сказала. Молчание затягивалось, и только тут Ливайн подумал, правду ли говорила девушка, может быть, все-таки было что-то серьезное в ее отношениях с одним из этих парней. Затем она замигала и отвернулась от него, чтобы откашляться. Секунду пристально смотрела в окно, потом повернулась и сказала:
– Он морочит вам гОлову.
Детектив покачал головой:
– Мне бы также этого хотелось.
– Иногда у Ларри бывали странные проявления чувства юмора, – сказала она. – Это всего лишь отвратительная шутка. И, как всегда, по поводу Эла. Вы ведь не нашли тело?
– Боюсь, нашли. Он был отравлен, и Перкинс признался, что именно он дал ему яд.
– Эту маленькую бутылочку Эл всегда держал рядом. Это была только шутка. Ничего более.
Она еще немного подумала, пожала плечами, как бы колеблясь – верить или не верить, и затем обратилась к нему:
– Почему вы пришли ко мне?
– Не знаю, говорить ли вам? Какое-то ощущение неправдоподобия. Что-то в этом деле не так, но что, я не знаю. Здесь нет ни капли логики, Я не могу ничего добиться от Перкинса, и слишком поздно что-нибудь добиваться от Грубера. Но чтобы понять случившееся, необходимо лучше узнать этих людей.
– И вы хотите, чтобы я рассказала вам о них?
– Откуда вы узнали обо мне? От Ларри?
– Нет, он совсем о вас не упоминал. Я полагаю, инстинкт джентльмена. Я разговаривал с вашим учителем, профессором Стоунгеллом.
–Да, да. – Она вдруг поднялась одним резким и быстрым движением, будто вспомнила о чем-то важном.– Хотите кофе?
– Благодарю вас, с удовольствием.
– Идемте. Мы можем разговаривать, пока я буду его готовить.
Ливайн последовал за ней через квартиру. Коридор привел их из узкой длинной гостиной мимо спальни и ванной в крошечную кухню. Она готовила и рассказывала:
– Они хорошие друзья. Я хотела сказать, что они были хорошими друзьями. И в то же время как они отличаются друг от друга! Ей-Богу! Простите, я все время путаю прошлое и настоящее.
– Говорите так, как будто они оба живы, сказал Ливайн. – Это, должно быть, легче.
– Я действительно никак не могу поверить в другое, – сказала она. – Эл... он намного скромнее, чем Ларри, хотя по-своему сильно чувствовал. У него был как бы перевернутый комплекс мессианства. Понимаете, он представлял себе, что станет великим писателем, но боялся, что у него нет достаточно материала для этого. Муки и попытки анализировать себя, ненависть ко всему написанному, потому что считает: все недостаточно хорошо. Склянка с ядом– это обман и вместе с тем одна из тех шуток, в которых есть доля истины. Эти мысли, постоянно его угнетающие, видимо, и привели к выводу, что смерть не худший выход.'
Она закончила готовить кофе и стояла, как бы осмысливая свои собственные слова.
– Теперь он нашел выход, не так ли? Я не удивлюсь, если окажется, что он попросил Ларри привести приговор в исполнение.
– Вы предполагаете, что он попросил Ларри об этом?
Она покачала головой:
– Нет, во-первых, Эл вообще никого не мог просить ни о какой помощи. Я это знаю, потому что, когда я пару раз пыталась заговорить с ним на эту тему, он просто слушать об этом не мог. Не то чтобы не хотел, не мог – и все. Он считал, что сам должен всего добиться. Ларри же не отличается альтруизмом, и к его помощи прибегнуть можно в самом крайнем случае. В действительности Ларри неплохой парень. Он только ужасно эгоцентричный. Они оба такие, но по-разному, Эл искал свое место в мире, был всегда недоволен собой, терзался этим, а Ларри всегда гордился собой. Знаете, Ларри мог сказать: «Для меня главное – это я», а Эл мог спросить: «Стоящий ли я человек?»
– Может быть, между ними произошла ссора на днях или еще что-нибудь вроде этого, что могло толкнуть Ларри на убийство?
– Ни о чем таком я не знаю. Они становились все более и более подавленными, но никто из них не упрекал другого. Эл корил себя за то, что у него ничего не получается, а Ларри проклинал глупость мира. Вы знаете, Ларри хотел делать то же самое, что Эл, но Ларри не тревожил вопрос: достоин ли он этого, есть ли у него способности. Он дважды сказал мне, что хочет стать знаменитым писателем и станет им, даже если для этого потребуется ограбить банк, чтобы подкупить издателей, редакторов критиков. Это шутка, конечно, похожая на бутылку с ядом Эла, но я думаю, что в этой шутке также была доля истины. – Кофе готов. – Она налила две чашки и села напротив. Ливайн добавил в кофе немного сгущенного молока и рассеянно его помешивал.
– Я хочу знать, почему, – сказал он. – Это покажется странным. Считают, что полицейские хотят знать кто, но не почему. Я знаю кто, но хочу знать почему. Ларри единственный, кто мог бы рассказать вам, но не думаю, что он это сделает.
Детектив выпил немного кофе и поднялся.
– Не возражаете, если я позвоню от вас? – спросил он.
– Идите прямо. Телефон в гостиной, около книжного шкафа.
Ливайн вернулся в гостиную и позвонил на службу. Он попросил Кроули и, когда его коллега подошел, поинтересовался:
– Перкинс уже подписал признание?
– Скоро подпишет. Его только что отпечатали.
– О’кей, задержите его там, когда он подпишет. Хочу поговорить с ним. Я на Манхэттене, сейчас возвращаюсь.
– Чего ты хочешь добиться?
– Я не уверен, что чего-нибудь добьюсь. Просто хочу поговорить в Перкинсом еще раз.
– Что тебя тревожит? У нас есть труп, есть признание, есть убийца. Зачем же создавать самому себе работу?
– Не знаю. Может, это все и лишнее.
– О’кей, я задержу его. В той же комнате, что и раньше.
Ливайн вернулся в кухню.
– Благодарю за кофе, – сказал он. – Если вам больше нечего мне сказать, то я вас покидаю.
– Нечего, – сказала она. —Ларри теперь единственный, кто мог бы сказать вам что-то еще.
Она проводила его до входной двери, и он, уходя, опять поблагодарил ее.
Вернувшись в участок, Ливайн зашел за переодетым в штатское детективом Рикко, высоким, атлетически сложенным человеком лет тридцати пяти. Он скорее походил на сотрудника районной прокуратуры, чем на полицейского. Ливайн предложил ему принять участие в игре, и они оба отправились в комнату, где дожидались Перкинс и Кроули.
– Перкинс, – начал Ливайн. С минуту он ходил по комнате, давая Кроули возможность вступить в игру, тот что-то начал рассказывать Рикко, – это Дан Рикко, репортер из «Дейли-ньюс».
Перкинс взглянул на Рикко с явным интересом. Ливаин про себя отметил, что это первое проявление неподдельного интереса.
– Репортер?
– Да, – сказал Рикко. Он взглянул на Ливайна. – А это кто?-
Он играл убедительно.и изящно.
– Студент Ларри Перкинс, – ответил Ливайн, сделав ударение на имени. – Он отравил своего товарища, тоже .студента.
– О, вот как. – Рикко мельком взглянул на Перкинса. – Из-за чего? – спросил он, обращаясь к Ливайну. – Девушка? Ревность?
—Думаю, нет. Тут скорее некое интеллектуальное побуждение. Они оба хотели стать писателями.
Рикко пожал плечами:
– Два парня – конкуренты в одном деле? И притом такие горячие?
– Главное, – подчеркнул Ливайн.– Перкинс мечтает быть знаменитым. Он хотел прославиться, став знаменитым писателем, но из этого ничего не вышло. Тогда он решил Стать знаменитым убийцей.
Рикко взглянул на Перкинса.
– Это верно?
Перкинс сердито посмотрел на них, особенно на Ливайна:
– Какая разница?
– Парнишка плачет по электрическому стулу, – сказал Ливайн с грустной иронией. – У нас есть подписанное им признание. Дело закончено. Но я испытываю к нему симпатию, и мне не хотелось бы, чтобы он ушел из жизни, не добившись того, к чему так стремился. Я подумал, не смогли бы вы дать что-нибудь о нем на второй полосе под хорошим заголовком, такое, чтобы он мог повесить на стене своей камеры?
Рикко хмыкнул и покачал головой.
– Никакой возможности, – сказал он. – Даже если я напишу большой рассказ, редакция может оставить от него лишь пару строк. Такого рода истории стоят десять центов дюжина. Люди убивают друг друга по всему Нью-Йорку двадцать четыре часа в сутки. Если это не представляет большого сексуального интереса, если это не одно из массовых убийств, вроде того случая с парнем, который подложил бомбу в самолет, то убийца в Нью-Йорке – довольно заурядное явление. И кому он нужен весной, когда танцевальный сезон в самом разгаре?
–Но у вас же есть влияние в газете, Дан,—сказал Ливайн.—Может, вы, по крайней мере, дадите телеграфное сообщение об этом случае.
– Ни шанса на миллион. Таких преступлений в Нью-Йорке каждый год сотни. Очень жаль, Эйб, хотелось бы сделать для вас что-нибудь, но ничего не получится.
Ливайн вздохнул.
– О’кей, Дан, – произнес он. – Раз вы так говорите.
– Еще раз простите. – Рикко улыбнулся Перкинсу.
Ты уж извини, парень. Вот если бы ты прирезал певичку или что-нибудь в этом роде...
Когда Рикко ушел, Ливайн мельком взглянул на Кроули, который усердно дергал себя за мочку уха и выглядел весьма озадаченным. Ливайн сел лицом к Перкинсу:
– Ну?
– Дайте мне минуту, – огрызнулся Перкинс. – Я хочу подумать.
– Я был прав, не так ли? – спросил Ливайн. – Вы хотели сгореть в пламени славы?
– Верно, верно! Эл выбрал свой путь, а я свои. Какая разница?
– Никакой разницы, – сказал Ливайн. Он устало поднялся и направился к двери. – Я отошлю вас обратно в камеру.
– Послушайте, – сказал вдруг Перкинс. – Знаете ли, я не убивал его. Понимаете, он покончил жизнь самоубийством.
Ливайн открыл дверь и направился к двум полицейским, ожидавшим в коридоре.
– Подождите! – В голосе Перкинса звучало отчаяние.
– Знаю, знаю, – сказал Ливайн. – Грубер действительно сам покончил с собой, и я предполагаю, что вы сожгли записку, которую он оставил.
– Вы меня осуждаете за это?
– Плохо твое дело, парень.
Перкинс не хотел уходить. Ливайн с невозмутимым видом наблюдал, как его уводили, затем позволил себе расслабиться. Он опустился на стул и стал задумчиво рассматривать вены на руках.
Кроули прервал молчание:
– Что все это значит, Эйб?
– Только то, что ты слышал.
– Грубер – самоубийца?
– Они оба.
– Что лее мы будем теперь делать?
– Ничего. Мы провели расследование, получили признание, произвели арест. Теперь все сделано.
– Но...
– Но черт возьми! – Ливайн свирепо посмотрел на своего коллегу. – Этот маленький обман преследовал определенные цели, Джек. Он хотел признаться в преступлении и заработать электрический стул. Он сам выбрал себе судьбу. Это был его выбор. Я не торопил его: он сам выбрал свой собственный конец. И получит то, чего хотел.
– Но послушай, Эйб...
– Не хочу ничего слушать!
– Дай мне сказать хоть слово.
Ливайн вдруг вскочил, и все, что так долго накапливалось у него внутри, вырвалось наружу: и негодование, и ярость, и разочарование.
Черт возьми! Ты этого еще не понимаешь. У тебя в запасе еще лет шесть-семь. Ты не знаешь, что -значит каждый раз, проснувшись утром в постели, лежать, вслушиваться в неровное биение своего сердца и со страхом ожидать смерти! Ты не знаешь, что значит чувствовать, как твое тело начинает умирать. Оно становится старым и умирает, и все летит к чертовой матери!
– Но что же делать с...
– Я тебе скажу, что! Они сделали выбор! Оба молодые, у них сильные тела и крепкие сердца, и годы впереди, десятки лет, а они захотели расстаться со всем этим. Они захотели отбросить все то, чего у меня уже нет. Не подумай только, что я хочу последовать их примеру. Избави Бог! Но раз они выбрали смерть, так дадим им умереть!
Тяжело дыша от напряжения, Ливайн бросал фразу за фразой в лицо Кроули. Затем вдруг наступила тишина, и он услышал прерывистый шум своего дыхания и почувствовал, как через все тело, через все мускулы и нервы пробежала дрожь. Осторожно он опустился на стул, уставившись в одну точку на стене, стараясь успокоить дыхание.
Джек Кроули что-то говорил, но это было уже далеко, и Ливайн не мог его услышать. Он прислушивался к другому к самому громкому звуку во всем мире. К рваному ритму своего сердца.







![Книга Загадка белого «Мерседеса» [Сборник] автора Роберт Уэйд](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zagadka-belogo-mersedesa-sbornik-41110.jpg)
