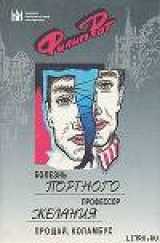
Текст книги "Болезнь Портного"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Айки, Майки, Джек и Сэм
Не едят колбас совсем!
На обед у нас маца —
Ламца-дрица, ца-ца!
Ай-ай-ай, Викуахик-Хай!
Так что подумаешь – проигрыш. Зато мы можем гордиться другим. Мы не едим колбасу. У нас маца в буфете. Конечно, на самом деле никакой мацы у нас в буфетах не было, но она могла бы там быть, если бы мы захотели, и мы не стеснялись говорить вслух правду! Мы были евреи – и мы не стеснялись говорить об этом! Мы были евреи – и потому не только не были хуже гоев, громивших нас во время футбольной игры, но напротив – мы лучше их, ибо не собирались ложиться костьми ради победы в такой дикарской игре. Мы евреи, и мы – лучше всех!
Белый хлеб и хлеб ржаной,
Пышечки и хала!
Викуахик наш родной —
Слава тебе, слава!
Хеши научил меня еще одной здравице, еще одной строфе, которая углубила мое понимание обрушивающихся на наши головы несправедливостей…
Ярость и омерзение, которое вызывали у моих родителей язычники, понемногу становилась объяснимой: гои претендовали на какой-то особый статус, в то время как на самом деле мы превосходили их в моральном отношении. А превосходство наше являлось следствием как раз той ненависти и того презрения, которое они столь щедро и с таким наслаждением обрушивали на нас.
Только как же быть тогда с ненавистью, которую мы обрушиваем на их головы?
Как быть с Хеши и Алисой? Что это означало?
Когда все средства были исчерпаны, в дом пригласили равви Уоршоу. Он явился в воскресенье, чтобы убедить нашего Хеши не превращать свою жизнь в ад. Спрятавшись в гостиной, я наблюдал за тем, как равви важной поступью поднялся на крыльцо. Этот человек в большой черной шляпе готовил Хеши к бар-мицве, и я трепетал при мысли, что когда-нибудь это предстоит и мне. Равви беседовал с непокорным мальчиком и гибнущей семьей больше часа. «Больше часа своего времени», – повторяли потом все без устали, словно одно это обстоятельство должно было переубедить Хеши. Но не успел равви ретироваться, как с нашего потолка посыпалась штукатурка, с треском распахнулась входная дверь, – и я побежал в родительскую спальню, чтобы оттуда украдкой посмотреть, что будет дальше. Во дворе Хеши рвал на себе волосы. Потом появился лысый дядя Хаим, который яростно потрясал кулаком – в ту минуту он был вылитый Ленин, клянусь! А затем появилась целая толпа тетушек и дядюшек, двоюродных братьев и сестер, вклинившихся между отцом и сыном, дабы те не стерли друг дружку в две кучки еврейского порошка.
Однажды, субботним майским днем, вернувшись с длившихся целый день соревнований на первенство штата, Хеши уже в сумерки отправился на пятачок, где обычно собиралась молодежь всей окрути, и позвонил Алисе, чтобы сообщить ей о том, что он стал третьим призером в метании копья. Она ответила ему, что больше не хочет видеть его никогда в жизни, и повесила трубку.
emp
Дома дядя Хаим ждал сына во всеоружии: он сказал, что Хеши сам вынудил его пойти на это; что Гарольд сам накликал беду на свою упрямую, глупую голову, и потому дяде Хаиму пришлось пойти на крайние меры, чтобы отвести эту беду. Вскоре сверху донесся такой грохот, словно на Ньюарк упала фугасная бомба: Хеши выскочил из квартиры, изрыгая проклятия, промчался по лестнице, пролетел мимо нашей двери, метнулся в подвал… бумм! – раздался еще один громовой раскат… Мы потом осматривали дверь и обнаружили, что Хеши ударом своего плеча – которое теперь-то уж точно было, по крайней мере, третьим по силе во всем штате – сорвал массивную дверь с петель. Из подпола незамедлительно послышался звон стекла: это Хеши разбивал одну бутылку «Скуизи» за другой, запуская ими из одного угла в противоположную свежевыбеленную стену подвала.
Когда на верхней ступеньке лестницы, ведущей в подвал, возник силуэт моего дяди, Хеши замахнулся и на него бутылкой, грозя запустить ему стеклотарой прямо в физиономию, если тот посмеет сделать хотя бы еще один шаг. Дядя Хаим пропустил угрозу мимо ушей и принялся гоняться за сыном. Хеши петлял меж колосников и стиральных машин, по-прежнему потрясая бутылкой «Скуизи». Однако мой дядя загнал его в угол, припечатал к полу и удерживал в таком положении до тех пор, пока у Хеши не иссяк весь запас ругательств – удерживал его (как гласит семейная легенда Портных) пятнадцать минут, пока на длинных голливудских ресницах Хеши не задрожали слезинки, и он, наконец, покорился. Портные не из тех, кто сдается без боя.
Оказывается, в то утро, когда Хеши был на соревнованиях, дядя Хаим позвонил Алисе Дембовски (они жили в цокольном этаже дома на Голдсмит-авеню, в котором служил швейцаром Дембовски-отец), и сказал, что хотел бы встретиться с ней в полдень у озера в парке Викуахик; что это очень срочно, поскольку речь идет о здоровье Гарольда – он, дядя Хаим, не может говорить об этом по телефону, поскольку даже миссис Портная не до конца в курсе дел. В парке он пригласил эту худющую блондинку сесть на переднее сиденье его автомобиля, поднял все стекла, чтобы никто не слышал, и поведал Алисе о том, что сын его неизлечимо болен, что у него что-то с кровью, но бедный мальчик об этом пока не знает. Такая вот история, плохая кровь, выводы делай сама… Доктор сказал, что Гарольду нельзя жениться – никогда. Никто не знает, сколько лет еще отпущено Гарольду, но мистер Портной не хотел бы сознательно обрекать на грядущие страдания такую невинную молодую девушку, как Алиса. Чтобы хоть как-то смягчить удар, он хотел бы сделать ей небольшой подарок, которым Алиса может воспользоваться по своему усмотрению – кто знает, вдруг это позволит ей найти кого-нибудь другого… И дядя вытащил из кармана конверт с пятью двадцатидолларовыми банкнотами. И перепуганная глупышка Алиса Дембовски взяла тот конверт. Подтвердив тем самым то, в чем с самого начала были уверены все, кроме Хеши (и меня): полька вынашивала план, заключавшийся в охмурении Хеши ради денег его отца, и в последующем его разорении.
Когда Хеши убили на войне, вся эта публика не нашла ничего лучшего, как смягчить горе тети Клары и дяди Хаима пронзительными словами утешения:
– По крайней мере, он не оставил вас с невесткой-шиксой. По крайней мере, он не оставил вам внуков-гоев.
Конец Хеши и его истории.
emp
Даже если я считаю себя настолько важной шишкой, что не могу соизволить зайти на пятнадцать минут в синагогу, – а это ведь все, о чем он меня просит, – то выказать элементарное уважение и не превращать себя, всю семью и мое вероисповедание в посмешище я просто обязан. И потому должен немедленно переодеться – хотя бы раз в год – в приличествующую праздничному дню одежду.
– Прошу прощения, – бормочу я, повернувшись к отцу спиной (как водится), – но то, что это – ваша религия, еще не означает того, что это и моя религия.
– Что ты сказал? Повернитесь-ка лицом к собеседнику, мистер. Я хочу удостоиться чести получить ответ лицом к лицу.
– У меня нет религии, – говорю я, любезно оборачиваясь примерно на полградуса.
– У тебя нет религии, да?
– Я не могу.
– А почему? Ты что, какой-то особенный? Смотри на меня! Ты у нас какой-то особенный, да?!
– Я не верю в Бога.
– Сними с себя эту спецовку, Алекс, и надень что-нибудь пристойное.
– Это не спецовка. Это «Левис».
– Сегодня – Рош Хашана, Алекс, и для меня твоя одежда – рабочий комбинезон. Иди сюда, надень галстук, пиджак, брюки, чистую рубашку, и постарайся выглядеть сегодня как человеческое существо. И туфли, мистер, кожаные туфли.
– Рубашка моя чистая…
– Ох, свалитесь вы с коня, мистер Шишка. Тебе четырнадцать лет, и поверь мне, ты еще не знаешь очень многого. Сними сейчас же эти мокасины! Кого, черт возьми, ты изображаешь? Индейца, что ли?!
– Послушай, я не верю в Бога и в иудаизм. Вообще ни в какую религию. Все это ложь.
– Ну да, конечно…
– И я не собираюсь делать вид, что этот праздник что-то значит для меня, когда он ничего не значит! Я все сказал!
– Может, религиозные праздники ничего не значат для тебя потому, что ты ничего о них не знаешь, мистер Большая Шишка? Что ты знаешь о Рош Хашана? Один факт? Может, два? Что ты знаешь об истории иудеев? Какое ты имеешь право называть религию, которая устраивала людей помудрее и постарше тебя на протяжении двух тысяч лет, – какое ты имеешь право называть ложью эту историю страданий и боли?!
– Бога нет и не было никогда, а потому, уж извините, из моего словарного запаса для обозначения подобных вещей более всего подходит слово «ложь».
– Тогда кто же создал Вселенную, Алекс? – спрашивает отец презрительно. – «Она просто возникла». Ты это хочешь сказать, да?!
– Алекс, – вмешивается моя сестра, – папа всего лишь хочет сказать, что если ты не хочешь идти с ним, то хотя бы переоденься…
– Но зачем?! – ору я. – Ради того, чего никогда не было?! Почему бы вам не попросить меня переодеться ради какого-нибудь бродячего кота или дерева, например? Они, по крайней мере, существуют!
– Но ты не ответил мне, мистер Образованный Умник! – напоминает отец. – Ты не увиливай от ответа. Кто создал Вселенную? И людей? Никто?!
– Вот именно! Никто!
– Ну конечно! – саркастически усмехается отец. – Великолепно. Слава Богу, что я не закончил школу, если там учат подобной ерунде!
– Алекс, – опять вмешивается сестра. Говорит она мягко, тихо – ибо ее уже сломали, – может быть, если ты просто наденешь другие туфли…
– Ханна, ты такая же, как он! Ничем не лучше! Если Бога нет, то чем помогут мои туфли?!
– Раз в году попросишь его о чем-то – а он, видите ли, выше этого. Вот каков твой брат, Ханна, вот все его уважение, вся его любовь… – причитает папа.
– Папочка, он хороший мальчик. Он уважает тебя, он любит тебя…
– А как насчет еврейского народа? – начинает орать и размахивать руками отец, надеясь, что таким образом он сможет удержаться от слез – потому что стоит в нашем доме произнести слово «любовь», как у всех глаза на мокром месте. – Еврейский народ он уважает? Примерно так же, как он уважает меня, как… как…
Отец вдруг начинает шипеть. Он обрушивается на меня, осененный новой блестящей мыслью, и шипит:
– Вот что скажи мне, образованный мой сынок: а ты знаешь Талмуд? Ты знаешь историю? Раз-два-три, прошел через обряд бар-мицвы, и на этом все твое религиозное образование закончилось. Знаешь ли ты о том, что люди посвящали всю свою жизнь изучению иудейской религии, и умирали, так и не постигнув ее до конца? Скажи мне, четырнадцатилетний отрок, отказывающийся быть евреем, – знаешь ли ты хоть что-нибудь о славной истории и великом наследии предков? О саге твоего народа?
Но первые слезинки уже покатились по его щекам, а в уголках глаз набухают новые слезы:
– В школе у него одни пятерки, а в жизни он ничего не смыслит. Наивный, как новорожденный младенец. Невежа!
Так! Похоже, время-таки пришло. И я произношу это вслух. Я произношу вслух то, о чем мне известно с недавних пор:
– Это ты невежа! Ты!
– Алекс! – кричит сестра и хватает меня за руку, словно я и вправду могу в гневе поднять ее на отца.
– Но он невежа! Со всеми своими дерьмовыми сагами!
– Тихо! Все! Хватит! – кричит Ханна. – Ступай в свою комнату…
Папа плетется на кухню, поникнув головой и как-то сгорбившись – словно в живот ему угодила ручная граната. А она в него действительно угодила. И я знаю об этом. Папа опускается за кухонный стол:
– Одевайся в тряпье, Алекс, наряжайся коробейником, заставляй меня стыдиться тебя, проклинай меня, Александр, дерзи, бей меня, обижай…
Обычно дальнейшие события разворачиваются следующим образом: мама рыдает на кухне, папа льет слезы в гостиной (спрятавшись за газетой «Ньюарк Ньюс»), сестра плачет в ванной, а я всхлипываю на бегу, пока мчусь в кегельбан на углу. Но в нынешний Рош Хашана все перепуталось, и отец рыдает в кухне, а не в гостиной – без спасительной газеты и с такой бессильной злобой, – потому что мама лежит в больнице, отходит после операции: именно этим объясняется его мучительное одиночество в праздник Рош Хашана. Именно поэтому он так нуждается в моей любви и в моем послушании. Но в это мгновение вы смело можете поставить на то, что отец своего не получит. Ибо я намереваюсь не уступать ни в чем! О да, мы побьем противника его же оружием, не так ли, Алекс, хрен ты этакий?! Да, Алекс-маленький-хрен обнаружил, что присущая отцу повседневная ранимость усугублена и обострена тем обстоятельством, что его супруга (так мне, во всяком случае, говорили) едва не отдала Богу душу, и потому Алекс-маленький-хрен, воспользовавшись моментом, вонзает кинжал своего негодования и обиды еще на несколько дюймов глубже в уже кровоточащее сердце. Александр Великий!
Нет! Дело не только в детской обиде на родителя и не в Эдиповом гневе – дело в цельности моей натуры и в моей честности! Я не сделаю того, что совершил Хеши! Все свое детство я был уверен в том, что мой могучий брат Хеши, третий по силе метатель копья во всем Нью-Джерси (какое благоговение к этому титулу, полному символики, должен испытывать растущий мальчуган, голова которого забита мечтами о гульфиках), мог запросто сбить с ног моего пятидесятилетнего дядю и припечатать его к полу – тогда, в подвале. Значит (делаю я вывод), брат проиграл своему отцу умышленно. Но почему? Ведь Хеши знал – я, маленький ребенок, и тот не сомневался в этом, – что отец его поступил подло. Может, Хеши боялся победить? Но почему, если отец его поступил самым низким образом «в интересах сына»?! Может, Хеши испугался? Струсил? Или просто поступил мудро? Как только при мне вспоминают о том, что пришлось сделать моему дяде ради того, чтобы наставить на путь истинный моего покойного двоюродного брата, или когда на меня самого вдруг нахлынут воспоминания о том дне – я неизменно ощущаю, что здесь сокрыта какая-то тайна, некая абсолютная моральная истина, знание которой могло бы уберечь меня и моего отца от предельного, совершенно невообразимого противостояния. Почему Хеши капитулировал? И должен ли я поступить так же? Но как после этого остаться «честным по отношению к самому себе»?! Ах, ну почему бы тебе не попытаться? Попытайся, хрен ты этакий! Забудь о «честности по отношению к самому себе» на полчаса!
Да, я должен уступить, я должен, тем более, что мне известно, через какие испытания пришлось пройти папе, какие муки он испытывал в течение всех этих десятков тысяч минут – с того момента, когда доктор сначала определил, что в матке моей матери образовалось некое чужеродное тело, а потом выяснилось, что это новообразование не что иное, как злокачественный…, что у мамы… – о, это слово мы не смели произносить вслух! Слово, которое мы не смели произносить – во всей его ужасающей цельности и полноте! Слово, о котором мы говорили только намеками, пользуясь эвфемистическим сокращением, придуманным самой мамой перед тем, как ее положили в больницу на обследование: Р.К. И достаточно! Про «А» мы и слышать не хотим! Какая у нас храбрая мама, говорили все родственники, каким мужеством надо обладать, чтобы произнести вслух даже две эти буквы! А ведь сколько еще целых слов, без пропущенных букв, которые произносятся шепотом за закрытыми дверями! О, сколько же их! Сколько! Уродливые холодные слова, отдающие эфиром, медицинским спиртом и больничными коридорами; слова, обладающие обаянием стерилизованных хирургических инструментов – такие, как биопсия или мазок… А еще есть слова, которые я украдкой выискивал в словарях, когда оставался дома один. Мне просто хотелось увидеть эти слова напечатанными типографским способом – что служило неопровержимым доказательством существования сокрытых за ними реалий. Этими словами были вульва, и вагина, и сервикс – слова, толкование которых никогда уже не станет для меня источником запретного удовольствия… А еще есть слово, произнесения которого мы ждем и ждем, и ждем, и ждем, слово, изречение которого вернет в нашу семью жизнь, кажущуюся теперь самой замечательной и восхитительной из всех жизней; слово, в котором слышится что-то еврейское – доброкачественная! Доброкачественная! Борух атох Адонай, пусть она окажется доброкачественной! Да святится имя твое, Господи, пусть опухоль окажется доброкачественной! Услышь, о Израиль, и смилуйся, и Бог Един, и почитай отца твоего, и почитай мать твою, – я буду, буду, клянусь, я буду – только сделай так, чтобы опухоль оказалась доброкачественной!
И опухоль оказалась доброкачественной. На прикроватной тумбочке лежит томик Перл С. Бак «Семя Дракона», тут же – стакан, наполовину наполненный имбирным лимонадом. Жара стоит невыносимая, я изнываю от жажды, и мама, которая всегда читает мои мысли, говорит мне, чтобы я не стеснялся и допил лимонад – мне он нужен больше, чем ей. Но как бы ни першило в горле, я не стану пить из стакана, которого касались ее губы – впервые в жизни сама мысль об этом внушает мне отвращение!
– Пей!
– Я не хочу.
– Посмотри, ты весь вспотел.
– Я не хочу пить.
– Нельзя становиться вежливым так сразу.
– Но я не люблю имбирный лимонад.
– Ты? Не любишь имбирный лимонад?
– Не люблю.
– С каких это пор?
О, Господи! Она жива, и значит, мы все начинаем сначала!
Она жива – и мы без промедления начинаем сначала!
Она рассказывает мне о том, что к ней приходил равви Уоршоу, и что он говорил с ней целых полчаса перед тем, – мама показывает мне жестами – перед тем, как она легла под нож. Как благородно, не правда ли? Какая забота, да? (Двадцать четыре часа только минуло с тех пор, как она отошла от наркоза, но ей уже известно о том, что я не хотел переодевать «Левисы» во время праздника!) Мамина соседка по палате, влюбленного и жадного взгляда которой я стараюсь избежать, провозглашает вдруг (хотя, насколько я помню, никто не спрашивал ее мнения), что равви Уоршоу – один из самых почитаемых людей в Нью-арке. По-чи-та-е-мых. Пять слогов, произнесенных с той же безупречной дикцией, с которой возвещает свои истины сам равви. Великий англо-пророческий стиль. Я начинаю легонько барабанить по своей бейсбольной рукавице, сигнализируя о том, что готов смыться, если только мне позволят.
– Он обожает бейсбол, – говорит моя мама миссис По-чи-та-е-мой. – Готов играть в него круглый год.
Я что-то бормочу об «игре на первенство лиги»:
– Это финал. За звание чемпиона.
– Ну хорошо, – нежно говорит мама. – Ты навестил меня, ты исполнил свой долг… Беги – беги на свой финал.
По ее голосу я понимаю, какое облегчение она испытывает от осознания того, что по-прежнему жива в этот прекрасный сентябрьский день… А для меня это разве не облегчение? Разве не об этом я молил Бога, в которого не верю? Разве можно представить нашу жизнь без мамы – без ее обедов, стирок… без всего, что она делает для нас?
Именно об этом я молился, именно об этом рыдал: чтобы мама перенесла операцию и осталась жива. А потом вернулась домой и снова стала моей единственной мамочкой.
– Беги, сынуля, – ласково говорит мама.
О, какой ласковой умеет быть моя мама! Когда я болею и не встаю с постели, мама готова играть со мной в канасту весь день напролет; представьте себе: медсестра принесла ей имбирного лимонаду, поскольку она перенесла серьезную операцию, а мама предлагает его мне, потому что мне жарко! Да, она действительно разжует для меня пищу, это доказанный факт! А я не могу посидеть возле нее пять минут.
– Беги, – говорит моя мама.
А миссис По-чи-та-е-ма-я, которая ухитрилась за несколько минут стать моим врагом на всю жизнь, миссис По-чи-та-е-ма-я начинает ободрять меня:
– Скоро мама вернется домой, скоро все будет как прежде… Беги, конечно… Они теперь все бегают, – говорит добрая и все понимающая леди – о, они теперь все добрые и понимающие, – пешком они уже не ходят, дай им Бог здоровья.
И я бегу. Как я бегу! Я бегу, не пробыв рядом с мамой и двух минут, – двух минут моего замечательного времени, хотя еще вчера доктора, задрав мамино платье (так это мне представлялось, пока мама не упомянула о «ноже», нашем ноже), выгребали какой-то ужасной лопатой из маминого чрева то, что там прогнило. Они потрошили ее – так, как сама она обычно потрошит цыпленка. А потом выбросили все в мусорное ведро. Там, где было чрево, выносившее меня, теперь осталось лишь ничто. Пустота! Бедная мама! Как я мог сбежать из ее палаты, после всего, что ей пришлось пережить? Как я могу быть таким бессердечным, когда мама даровала мне все, включая жизнь?!
– Ты ведь никогда не оставишь свою мамочку, да, сынуля?
Никогда, отвечал я, никогда, никогда, никогда…
А теперь, когда мама опустошена, я не могу даже взглянуть ей в глаза! И по сей день избегаю этого! Ох, вот ее светло-рыжие пряди, разметавшиеся по подушке длинными витыми колечками. А ведь я мог никогда уже их не увидеть! И эти глаза, светло-карие, цвета корочки медового пирога – они по-прежнему открыты, они любят меня! Эта бледные, выцветшие веснушки, которые покрывали, если верить маме, в юности все ее лицо – эти веснушки тоже могли исчезнуть навеки! И этот имбирный лимонад – даже изнывая от жажды, я не мог заставить себя выпить его.
Итак, я бегу – бегу прочь из больницы прямиком на бейсбольное поле, прямиком на самый центр бейсбольного поля. Здесь мое место в команде, которая носит шелковистую сине-золотую форму с нашитыми на спине – от плеча к плечу – белыми фетровыми буквами, складывающимися в название клуба: СИБИЗ, А.К. Благодарение Господу за «Сибиз А.К.»! Благодарение Господу за центр поля! Доктор, вы себе представить не можете, как это восхитительно – властвовать одному над всем этим пространством… Вы что-нибудь смыслите в бейсболе? Потому что «центр поля» в бейсболе – это своеобразный наблюдательный пункт, сторожевая вышка, откуда тебе видно всех и вся. С этой позиции ты видишь все перипетии игры в ту самую секунду, когда они происходят – ориентируясь не только по звуку биты, отбившей мяч, но и по стремительным перемещениям остальных игроков, срывающихся с места через мгновение после того, как мяч полетит в их сторону; и если им не удастся завладеть мячом, то ты кричишь:
– Мяч мой! Мой! – и бросаешься за ним что есть мочи.
Потому что, когда ты играешь в центре поля, то мяч действительно только твой, если, конечно, удастся его поймать. О, как непохожи мой дом и бейсбольное поле, где никто не станет покушаться на то, что я назову моим!
К сожалению, хиттер из меня не вышел – я так нервничал во время отбора новичков в сборную первокурсников и пропустил столько элементарных мячей, что наш ироничный тренер в конце концов отвел меня в сторонку и спросил:
– Сынок, ты уверен, что тебе не нужны очки? – и отправил меня восвояси.
Но я был в отличной форме! И у меня был стиль! И в нашей софтбольной лиге, где мяч чуть больше и летит чуть медленнее, чем в бейсболе, я стал такой звездой, какою хотел прежде стать в общешкольном масштабе. Конечно, движимый страстным желанием быть лучше всех, я по-прежнему довольно часто мажу, но когда я не промахиваюсь, доктор, мяч после моего удара пролетает огромные расстояния. Он улетает на трибуны, и это называется «хоум-ран». О, ничто на свете не сравнится с этим восхитительным ощущением, когда ты медленной трусцой бежишь вокруг второй базы – потому что торопиться некуда, потому что отбитый тобой мяч улетел к черту на рога… Я играл и в центре поля – и чем дальше мне приходилось бежать за мячом, тем лучше.
– Я поймаю его! Поймаю! Поймаю! – и рвануться ко второй базе, чтобы поймать в ловушку своей рукавицы – в дюйме от поверхности земли – мяч, посланный низко-низко и точнехонько в цель – все уж думали, что он попадет в базу…
Или наоборот: я пячусь – изящно и легко – в сторону проволочного заграждения, приговаривая:
– Он мой, он мой! – двигаюсь очень медленно… а потом вдруг это восхитительное чувство, когда ловишь мяч словно нечто, ниспосланное тебе небесами, и ощущаешь себя Ди Маджио…
Или еще: бежишь! поворачиваешься! бросаешься! прыгаешь! Как малыш Эл Джонфридо – это бейсболист, доктор, который однажды сотворил чудо…
Или просто стоишь спокойно на месте – не шелохнувшись, абсолютно безмятежно, – стоишь беззаботно на солнышке, как царь царей, бог богов, как сам Герцог (это кличка Снайдера, доктор, – имя еще может всплыть впоследствии), стоишь расслабившись, счастливый как никогда, и просто ждешь, стоя под взмывшим в поднебесье («Мяч послан высоченной свечой, – так и слышится мне голос комментатора Рэда Барбера, который скороговоркой бубнит в микрофон, – в сторону Портного. Алекс под «свечой», под «свечой») мячом, когда тот упадет прямиком в твою рукавицу – и вот хлоп! попался, миленький! Третий «аут» попытки («Алекс поймал мяч, ребята!»). И затем одним движением, пока старина Конни спешит к нам с известием от «Олд Голдз», я стартую к своему месту. Мяч я теперь держу всей пятерней левой руки, достигаю второй базы, четко наступаю на нее ногой, и мягким, кистевым движением бросаю в игрока соперников, который мчится вокруг баз; затем, ни на секунду не прерывая своих пластичных движений, я скачу вприпрыжку, ссутулив плечи, высоко подбрасывая колени и тряся головой – блестяще имитируя Герцога. О, неколебимая безмятежность этой игры! Я до сих пор помню все характерные движения, ибо запомнил их каждой клеточкой своих мускулов, каждым хрящиком моих суставов. Как наклониться за рукавицей и как отшвырнуть ее прочь, как прилаживаться к бите, взвешивая ее в руках, как держать ее, как покачивать ею, готовясь отразить бросок, как, наконец, замахнуться этой битой, опустить плечи и расслабить мышцы шеи – а затем, совершив весь этот ритуал, встать на место отбивающего, расставив ноги с точностью до дюйма, и отбить мяч. Или пропустить его, сойти с игрового поля и слегка тыкая битой в землю, выразить недовольство теми силами, которые… да, каждая деталь настолько изучена, каждое движение настолько освоено, что просто невозможно представить себе – это из области фантастики – ситуацию, в которой я не знал бы, как мне двигаться и куда, или что сказать, о чем промолчать… И это правда, не так ли? – невероятная, но правда, – что есть такие люди, которые идут по жизни с той же легкостью, уверенностью, просто принимая все таким, как оно есть, с какой я играл в софтбол за команду «Сибиз». Понимаете, я ведь не был идеальным «центром поля». Я просто точно знал – до мельчайших подробностей – как должен вести себя «центр поля». И вот эти люди ходят по улицам США. Я вас спрашиваю: почему я не один из них?! Почему я не могу существовать сейчас так, как существовал в центре поля, играя за команду «Сибиз»? О, быть центром поля, центром поля – и ничего больше мне не надо!
emp
Но я нечто большее, чем просто «центр поля». Во всяком случае, они так говорят. Я еврей. Нет! Нет! «Я атеист!» – кричу я в ответ. Я – ничто, когда речь заходит о религии, и я не хочу никем быть! Не хочу притворяться тем, кем я не являюсь! Какое мне дело до того, что отцу одиноко, и что он нуждается во мне. Я хочу остаться честным по отношению к самому себе, и потому, уж извините, папа должен проглотить мою измену целиком! И я не намерен сидеть истуканом в ожидании неизвестно чего, должного приключиться с моей матерью, – честно говоря, теперь мне кажется, что вся эта история с гистеректомией была намеренно драматизирована в Р.К., дабы вышибить из меня все скопившееся во мне ДЕР..МО, напугав для этого мальчика до смерти. Всю эту историю затеяли только для того, чтобы, напутав робкого мальчика, вновь превратить его в послушного и беспомощного младенца. И я не нахожу никаких доказательств бытия Божьего, никаких свидетельств благотворительности и добродетельности евреев в том факте, что самый по-чи-та-е-мый человек Нью-арка посидел «целых полчаса» у постели моей мамы. Если бы он вынес горшок или покормил маму с ложечки, то, возможно, это и положило бы начало моим сомнениям – но прийти просто для того, чтобы полчаса посидеть у изголовья больного?! А что в этом такого, мама? Для него, изрекающего цветистые банальности и наводящего ужас на людей, – для него это примерно то же самое, что для меня бейсбол! Ему нравится это! Кому же это не понравилось бы? Мама, равви Уоршоу – толстый, напыщенный, раздражительный мошенник, одержимый самой гротескной разновидностью мании величия, диккенсовский персонаж, стоя рядом с которым на автобусной остановке всякий, кто не в курсе его по-чи-та-е-мо-сти, подумает про себя: «Господи, как же от него воняет табачищем!» И больше про него сказать нечего!
Этому человеку когда-то втемяшилось в голову, что наименьшей языковой частицей, несущей смысловую нагрузку, является слог. Поэтому в каждом слове, произносимом самым по-чи-та-е-мым человеком Ньюарка, – даже в слове «Бог» – содержится не менее трех слогов. Вы бы слышали, какие песни и пляски устраивает этот человек, произнося «Израиль»! Для него это слово – размером с контейнеровоз! А помните его во время моей бар-мицвы? Какой знаменательный день он провел с Александром Портным? Как ты думаешь, мама, почему он называл меня все время по имени и фамилии? Да для того, чтобы произвести впечатление на вас, идиотов, собравшихся в аудитории, как можно большим количеством этих растреклятых слогов. И это сработало! Еще как сработало! Разве ты не понимаешь, мама, что синагога для него – источник доходов, и ничего более. Приходить в больницу и разглагольствовать о жизни (слог за слогом) перед людьми, которые трясутся в своих пижамах в ожидании смерти – это его бизнес. Такой же бизнес, каким для моего отца является продажа страховок. Каждый из них по-своему зарабатывает на жизнь, и если тебе непременно хочется восхищаться чьим-либо благочестием, то будь набожной по отношению к отцу, черт побери, и отвешивай папе такие же поклоны, какие ты отвешиваешь этому толстому сукину сыну, потому что отец действительно работает как вол и не воображает себя заместителем Бога по торговым сделкам. И не растягивает эти чертовы слоги! «Я-а при-вет-ствую-у-у ва-ас в на-ше-е-й си-на-го-ге-е-е!» О, Господи, о гос-спо-ди-и-и, если ты есть, то избави нас от произношения равви! Избави нас от самих равви! Послушай, почему бы тебе не избавить нас от самой религии, хотя бы во имя нашего чувства собственного достоинства? Святый Боже, мама! Об этом знает весь мир, почему же ты об этом не догадываешься: религия – опиум для народа! И если уверенность в истинности этого утверждения превращает меня в четырнадцатилетнего коммуниста, то я – коммунист, и горжусь этим! Да я лучше буду русским коммунистом, чем евреем в синагоге! Именно эту фразу я бросаю в лицо своему отцу. И она становится очередной гранатой, угодившей папе прямиком в живот (на что я и рассчитывал). Извините, конечно, но так уж вышло – я верю в права человека, в те права, которыми в Советском Союзе обладают все люди, независимо от расы, вероисповедания и цвета кожи. Именно мой коммунизм побуждает меня настаивать на том, что я буду обедать вместе с прибирающей в нашем доме по понедельникам негритянкой. Я возвращаюсь из школы, вижу, что она еще не ушла, и заявляю:



