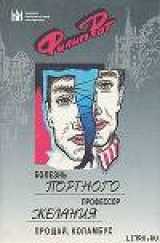
Текст книги "Болезнь Портного"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
– Послушай, По-чи-та-е-мый, я уже большой мальчик – так что можешь прекратить свои праведные речи! Ты выглядишь смешным! Да, я предпочитаю сексуальных красоток холодным уродинам – разве это трагедия? Зачем же рядить меня в одежды лас-вегасского прожигателя жизни? За что меня приковали к стульчаку? За то, что я люблю модную девчонку?!
– Любишь? Ты? Тьфу на тебя! Ты любишь только Себя, мальчик! Себя – с заглавной буквы! У тебя вместо сердца – пустой холодильник! У тебя кровь – из кристалликов льда! Удивляюсь, что ты еще не позвякиваешь при ходьбе! Модная девчонка – так называемая модная девчонка – всего лишь оперение для твоего члена! Вот и все ее предназначение, Александр Портной! Как ты обошелся со своими перспективами?! Омерзительно! Слышится любовь? Произносится: п-о-х-о-т-ь! Произносится: са-мо-влюб-лен-ность.
– Но я почувствовал какое-то шевеление в душе – тогда, у «Говарда Джонсона»…
– Это шевелится твой член, болван!
– Нет!
– Да! Это единственное, что в тебе когда-либо шевелилось! Что ты скулишь? Ты превратился в большой мешок полный обид! Ты зациклен на самом себе с первого класса, черт подери!
– Неправда!
– Правда! Правда! Голая правда, приятель! Страдающее человечество – пустой звук для тебя! Страдания человечества всего лишь прикрытие для тебя, парень, и нечего обманывать самого себя! «Посмотрите! – взываешь ты к своим собратьям. – Посмотрите, кого я трахаю: десятиметровую манекенщицу! Я получаю бесплатно то, за что другие платят по триста долларов! Разве это не триумф, а, ребята? Разве триста долларов не щекочут самолюбие? Конечно, щекочут! Только как насчет того, кого ты любишь, Портной?
– Послушайте! Разве вы никогда не читали «Нью-Йорк Таймс»? Всю свою сознательную жизнь я защищаю права беззащитных! Пять лет я боролся в рядах Американского Союза за Равноправие неизвестно ради чего. А перед этим работал в комитете Конгресса! Я мог бы зарабатывать в два, в три раза больше, чем я зарабатываю сейчас! Но я не стал открывать частное дело! А теперь меня назначили – неужели вы не читаете газет?! – заместителем председателя Комиссии по обеспечению равных возможностей? Я сейчас готовлю специальный отчет о дискриминации при продаже недвижимости…
– Херня все это! Ты – уполномоченный по пизде, а не по равным возможностям! Вот артист! Жертва задержки развития! Все суета, Портной, но ты в этом превзошел всех! Сто пятьдесят пунктов коту под хвост! И зачем тебе надо было перескакивать через два класса, дружок?
– Что?
– Зачем ты заставлял отца тратить на тебя такие деньги? Вспомни, сколько он присылал тебе на расходы, когда ты учился в Антиох-Колледж? Конечно, во всех твоих ошибках виноваты родители, не так ли, Алекс? Все, что в тебе плохого – это от них. А все твои достижения – плод твоих собственных усилий! Ах ты, неблагодарный! Ледяное сердце! Почему тебя приковали к унитазу? Я скажу тебе, почему: это наказание исполнено поэзии. Ты обречен дрочить свой член до окончания века. Дергай свой член ныне и присно и во веки веков! Вперед, уполномоченный – дрочи! Ибо твой вонючий путц – единственное, к чему ты относился с искренней сердечностью.
emp
Облачившись в смокинг, я заезжаю за Мартиникой. Она еще в ванной. Дверь в квартиру она оставила открытой – очевидно, для того, чтобы не вылезать из-под душа, когда я приду. Мартышка живет на последнем этаже большого современного дома в районе восточных восьмидесятых улиц, и мне становится немного не по себе при мысли о том, что в эту квартиру мог бы преспокойно проникнуть кто угодно – подобно тому, как только вошел сюда я. О чем я и сообщаю Мартышке через задернутую занавеску в ванной. Она прижимается ко мне влажной щекой.
– Почему кому-то заходить ко – мне? – спрашивает она. – Я все деньги храню в банке.
– Твой ответ меня не удовлетворяет, – говорю я, и возвращаюсь в гостиную, стараясь не раздражаться по пустякам.
На кофейном столике лежит лист бумаги. Наверное, какой-то ребенок заходил, думаю я, увидев издали эти каракули. Нет-нет, просто я впервые знакомлюсь с рукописным наследием Мартышки. Эта записка уборщице. Хотя сперва я подумал, что это – записка от уборщицы.
Но почему? Почему я решил, что это – записка от уборщицы? Только потому, что Мартышка – «моя» женщина, и, следовательно, Не может так писать?
дырыгая пажалуста памой пол возли ванной и
низабудь пратереть пылль между аконными рамами
мэри джейн р
Я перечитал записку трижды, и каждый раз – как это случается с некоторыми текстами – обнаруживал все новые оттенки смысла и скрытые подтексты; я трижды перечитал записку, находя все новые свидетельства тому, какие неисчилимые беды грядут на мою бедную задницу. Почему я не оборву наш «роман» сию же секунду? О чем я думал в Вермонте!? Взгляните на это «пажалуста» – да в ней не больше, чем в киношной декорации! А «низабудь»?! Разве не так произносят это слово проститутки? Но хуже всего дело обстоит со словом «дырыгая». Надо же так искалечить полное нежности и любви слово. Какое душераздирающее открытие! Сколь ненатуральными, неестественными могут быть человеческие взаимоотношения! Эта женщина не поддается обучению! Ее уже не исправить! Да по сравнению с ее детством можно считать, что я вырос в аристократических кругах Бостона! Что нас может связывать? Ничего!
Взять, например, телефонные звонки. Я зверею от этих се телефонных звонков! Помните, как очаровательно по-детски она предупредила меня о том, что будет звонить все время? Она действительно звонит все время! Я сижу у себя в офисе, у меня приемный день. Ко мне пришли родители психически больного ребенка. Они жалуются, что ребенка морят голодом в городской клинике. Они пришли со своей жалобой именно ко мне, а не в департамент здравоохранения, потому что один блестящий юрист из Бронкса сказал им, что их ребенок – несомненная жертва дискриминации. Между тем, я звонил главному врачу клиники, и тот сказал мне, что ребенок отказывается принимать какую бы то ни было пищу – держит ее во рту часами, но не глотает. И вот я пытаюсь объяснить этим людям, что ни их ребенок, ни они сами не подвергаются никакой дискриминации. Мой ответ поражает их, как гром среди ясного неба. Он и меня поражает. «Он бы проглотил все, как миленький, если бы у него была такая мать, как у меня», – думаю я про себя, одновременно выражая искреннее сочувствие проблемам моих посетителей. Но они заявляют, что не уйдут из этого кабинета, пока не поговорят с мэром. Они уже заявляли одному из сотрудников моего отдела, что не уйдут, не повидав «председателя Комиссии». Отец ребенка заявляет, что он постарается изо всех сил, чтобы меня уволили – чтобы уволили всех, кто не хочет помочь беззащитному маленькому ребенку, которого морят голодом только потому, что он пуэрториканец!
– «Эс контрарно а ла леи дискриминар контра куалькер персона», – цитирует мне папаша из двуязычной книжки, выпущенной городской комиссией по обеспечению равных возможностей.
Эту книжку написал я.
В эту минуту раздается телефонный звонок. Пуэрториканец орет на меня по-испански, моя собственная мать замахивается на меня из детства ножом, – ив это время секретарша сообщает мне, что на проводе мисс Рид. Это уже третий ее звонок за сегодняшний день.
– Я соскучилась, Арнольд, – шепчет Мартышка.
– Я сейчас занят. Извини.
– Я люблю тебя.
– Да-да, замечательно… Давай мы обсудим это позднее, ладно?
– Как я хочу, чтобы твой длинный член оказался в моей пизде…
– До свидания!
Что еще меня не устраивает в ней, раз уж мы начали об этом говорить? Она шевелит губами, когда читает. Серьезно. Представьте, каково мне сидеть за обедом с двадцатидевятилетней женщиной, у которой со мной роман, – и смотреть, как она шевелит губами, выбирая на газетной странице кинофильм, на который мы могли бы сходить. Я знаю, на что мы пойдем еще до того, как она сообщает мне об этом. Я читаю по ее губам! Я приношу ей книги – думаете, она таскает их со съемки на съемку для того, чтобы читать? Дудки! Она хочет произвести впечатление на фотографа, на прохожих, на совершенно незнакомых людей! Посмотрите, какая она разносторонняя! Видите эту девушку с потрясающей попкой? У нее в сумочке книга! С настоящими словами! На следующий день после возвращения из Вермонта я подарил ей экземпляр «Воспоем ныне славу знаменитым людям». Вложил в книгу карточку с надписью «Потрясающей женщине», упаковал ее как подарок, и вечером преподнес Мартышке.
– Посоветуй мне, что читать, ладно? – обратилась она ко мне с трогательной просьбой накануне. – Если я такая замечательная – как ты сам говорил, – то почему я должна быть дурой, правда?
Ну, я и решил для начала подарить ей книгу Эджи с фотографиями Уокера Эванса: она напомнит ей о детстве, расширит кругозор, поможет глубже понять свои корни (эти корни, конечно же, гораздо более интересны замечательному еврейскому мальчику, проповедующему левые взгляды, нежели пролетарской девчонке). С какой старательностью я составлял ей список для чтения! Господи, я собирался просветить ее! За Эджи следовал «Динамит!» Адамеца – мой собственный пожелтелый экземпляр, которым я зачитывался еще в колледже. Я воображал, как Мартышка будет читать эту книжку, испещренную моими пометками, которые помогут ей вычленить из текста самое главное, отличить выводы от примеров, общее от частного, и так далее, и тому подобное. К тому же книга была написана очень простым языком, и я надеялся, что она прочтет не только отмеченные мною главки, которые напрямую (как я полагал) связаны с ее детством – о преступлениях на угольных копях, – я надеялся, что Мартышка прочитает и другие главы, повествующие о том, каким жестокостям подвергался и какие жестокости творил рабочий класс Америки, дочерью которого она является.
А что, она действительно никогда не слышала про книгу, которая называется «США»?
– Блин, я вообще ни одной книжки в жизни не прочла!
И я покупаю ей Дос Пассоса в твердом переплете. Начни с простого, говорил я себе. Что-нибудь простое, но поучительное. Что позволит поднять ее на новый уровень. Ах, ты достигнешь сказочных вершин, я уверен. Тексты? У.Э.Б.Дюбуа «Душа Черного народа». «Гроздья гнева». «Американская трагедия». Любимая моя вещь Шервуда Андерсона – «Бедный белый» (заглавие должно ее заинтриговать, думал я). «Записки сына своего народа» Болдуина. Название курса? Ну, не знаю… «Угнетенные национальные меньшинства. Введение». Составлен профессором Портным. «История и функции ненависти в Америке». Цель? Спасти глупую шиксу. Избавить от присущего ее расе невежества. Превратить дочь бессердечного угнетателя в исследователя страданий и угнетения. Научить ее состраданию. Пусть она хоть немного озаботится мировой скорбью. Теперь вы поняли? Идеальная пара: она вернет жиду «ид», а я научу гоя слову «ой».
emp
Где я? Ах да. Я в смокинге. Держу в руке «дырыгую» записку, и в это время в гостиной появляется Мартышка Она купила платье специально к сегодняшнему вечеру. Интересно, к какому именно вечеру? Куда мы идем, по ее мнению – на съемки порнофильма, что ли? Доктор, это платье едва прикрывало ее задницу! Оно соткано из золотистой металлической нити и едва прикрывает ее комбинацию телесного цвета! Венчает же ее скромный вечерний наряд огромный парик – черная копна кучеряшек, из которой торчит размалеванное глупое личико. Боже мой, на что похож ее рот! Она действительно из Западной Виргинии! Дочь шахтера в городе неоновых огней. «И в этом виде она собирается идти со мной к мэру? – думаю я. – Одетая как стриптизерка? «Дырыгая»! За всю неделю не прочла и двух страниц из Эджи! Интересно, хоть картинки-го она посмотрела? Сомневаюсь, блин!
«Что же ты творишь? – продолжаю я корить себя пос-л. е того, как поспешно прячу в карман записку (завтра разорву, на клочки). – Совершаешь страшную ошибку… Послушай, ты же снял ее прямо на улице! Она же отсосала у тебя, даже не удосужившись узнать твое имя! Она торговала своей задницей в Лас-Вегасе! А может, и еще где-нибудь! Ты посмотри на нее – шлюха шлюхой! Шлюха заместителя председателя комиссии по обеспечению равных возможностей! Ты живешь как во сне! Твое общение с ней – страшная ошибка! Бессмысленное занятие! Пустая грата времени и сил!»
– Тебя что-то беспокоит, парень? – спрашивает меня Мартышка в такси.
– Нет.
– Тебе не нравится, как я выгляжу?
– Ты выглядишь чудовищно!
– Водитель! В «Пек энд Пек»!
– Заткнись. В «Грейси Меншн», шеф.
– Алекс, я получу смертельную дозу радиации – не смотри на меня так!
– Я не смотрю на тебя «так»! Я вообще ни слова не сказал!
– Твои черные еврейские глаза выдают все твои мысли, приятель. Тутти.[5]5
Все! (итал.).
[Закрыть]
– Успокойся, Мартышка.
– Сам успокойся!
– Я спокоен! – отвечаю я. Однако решимости моей хватает еще примерно на минуту, и я говорю: – Только, ради Бога, не вздумай разговаривать о пизде с Мэри Линдси!
– Что?!
– Что слышала! Когда мы войдем туда, не вздумай рассказывать о своей пизде первому встречному! Не хватай Большого Джона за шланг, пока мы не пробудем там, но крайней мере, полчаса, ладно?
В этот момент водитель вдруг издает звук, похожий на скрип тормозов. Мартышка в ярости отодвигается от меня и начинает дергать заднюю дверцу:
– Я буду говорить, что захочу, делать, что захочу, и надевать, что захочу! У нас свободная страна, хрен жидовский!
Вам бы видеть тогда, как посмотрел на нас шофер, высаживая из такси. Оказывается, его звали Менни Шапиро.
– Буржуи сраные! – кричит он. – Шлюха нацистская!
И газанув так, что в воздухе сразу повисает запах паленой резины, исчезает за поворотом.
emp
С садовой скамейки, на которой мы сидим, отлично виден ярко освещенный вход в «Грейси Меншн»; одна за другой подъезжают машины с приглашенными на прием членами новой администрации. А я сижу, глажу ее руку, целую ее в лоб, прошу ее не плакать. Это я во всем виноват. Да-да, я хрен жидовский, прости меня, Прости, прости, прости…
– …все время ко мне придираешься – даже во взгляде твоем сплошные придирки, Алекс! Когда ты приходишь вечером… Алекс, я весь день думаю только о тебе, я умираю без тебя! И вот ты приходишь, я открываю дверь – и твои чертовы глаза сразу начинают выискивать, что во мне не так! А если я вдруг имею неосторожность открыть рот, то у тебя на лице сразу появляется это ужасное выражение! Понимаешь, я не припомню минуты, когда бы на твоем лице не было написано: «Сейчас эта глупая пизда сморозит очередную ахинею!» Я говорю: «Без пяти семь», а ты думаешь: «Боже, как она глупа!». Видишь ли, Алекс, я не безмозглая, и я не пизда! Да, я не заканчивала этот! вонючий Гарвард, но я не безмозглая пизда! И не смей мне больше указывать, как я должна вести себя при каких-то Линдси! Да кто они такие, эти Линдси?! Какой-то чертов мэр и его жена! Мэр хренов! Если ты забыл, то могу напомнить: я была замужем за одним из богатейших людей Франции уже в восемнадцать лет – я обедала с Али-Ханом, когда ты в своем вонючем Ньюарке щекотал пипки своих еврейских подружек!
Это и есть, по твоему мнению, любовный роман, спрашивает Мартышка, всхлипывая. Когда обращаешься с женщиной как с прокаженной?
«Значит, это не любовный роман, – хочется сказать мне. – Значит, это ошибка. Значит, нам надо разойтись и не мучиться!» Но я промолчал. Я промолчал, потому что боялся: вдруг она покончит с собой? Разве пятью минутами раньше она не пыталась выпрыгнуть из машины? Допустим, я сказал бы ей:
– Мартышка, так-то и так-то…
Кто бы ее остановил тогда? Она бы утопилась в Ист Ривер! Поверьте мне, доктор, такой исход был действительно возможен – именно поэтому я и не сказал ей ничего. Зато ее словно прорвало. Она повисла у меня на шее и принялась шептать:
– Я люблю тебя, Алекс! Я обожаю тебя! Я тебя боготворю! Пожалуйста, не бросай меня! Потому что я не переживу этого! Ты лучший из всех встреченных мною мужчин, женщин и детей! О, Прорывчик, ты такой умный, и у тебя такой большой член! Я люблю тебя!
А потом она зарылась париком в мои колени и принялась расстегивать мою ширинку. И это в двухстах метрах от дворца Линдси!
– Мартышка, не надо, – умолял я ее, когда она яростно дергала непослушную «молнию» моих черных брюк. – Тут полно переодетых полицейских! Они сейчас поволокут нас в участок за нарушение общественного порядка… Мартышка, полиция!
– Это тебе померещилось, – шепчет Мартышка, одними губами, оторвав на мгновение взгляд от моей расстегнутой ширинки.
А потом зарывается в мои штаны, словно маленький пушистый зверек в поисках своей норки. И отсасывает мой член своим восхитительным ртом.
На званом ужине я подслушал, как она рассказывала мэру о себе. Днем она, оказывается, демонстрирует одежду, а по вечерам берет уроки у Хантера. Ни слова о своей пизде, как я ее и просил. На следующий день она действительно отправляется к Хантеру, и, к моему удивлению, в тот же вечер показывает мне анкету, которую ей выдали в приемной комиссии. Я умолял ее заполнить этот бланк. И она, конечно, не заполнила его, вернее, заполнила одну графу. Возраст – 29.
emp
Вот одна из школьных фантазий Мартышки. Вот о чем она грезила, пока ее одноклассники учились читать и писать:
Вокруг огромного стола сидят, замерев словно по команде «смирно», все мальчики Западной Виргинии, которые хотят учиться в Уэст-Пойнте. Под столом же стоит на четвереньках голышом наша застенчивая неграмотная ученица. По комнате ходит, постукивая тросточкой, полковник из Уэст-Пойнта и внимательно всматривается в мальчишечьи лица. Тем временем наша Мэри-Джейн Рид расстегивает за столом ширинки кандидатов и по очереди дрочит каждого из них. Принятым в военную академию будет считаться тот из кандидатов, который сумеет сохранить выправку и невозмутимость, кончая в рот маленькой Мэри-Джейн.
emp
Десять месяцев. Поразительно. Ибо в течение этих десяти месяцев я каждый день – если не каждый час – спрашивал себя:
– Зачем тебе эта связь? Зачем тебе эта женщина? Эта вульгарная, противная самой себе, сбитая с толку, потерянная, измученная…
И так далее. Список эпитетов был бесконечным. Я постоянно его просматривал и обновлял. Когда я вспоминал о том, с какой легкостью снял ее на улице (величайший сексуальный триумф в моей жизни) – я просто стонал от омерзения. Как я могу сохранять отношения с женщиной, чей образ мыслей, чьи суждения и чье поведение противны мне? С женщиной, которая ежедневно заставляет меня взрываться от возмущения и раздражаться многочасовыми нотациями! И проповедями! Господи, я превращаюсь в школьного учителя. Взять, к примеру, эти итальянские мокасины, которые она подарила мне на день рождения. Какую лекцию я ей тогда прочел!
– Слушай, – говорю я Мартышке, когда мы заходим в магазин за покупками. – Даю тебе один маленький совет: когда ты собираешься провести столь простое действие, как например, оплата покупок, – так вот, когда ты платишь деньги в кассу, то вовсе не обязательно сверкать пиздой на всех подряд. Понятно?
– Чем сверкать? Кто это сверкает? И чем?
– Ты, Мэри-Джейн! Ты сверкаешь своими интимными местами!
– Ничего подобного!
– Ради Бога! Всякий раз, когда ты встаешь или садишься, мне кажется, что ты сейчас уткнешься пиздой прямо в нос продавцу.
– Гос-споди, но мне нужно вставать и садиться, правда?
– Но не так, будто ты садишься на лошадь или слезаешь с нее!
– Слушай, я не понимаю, чего ты нервничаешь – этот продавец все равно педик.
– Я «нервничаю» потому, что твою пизду видело столько людей, сколько не собирается даже на представления Хартли и Бринкли! Не пора ли тебе завязывать со сценой, а? Я ругаюсь, а сам думаю про себя: «Помолчи лучше, парень! Если тебе нужна леди вместо пизды, то найди себе леди. Кто тебя держит?»
В этом городе полно женщин, абсолютно не похожих на мисс Мэри-Джейн Рид. Многообещающих, необъезженных, неиспорченных молодых женщин – пышущих здоровьем. Я это знаю наверняка, потому что именно такими были предшественницы Мартышки. Только меня и они не устраивали. Тоже не то. Поверьте мне, Шпильфогель! Я бывал там, я пытался: ел их запеканки, брился в их ванных комнатах, у меня были вторые ключи от их дверей и собственные полочки в их домашних аптечках. Я даже знался с их котами и кошечками, которых звали Спиноза, Клитемнестра, Кандид и просто Кот. Да-да, это были умные и эрудированные девочки, удачливые в сексуальных похождениях выпускницы престижнейших колледжей – свежие, образованные, гордые, уверенные в себе, хорошо воспитанные молодые женщины – служащие и лаборантки, учительницы и корректоры… Женщины, в присутствии которых мне не приходилось краснеть, которых не надо было чему-то учить, которых не надо было спасать, которым я не должен был заменять отца и мать… И все равно – не то.
emp
Кей Кемпбелл, моя подруга по Антиох-Колледжу – разке можно где-нибудь найти более примерную девушку? Простодушная, доброго нрава, безо всякого намека на какую бы то ни было патологию – достойнейшая девушка и добрейшая душа. Где она теперь – эта находка? Привет, Тыква! Где ты? Небось, осчастливила какого-нибудь шайгета из американской глубинки? А разве может быть иначе? Кей редактировала в колледже литературный журнал, сдавала все экзамены по английской литературе только на «отлично», и вместе со мной и моими преступными друзьями пикетировала парикмахерскую в Иеллоу Спрингс, где отказывались стричь негров, – дебелая, добродушная девушка с большим сердцем, и большим задом, светловолосая с детским личиком и, к большому сожалению, совершенно плоскогрудая (похоже, плоскогрудые женщины – моя судьба. Интересно, почему? Есть ли статьи по этому поводу? Важно ли это? Или нет?). Ах, а эти крестьянские ноги? А блузка, постоянно торчащая сзади поверх юбки? О, как я был тронут ее жизнерадостным характером! И тем, что она совершенно не умела ходить на каблуках – это ей было просто противопоказано, в туфлях на высоком каблуке Кей напоминала кошку, застрявшую на верхушке дерева. Она первой из всех Антиохских нимф начинала по весне ходить босиком. «Тыква» – эту кличку для Кей придумал я, вдохновившись цветом ее кожи и размерами ее задницы. А также ее твердостью: во всем, что касалось моральных принципов, Кей Кемпбелл была тверда как тыква и упряма до такой степени, что я просто умирал от зависти.
Она никогда не повышала голос во время спора. Можете представить, какое впечатление сие обстоятельство оказало на семнадцатилетнего Алекса, только-только вышедшего из рядов «Общества спорщиков Джека и Софи Портных»? Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с подобным подходом к полемике? Она не высмеивала своего оппонента! Она не испытывала ненависти к людям, чьи идеи отличались от ее собственных взглядов! Ага! Так вот в чем разница между отличником-евреем из Нью-Джерси и отличницей-шиксой из Айовы! Да, именно этим достоинством обладают те гои, которые обладают хоть какими-то достоинствами: они умеют быть властными без гнева. Добродетельными без самолюбования. Уверенными в себе без чванства и высокомерия. Давайте будем честными, доктор, и воздадим гоям должное: если уж они производят впечатление, то впечатление это неизгладимое. Они такие правильные! Да, именно это меня и гипнотизировало: сочетание сердечности Кей с ее твердостью. «Тыквенность» этой девушки, короче говоря. Где ты теперь, моя цельная большезадая, босоногая шикса? Где ты, Кей-Кей? Сколько у тебя детей? Сильно ли ты растолстела? Ну и что! Я вполне могу представить, что ты стала величиной с дом – надо же куда-то вместить твой характер! Самая лучшая девушка Среднего Запада! Почему же я упустил ее? Дойдем и до этого, не беспокойтесь, мы ведь уже знаем, что самоистязание – не что иное, как непрерывные воспоминания. Позвольте мне на время забыть о некоторых чертах реальной Кей. О ее масляной коже и неухоженных волосах. Она даже не заплетала их– а ведь дело происходило в пятидесятые годы, когда свободно ниспадающие волосы еще не были в моде. Она была естественна, доктор! Пухлая, необъятная Кей, окрашенная в солнечные цвета! Готов биться об заклад, что за подол твоего платья, обтягивающего необъятную задницу (столь непохожую на крепенькую попку Мартышки, умещающуюся в моей ладони), вцепилось не менее полдюжины детишек. Спорим, что ты сама выпекаешь хлеб? Правда ведь? Как тогда – теплой весенней ночью в Йеллоу Спрингс, помнишь? Ты пришла ко мне домой, ты по уши перепачкалась мукой, ты вся вспотела, несмотря на то, что суетилась у печи в одном исподнем – помнишь? Ты хотела, чтобы я узнал вкус настоящего хлеба! Ты вполне могла бы замесить тогда тесто из моего сердца – так оно размягчилось. Я готов поспорить, что ты живешь там, где воздух по-прежнему кристально чист, и где не принято запирать двери домов. И тебе все так же наплевать на деньги и на собственность. А знаешь, Тыква, я ведь тоже не запятнал себя пристрастием к этим и прочим буржуазным штучкам. О, восхитительно непропорциональная Тыква! Не то что манекенщица с ногами длиной в милю. Ну не было у нее грудей – ну и что? Выше талии она походила на бабочку, а ниже талии – на медведя! Она держалась корней – вот что я хочу сказать! Прочно стояла на американской земле своими по-мужски мощными ногами.
Слышали бы вы Кей Кемпбелл на втором курсе колледжа, когда мы с ней обходила дома в Грин-Каунти агитирующую за Стивенсона! Сталкиваясь с чудовищной мелочностью приверженцев республиканской партии, с их мрачными физиономиями и беспросветной тупостью, от которой можно было сойти с ума – сталкиваясь со всем этим, Тыква вела себя как истинная леди. Я же походил на варвара. Независимо от того, сколь бесстрастно (или снисходительно – так выглядело со стороны) я начинал свою речь, заканчивалось все яростью и глумливым смехом. Вспотев от усердия, я стоял нос к носу с этими ужасными, ограниченными обывателями и, разражаясь проклятиями, обзывал их любимого Айка неучем, политическим и моральным уродом – быть может, именно я виновен в том, что Эдлай так катастрофически провалился в Огайо. Тыква же выслушивала точку зрения оппонента со столь неподдельным интересом, что мне порой казалось – сейчас она обернется и скажет:
– Слушай, Алекс, а ведь мистер Йокель, похоже, прав – пожалуй, он действительно слишком мягко относится к коммунистам.
Но нет! Когда мы выслушивали последнюю идиотскую реплику касательно слишком «социалистических» или «красных» идей нашего кандидата, когда эти обыватели, последний раз пройдясь по нашему кандидату и, обвинив его в отсутствии чувства юмора, умолкали, исчерпав свои аргументы, – тогда-то Тыква чопорно и – чудо ловкости – без тени сарказма (ей можно было доверить судейство на конкурсе кондитеров – столь безукоризненными были ее чувство юмора и ее уравновешенность) указывала мистеру Йокелю на его фактологические и логические ошибки, а также на его скупердяйскую натуру. Не прибегая при этом ни к искаженному апокалипсическому синтаксису, ни к дурному словарному запасу отчаявшегося человека. Она не потела, не хватала воздух пересохшим ртом, лицо ее не искажалось от ярости – и тем не менее, ей удавалось вселять сомнения в души местных жителей! Господи, она действительно была одной из самых великих шикс. Скольким вещам я мог бы научиться у нее, если бы связал с ней свою жизнь! Да, мог бы – если бы хоть чему-нибудь вообще мог научиться! Если бы мог избавиться от одержимости оральным сексом, блудом, любовными фантазиями и местью! Если бы позабыл про обиды! Если бы перестал гоняться за мечтами! Если бы разорвал эту безнадежную, бессмысленную связь с прошлым!
В 1950 году, когда мне было семнадцать лет, и Ньюарк уж два с половиной месяца как остался в прошлом (нет, не совсем: просыпаясь по утрам в общежитии, я недоумевал, озадаченный исчезновением одного из «моих» окон, и никак не мог понять, почему я укрыт каким-то незнакомым одеялом. «И зачем маме понадобилось переделывать спальню?» – думал я в первые мгновения после пробуждения), – так вот, в 1950 году я предпринял самый дерзкий акт неповиновения в своей жизни: вместо того, чтобы отправиться на каникулы домой, я на День Благодарения поехал вместе с Тыквой к ее родителям в Айову. До сентября того года я не бывал западнее озера Хопатконг, штат Нью-Джерси, – и вот теперь, в ноябре, я еду на поезде в Айову! С блондинкой христианского вероисповедания! Кто более ошеломлен подобным дезертирством – моя семейка или я сам? Какая дерзость, какая отвага! Или это всего лишь бесстрашие лунатика?
Обшитый досками дом, в котором прошло детство Тыквы, оказал на меня столь сильное впечатление, словно был он не самым типичным гойским жилищем, а, по меньшей мере, Тадж-Махалом. Бальбоа, наверное, знакомы те чувства, которые я испытал, увидев впервые качели, подвешенные к потолку веранды. Она выросла в этом доме. Девушка, которая позволила мне снять с нее лифчик, девушка которую я тискал в общежитии – эта девушка выросла здесь! За этими гойскими занавесками!.. Смотрите-ка – в этом доме жалюзи!
– Мамочка, папочка, это мой приятель по колледжу, о котором я вам писала. Я пригласила его в гости на выходные, – говорит Тыква, представляя меня своим родителям на Дэвенпортском вокзале.
Я – «гость на выходные»?! Я – «приятель по колледжу»?! Господи, на каком языке она говорит. Я – «бандит, вантц», я сын страхового агента. Я посланник равви Уоршоу!
– Как дела, Алекс?
На что я, конечно же, отвечаю:
– Спасибо, хорошо.
Что бы мне ни говорили в первые сутки пребывания в Айове, – я отвечал всем: «Спасибо!». Я благодарил даже неодушевленные предметы. Толкнул случайно стул: «Извините. Спасибо». Роняю на пол салфетку, наклоняюсь, залившись краской, чтобы поднять ее, и слышу собственный голос:
– Спасибо!
Это я благодарю салфетку. А может – пол? Не правда ли, моя мама может гордиться своим маленьким джентльменом? Он вежлив даже с мебелью!
Говорят, что в английском языке есть такое выражение: «С добрым утром!» Я, во всяком случае, что-то об этом слышал, хотя мне оно казалось бессмысленным. Да и с какой стати эта фраза должна нести какой бы то ни было смысл, если дома я во время завтраков прохожу под кличками «Кислая пилюля» и «Брюзга»? И вдруг здесь, в Айове, под влиянием местных жителей я превратился в гейзер, фонтанирующий «добрыми утрами»! Понимаете, стоит солнечному лучу поутру озарить их лица, как тут же начинает происходить какая-то химическая реакция: «Доброе утро! Доброе утро! Доброе ут ро!» Они умеют произносить эту фразу с полдюжиной разных интонаций! Вслед за этим все начинают спрашивать друг у друга, «хорошо ли спалось». Они и у меня спрашивают! Хорошо ли мне спалось? Я не знаю, мне надо подумать – вопрос застал меня врасплох. Хорошо-ли-мне-спалось? Да, конечно! Думаю, что да! Эй, а вам хорошо спалось? «Спал как бревно» – отвечает мистер Кемпбелл. И впервые в жизни я ощущаю всю силу, которую заключает в себе улыбка. Этот человек, торгующий недвижимостью и являющийся старшим советником Дэвенпортского муниципалитета, говорит, что он спал как бревно, и мне вдруг действительно представляется бревно! Я понял! Он спал глубоким сном, не ворочаясь – как бревно!



