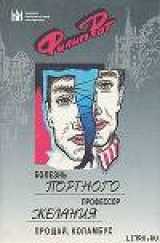
Текст книги "Болезнь Портного"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
– Доброе утро! – говорит он мне, и я вдруг понимаю, что слово «утро» означает именно промежуток времени между восемью часами на рассвете и полуднем. Мне никогда еще это не приходило в голову. Он хочет, чтобы время между восемью и двенадцатью часами было добрым, то есть приятным, радостным и полезным! Мы все желаем друг другу четыре часа удовольствий и удачи! С ума сойти! Вот здорово! Доброе утро! А ведь это в равной степени относится и к «доброму дню»! И к «доброму вечеру»! И к «доброй ночи»! Бог ты мой! Аглийский язык – это средство общения! Оказывается, беседа – это не перекрестный огонь, когда стреляешь ты, и стреляют в тебя! Когда ты пригибаешься под пулями, чтобы спасти свою шкуру, и стараешься убить врага! Слова, оказывается, не только бомбы и снаряды, – нет! Это маленькие подарки, содержащие в себе смысл!
Погодите, я еще не все сказал. Я и без того совершенно ошарашен пребыванием в доме с гойскими занавесками, смущен тем, что желал многих часов удовольствия гоям, – так нет, ведь надо же было усугубить этот экстаз дезориентации! Знаете, как называлась улица, на которой стоял дом Кемпбеллов? Улица, на которой выросла моя подружка? Где она прыгала, скакала, каталась на коньках, играла в «классики» и спускалась с горки на санках, – пока за полторы тысячи миль отсюда, в местечке, которое почему-то считается территорией той же страны, я мечтал о ней. Знаете, как называлась улица? Нет, не Ксанаду – гораздо лучше, гораздо нелепее: улица Вязов! Вязов! Понимаете, меня словно бы унесло радиоволнами в нутро нашего старенького «Зенита», и я очутился среди персонажей радиопьесы «Семья одного человека». Улица Вязов. С деревьями – настоящими вязами, должно быть!
Если честно, то я понятия не имел, какие деревья растут на улице Вязов, когда впервые увидел их в среду из окна автомобиля Кемпбеллов. Мне понадобилось семнадцать лет, чтобы научится распознавать дубы, да и то: если желуди уже осыпались, я вполне могу ошибиться. В окружающем пейзаже меня в первую очередь привлекает не флора, а фауна. Ей-Богу. То, что трахается, и то, что трахают. А всю зелень я оставляю птахам и пчелам. У них свои проблемы, у меня – свои. Кто у нас дома знает название дерева, что растет из тротуара прямо перед входной дверью? Дерево – оно и есть дерево. Какая разница, какой породы древесина – главное, чтобы дерево не упало тебе на голову. Осенью (или весной? Вы случайно не знаете? Во всяком случае, я уверен, что не зимой) с дерева, которое растет перед нашим домом, осыпаются длинные серповидные стручки – внутри этих стручков находятся маленькие крепкие горошины. Отлично. Вот как этот научный факт интерпретируется моей матерью, Софи Линней:
– Если стрелять этими горошинами из рогатки, то можно выбить кому-нибудь глаз, и оставить несчастного слепым на всю жизнь.
(ТАК ЧТО НЕ СМЕЙ ЭТОГО ДЕЛАТЬ! ДАЖЕ В ШУТКУ НЕЛЬЗЯ НИ В КОГО ЦЕЛИТЬСЯ ИЗ РОГАТКИ! А ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ СТАНЕТ ЦЕЛИТЬСЯ В ТЕБЯ, ТО ТЫ НЕМЕДЛЕННО ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ МНЕ!) Вот и весь багаж ботанических знаний, которым я обладал вплоть до того воскресного дня, когда, уезжая из дома Кемпбеллов на вокзал, я взглянул на табличку и почувствовал себя Архимедом: улица Вязов… значит… это вязы! Как все просто! Понимаете, оказывается не нужно обладать 158 пунктами коэффициента умственного развития, не обязательно быть гением, чтобы понять окружающий мир. Все действительно очень просто!
Если сравнить тот памятный уик-энд с историей человека, то для меня в те дни закончился каменный век. Всякий раз, когда мистер Кемпбелл называл свою жену Марией, у меня подскакивала температура. Я сижу и ем из тарелки, которой касались руки женщины по имени Мария! (Может, именно здесь кроется разгадка того, почему я с таким упорством избегаю называть Мартышку по имени. А если и называю, то лишь для того, чтобы сделать ей внушение. Нет?) «Господи, – молился я в поезде по дороге и Айову, – сделай так, чтобы в доме Кемпбеллов не было картинок с изображением Иисуса Христа. Избавь меня в этот уик-энд от лицезрения его трогательного пунима – и от встречи с людьми, носящими крест! Пожалуйста, сделай так, чтобы среди многочисленных тетушек и дядюшек, которые придут на праздничный обед, не оказалось антисемитов!» Потому что если кто-нибудь вдруг станет распространятся о «жидах», или обзывать евреев «пархатыми»… – я ему все зубы выбью! Он у меня подавится своими ебучими зубами! Нет-нет, никакого насилия (можно подумать, будто я действительно способен на насилие!), – действовать грубой силой – это их удел! Нет, я просто встану из-за стола – (что?) – и произнесу речь! Я устыжу их, я уязвлю их расистские сердца! Я процитирую Декларацию Независимости! Кто они такие, черт побери, спрошу я, и кем они себя воображают со своим Благодарением? Потом, встречая нас на вокзале, отец Тыквы спрашивает:
– Как поживаете, молодой человек? И я, конечно же, отвечаю:
– Спасибо, хорошо.
С чего это он, интересно такой добрый? Потому ли, что его заранее предупредили (я даже не знаю, быть ли мне в таком случае благодарным Тыкве, или, наоборот, обидеться на нее) – или потому, что он пока не в курсе? Может, мне стоит предупредить его прямо сейчас, пока мы не сели в машину? Да, конечно! Я не должен лгать! «Очень рад быть здесь, в Дэвенпорте, мистер и миссис Кемпбелл! Знаете, я ведь еврей, и все такое…» Нет, пожалуй, не обязательно бить во все колокола. «Как друг вашей дочери, мистер и миссис Кемпбелл, и как еврей, я хочу поблагодарить вас за приглашение…» Хватит выебываться! Но как же тогда поступить? Сказать что-нибудь на идиш? Что сказать? Мой словарный запас на идиш состоит из двадцати пяти слов – из них половина матерных, а другие я неправильно произношу! Слушай ты, дерьмо! Заткнись и садись в машину!
Спасибо, спасибо, – говорю я, подхватываю свой чемодан, и мы все направляемся к машине.
Кей и я садимся на заднее сиденье. Сюда же забирается собака! Собака Кемпбеллов! Кей разговаривает с псом, как с человеком. Эй, да она и впрямь шикса! Что за глупости – разговаривать с собакой?! Но ведь Кей отнюдь не дура. По совести говоря, она, пожалуй, умнее меня. И тем не менее говорит с собакой! «Что касается собак, мистер и миссис Кемпбелл, то мы, евреи…» Да забудь ты про это! В этом нет никакой необходимости. Ты небось забыл (или страстно хочешь забыть) о том красноречивом отростке, который называется твоим носом? Не говоря уже о еврейско-африканских кучеряшках! Конечно, они все знают. Извини, но от судьбы не уйдешь, буби – хрящи не выбирают! Но я не хочу уходить от судьбы! Прелестно-прелестно… – потому что не можешь! Но я могу – если захочу! Слушай ты ведь только что говорил, что не хочешь?! Но если бы я хотел!
Едва переступив порог дома Кемпбеллов, я начинаю тайком (к моему собственному удивлению) принюхиваться: чем же здесь пахнет? Картофельным пюре? Платьями старой девы? Свежей замазкой? Я все нюхаю и нюхаю, пытаясь уловить тот самый запах. Вот он! Это запах Христианства, или всего лишь вонь от собаки? Все, что я вижу в этом доме, все, что пробую на вкус, все, до чего дотрагиваюсь – все гойское. В первое утро я выдавил целый сантиметр «пепсодента» в раковину, прежде чем нанести зубную пасту на свою щетку – не дай Бог, чтобы на мою зубную щетку попала паста, которой касались зубные щетки мистера и миссис Кемпбелл! Честное слово! На куске мыла засохла пена. Кто мыл руки этим мылом? Мария? Можно ли мне брать в руки этот кусок мыла? Или сначала ополоснуть его? Для безопасности. Придурок, а чего ты опасаешься? Может, тебе дать еше один кусок мыла, чтобы вымыть им это мыло!
Я крадусь в туалет и начинаю разглядывать унитаз: «Ну что, брат? Настоящий гойский унитаз! Именно сюда роняет свое языческое говно отец твоей подружки. Что скажешь, а? Впечатляет?» Навязчивая идея? Я просто ошеломлен!
Теперь мне надо решить, стоит ли подставить бумагу, прежде чем опустить свою задницу на унитаз. Дело не в гигиене – я уверен, что унитаз чист; он блистает особенной гойской антисептической чистотой. Вопрос в другом: а что, если сиденье унитаза еще теплое от задницы кого-нибудь из Кемпбеллов? От задницы матери Кей! От задницы Марии! Которая является, кстати, и матерью Исуса Христа! Может быть, ради моей семейки мне все же стоит постелить бумагу на сиденье унитаза? Ну чего тебе стоит? Никто ведь не узнает.
Я сяду без бумаги! Я сяду! Что ж, сажусь… – и сиденье называется теплым! Да-а! Мне семнадцать лет, и я трусь задницей о задницу врага! Как далеко я зашел по сравнению с сентябрем! «У брегов Вавилона мы разбили бивак. О вершине Сиона – эх, не забыть нам никак!»[6]6
Перифраз псалма 136.
[Закрыть] Вот именно – «эх!» Здесь, на унитазе, меня вдруг одолевают сомнения и раскаяние. Меня неудержимо тянет домой… Как они там без меня? Как отец поедет без меня за «настоящим яблочным сидром» в Юнион? Меня не будет рядом с Ханной и Морти, когда они в День Благодарения отправятся на «Викуахик-Хиллсайд» болеть за нашу футбольную команду! Кто же их будет веселить вместо меня? Господи, надеюсь, что мы выиграем (победой считается проигрыш с разницей менее чем в двадцать одно очко). Разгромите вы этот «Хиллсайд», уроды! Берни, Сидней, Леон – давайте же, защитники, БОРИТЕСЬ!
Опа-опа, ды-ды-ды!
Мы пархатые жиды!
Учимся в Викуахик-Хай.
Нас не любят – и нехай!
Киш мир ин тучис,
Викуахик-Хай!
Давайте же – держите эту линию, забивайте голы, бейте их в кишки! Вперед, Викуахик, вперед!
Видите, я упускаю шанс повыпендриваться на трибуне! Продемонстрировать свое остроумие и сарказм! И после игры мне уже не попасть на исторический обед в честь Дня Благодарения! Не отведать блюд, приготовленных веснушчатым рыжим потомком польских евреев – моей матерью! Воображаю, как отольет кровь от их лиц, какая повиснет тишина, когда она достанет из кастрюли самый большой окорок индейки и спросит: – А это кому? Ну-ка угадайте!
Чего гадать? Тот, кому предназначен лучший окорок, удрал в самоволку. Почему я бросил семью на произвол судьбы? Может быть, наша семья за праздничным ужином не совсем похожа на тех персонажей, которых изображает на своих картинах Норман Рокуэлл, – но мы тоже умеем веселиться, уж поверьте! Да, у нас на День Благодарения не плимутроки, и ни один индеец еще не предлагал нам маис, – но вы только понюхайте, какой аромат! И обратите внимание: банки с клюквенной подливой – на каждом конце стола! И индейку зовут – Том! Так почему же мне не верить, что я ем праздничный ужин в Америке, что я нахожусь именно в Америке, а не в некоем другом месте, куда я непременно отправлюсь в один прекрасный день – путешествие это столь же неизбежно, как ежегодные ноябрьские поездки с отцом в Юнион, штат Нью-Джерси, к деревенской супружеской паре – за настоящим яблочным сиропом ко Дню Благодарения.
– Я поеду в Айову, – сообщаю я своим родителям по телефону.
– Куда?
– В Дэвенпорт, штат Айова.
– Первые свои каникулы ты решил провести в Айове?!
– …Да. Понимаешь, я не могу упустить такую возможность…
– Возможность?!. Какую возможность?
– Провести каникулы с семьей Билла Кемпбелла…
– С кем?
– С Кемпбеллом. Фамилия, как на банке с супом. Он мой сосед по общежитию…
Но они же все ждут меня. Все! Морти купил билеты не матч. О какой такой возможности я говорю?!
– И откуда вдруг взялся этот Кемпбелл? Кто он такой?
– Мой друг! Билл!
– Но… – говорит мой папа. – Как же сидр?
Вот оно, Господи! Сколько раз я клялся себе не поддаваться – но вот опять плачу! Одного слова «сидр» хватило, чтобы я заплакал. Папа просто самородок – он бы мог запросто разгадывать все головоломки в шоу Гручо Маркса! Меня он раскусывает постоянно! Все время попадает в десятку и срывает весь банк моего раскаяния.
– Извини, но я не смогу приехать… Я приглашен… Мы выезжаем!
– Выезжаете? Как это, Алекс? Я что-то совершенно не могу понять твоих планов, – вступает в переговоры мама. – Как это ты едешь? И куда, позволь узнать? Вы едете в автомобиле с откидывающимся верхом, да?
– НЕТ!
– А вдруг гололедица, Алекс…
– Мама, мы едем в танке «Шерман»! Это тебя устраивает? Устраивает?!
– Алекс, – говорит мама строго. – Я чувствую по твоему голосу, что ты не говоришь мне всей правды. Вы едете автостопом? Вы едете в автомобиле с откидывающимся верхом? И двух месяцев не прошло, как он вылетел из гнезда, семнадцать лет ему всего – он сошел с ума!
Шестнадцать лет минуло с того телефонного разговора. Полжизни. «Ноябрь, 1950» – дата Освобождения от рабства вытатуирована на моем запястье. Дети, которые еще не родились в тот день, уже поступают в колледжи – а я все звоню своим родителям, чтобы сообщить, что не смогу к ним приехать! Все еще сражаюсь со своей семейкой! Зачем же я перескакивал через два класса, зачем стремился определить всех, если в результате оказался в самом хвосте? В детстве я подавал просто фантастические надежды. Я должен был стать легендарной личностью. Я был звездой всех школьных спектаклей! Почему же я живу бобылем, почему у меня до сих пор нет детей? Этот вопрос совсем не «нон секвитур»! На службе я кое-чего достиг, карьера моя вполне состоялась, а вот личная жизнь! Ну чем я могу похвастать? По этой земле должны бегать малыши, похожие на меня! А почему бы и нет? Почему у каждого мудака с занавешенными окнами и с навесом для автомобиля есть потомство, а у меня нет? Это же глупо! Вы только представьте себе – все уже в прошли половину дистанции, а я все стою на старте! Я, первым сменивший пеленки на спортивную форму! Сто пятьдесят восемь пунктов интеллектуального коэффициента по-прежнему спорят с судьями о правилах скачек! Обсуждают, в какую именно сторону проводить забег! Сомневаются в компетентности и в правах судейской комиссии! Да, мама, «брюзга» – это правильное определение! «Кислая пилюля» – точнее не скажешь! «Мистер Истерика» – се муа![7]7
Это я (фр.).
[Закрыть]
Еще одно слово, которое я в детстве считал еврейским: истерика. «Ну, давай, закатывай истерику, – советовала мне мама. – Посмотрим, что это изменит, драгоценный мой сын». И как я старался! Как я лез на стенки ее кухни! Мистер Ярость! Мистер Бешеный! Мистер Сбрендивший! Вот какие титулы я снискал себе в отрочестве! Упаси Господь, чтобы кто-то увидел тебя в таком состоянии, Алекс! Я уверена, что никто ничего подобного даже представить себе не может! Мистер Всегда-Первый-И-Никогда-Не-Ошибающийся! Смотри, кто к нам пришел, папочка – Гном-Брюзга из сказки про Белоснежку! Ах, Ханна, Твой Брат Грубиян Почтил Нас Сегодня Своим Присутствием! Рада Видеть Вас, Грубиян.
– Хэй-хо, Сильвер! – охает моя мама, когда я бросаюсь из кухни в свою комнату, чтобы вцепиться зубами в одеяло. – Гневного Мальчика Опять Понесло!
В конце первого курса у Кей задержались месячные, и мы стали готовиться – безо всякой паники – наоборот, с восторгом – к свадьбе. Мы предложим свои услуги молодым супругам-преподавателям, у которых ходим в любим– чиках: будем нянчить их малыша, а они взамен разрешат нам жить в их мансарде и выделят для нас одну полку в холодильнике. Мы не будем тратиться на новую одежду, питаться станем одними макаронами. Кей будет писать стихи о материнстве и – как она сама заявила – перепечатывать за деньги курсовые работы. Мы оба получаем стипендию – что же нужно для полного счастья? (Кроме матраса, нескольких досок для книжных полок, пластинки со стихами Дилана Томаса и – со временем – детской кроватки). Мы воображали себя искателями приключений.
– И ты обратишься в иудаизм, ладно, Кей? – сказал я.
Я хотел, чтобы она отнеслась к моему вопросу иронически – или мне казалось, что я так хотел. Но Кей восприняла мое предложение серьезно. Не формально, а именно серьезно.
Кей Кемпбелл, Дэвенпорт, штат Айова:
– А с какой стати?
Потрясающая девушка! Изумительная, остроумная, искренняя девушка! Во всем согласная, заметьте, со мной! Теперь я понимаю, что именно ищут мужчины в женщине. А с какой стати? И никакой тупости в этом вопросе, никакого чувства собственного превосходства в ее голосе, – нет! Она не лукавит, она не насторожена. В ней просто говорит здравый смысл.
Только этот здравый смысл приводит нашего Портного в бешенство. Гневного Мальчика Опять Понесло! Что значит – «с какой стати»? Пойди спроси у своего пса, если сама не можешь сообразить, дура гойская! Спроси у своего четвероногого гения! «Спотти, ты хочешь чтобы Кей-Кей стала еврейкой? А парень?» А с какой стати ты так довольна собой, а? Может, потому, что беседуешь о собаками? Или потому, что можешь отличить вяз от других деревьев? Или потому, что твой отец разъезжает на деревянной колымаге? Какие у тебя достоинства? Этот нос а-ля Дорис Дей, что ли?!
К счастью, я был настолько изумлен своей оскорбленностью, что вслух, всего этого не сказал. Как это я умудрился почувствовать себя раненым в то место, которое было неуязвимым? Разве нам с Кей было не наплевать в первую очередь именно на деньги и на религию?! Нашим любимым философом был Бертран Расселл. Нашей религей была религия, которую исповедовал Дилан Томас – мы поклонялись Истине и Радости! Наши дети будут атеистами. Я просто пошутил!
Тем не менее, я так и не смог простить ей этой фразы. Тревога по поводу беременности оказалась ложной, и через пару недель меня стала раздражать ее пророческая манера говорить, а в постели она возбуждала меня не больше, чем медуза. И меня поразило, как тяжело она переживала, когда я в конце концов сказал ей, что нам отныне незачем продолжать нашу связь. Видите ли, я был предельно честен. Меня не упрекнул бы даже сам Бертран Расселл:
– Я больше не хочу с тобой встречаться, Кей. Извини, но я не буду притворяться.
Она так плакала… Бродила по кампусу с опухшими синими глазами, не показывалась в столовой, пропускала занятия… Я был ошеломлен. Потому что мне все время казалось, что это я ее любил, а не она меня. Каким сюрпризом для меня стало сие открытие!
Ах, мне было двадцать лет, и я разрывал отношения со своей возлюбленной – я впервые испытал тогда садистское наслаждение от подобного обращения с женщиной! И с новой силой стал вожделеть женщин. В июне того же года я вернулся в Нью-Джерси бодрый и жизнерадостный от сознания собственной «силы», и все удивлялся: как это меня угораздило на несколько лет увлечься такой заурядной и толстой девицей?
emp
Еще одно языческое сердце, разбитое мной, принадлежало «Страннице» – Саре Эббот Молсби: Нью-Ханаан, Фокскрофт и Вассар (где ее «компаньоном» был еще один льняноволосый красавец, ее голубок). Стройная, изящная, кроткая, пристойная девушка двадцати двух лет, свежеиспеченная выпускница колледжа, – Сара работала секретаршей в офисе сенатора от штата Коннектикут, когда я познакомился с ней в 1959 году.
В то время я служил в подкомитете Палаты представителей и расследовал скандал с телевикториной. Для кабинетного социалиста вроде меня дело было просто идеальным: коммерческая махинация общенационального масштаба, эксплуатация невинной публики, изощренное корпоративное сутяжничество – одним словом, старая добрая капиталистическая алчность. И, конечно же, орешек, который мне надо было раскусить – Шарлотан Ван Дорен. Такой характер, такие мозги, такое обаяние школьника и такая искренность – стопроцентный американец, короче говоря. И вдруг выясняется, что он мошенник. Ну, что ты об этом знаешь, языческая Америка? Супергой – и вдруг гониф! Крадет деньги. Жаждет денег. Страстно желает денег, и готов ради них на все. Господи ты боже мой – да вы такие же дрянные, как евреи! Вы, стопроцентные американские ханжи!
Да, в Вашингтоне я был просто счастлив. Я усиленно копал под белого хозяина, подрывая его авторитет и пятная его репутацию, одновременно трахал аристократическую красотку, чьи предки высадились на американский континент в семнадцатом веке. Феномен известен под названием «Ненавижу Гоев, Обожаю Шикс».
Почему я не женился на этой красивой и восхитительной девушке? Помню, с какой гордостью она – в темно-синем костюме с золотыми пуговицами – наблюдала с галерки для зрителей за тем, как я веду первый публичный перекрестный допрос этого скользкого типа… Я тоже выглядел весьма впечатляюще для первого появления на столичной публике: хладнокровный, упорный, логичный, со слегка учащенным пульсом – и всего двадцати шести лет от роду! О да, когда я располагаю козырными картами, то вам, аферистам, нужно быть начеку! Меня невозможно обвести вокруг пальца, когда я на четыреста процентов уверен в своей правоте!

Почему я не женился на Саре? Ну, во-первых, этот ее жаргон выпускницы закрытого пансиона. Я его просто терпеть не мог! «Хвалиться харчами» вместо «блевать», «крутняк» вместо «хорошая вещь», «тащиться» вместо «чувствовать себя хорошо», «дятел» вместо «сумасшедший»… Да, еще «балдежный» (что в перводе на язык Мэри Джейн Рид означает «чумовой». Я только и делаю, что учу этих девиц правильно говорить – и это с моим-то словарным запасом из пятисот нью-джерсийских слов!). Во-вторых, прозвища ее подружек – и сами эти подружки! Пуди и Пип, Пебл, Шримп, Брют, Таг, Скуик, Бампо, Бабба – слушая Сару, можно было подумать, что она училась в Вассаре с племянниками Дональда Дака! Впрочем, в свою очередь, и мой жаргон не вызывал восторга у Сары. Когда я впервые в ее присутствии (и в присутствии ее подружки Пебл, одетой в кардиган с воротником как у Питера Пэна, и загорелой до черноты – Пебл ведь не вылезала с теннисных кортов «Шеви Чейз Клаб») произнес слово «пизда», то на лице Странницы появилось такое выражение, будто я эти пять букв выжег на ее теле. Почему тебе обязательно нужно выглядеть «непривлекательно»? – жалобно спросила Странница, как только мы остались одни. Мне что, доставляет удовольствие выглядеть «невоспитанным»? Что я, собственно говоря, пытаюсь этим «доказать»? «Это было так неуместно». Неуместность и стала одной из первых провозвестниц грядущего разрыва.
Что в постели? Ничего особенного: никакой акробатики, никаких чудес ловкости. Как мы трахались в первый раз – так и продолжали трахаться – я наступал, она сдавалась. Но жару мы на фамильной кровати Молсби (с пологом на четырех столбиках красного дерева) давали – дай Бог. Единственным нашим дополнительным источником наслаждения служило огромное – в полный рост – зеркало, вделанное в дверь ванной.
– Взгляни, Сара, взгляни… – шептал я ей на ухо, прижимая ее к себе.
Сначала она стеснялась, скромничала и смотрела в зеркало только потакая моей прихоти, однако потом пристрастилась и следила за нашим отражением испуганно-возбужденным взглядом. Интересно, она видела то же, что видел я? Леди и джентльмены! Черные волосы на лобке, семьдесят семь килограммов веса, из которых половину составляют непереваренные халва и пирожные… Шнобель, леди и джентльмены, – Александр Портной, Ньюарк, штат Нью-Джерси! И его соперница: светлый пушок на лобке, безупречно стройные ноги, красивые руки, кроткое женственное лицо кисти Боттичелли, популярнейший поставщик прелестей общественной жизни, пятьдесят два килограмма республиканской рафинированности и пара самых дерзких грудей во всей Новой Англии… – Сара Эббот Молсби, Нью-Ханаан, штат Коннектикут!
Я хочу сказать, доктор, что я не просто трахал этих девушек, – я трахал их происхождение! Своим траханьем я открывал Америку. Колумб, капитан Смит, губернатор Уинтроп, генерал Вашингтон – и вот теперь Портной. Видно, таков мой удел – соблазнить по девушке из каждого из сорока восьми штатов. Аляска и Гавайи не в счет – к эскимоскам и папуаскам я не питал никаких чувств. На кой мне сдались эти узкоглазые? Нет, я дитя сороковых годов, радиотрансляционных установок, Второй Мировой войны, восьми команд в высшей лиге и страны, в которой было сорок восемь штатов. Я знаю все слова «Гимна морской пехоты» и «Песни Военно-Воздушных Сил»! Я знаю текст марша морской авиации: «Небесные якоря отдать! Мы небесные моряки! Мы плаваем повсюду…» Я могу вам спеть даже гимн «Сибиз». Давайте, Шпильфогель, назовите мне род войск, в которых вы служили – я спою ваш гимн! Пожалуйста, сделайте мне одолжение – это мой хлеб! Я помню, как расстелив на бетонном полу школьного подвала свои пальтишки, мы садились, прислонившись к стене, и пели хором вплоть до отбоя воздушной тревоги, поддерживая таким образом свой моральный дух. «Помолись Господу и передай снаряд». «Сказал пилот (Уж поверьте ему), потому что был он сын стрелка-а-а!» Назовите любой военный марш, и если он написан во славу Звезд и Полос, то и спою вам его от начала до конца! Да, я дитя учебных воздушных рейдов, доктор; я помню «Коррехидор» и «Церемониальный марш Америки», я помню трепещущий на флагштоке стяг, который приспустили над могилой Айво Джима. Мне было восемь лет, когда охваченный пламенем самолет Колина Келли упал на землю, мне было двенадцать, когда Хиросиму и Нагасаки стерли в порошок, – четыре года моего отрочества были заполнены ненавистью к Гитлеру и Муссолини – и любовью к нашей храброй, непреклонной стране! Всем своим маленьким еврейским сердцем я поддерживал американскую демократию! Мы победили, враг разбит на задворках Вильгельмштрассе – разбит еще и потому, что я молился о его гибели. Война завершена, и я с нетерпением жду – повестку. Я хочу стать рядовым американской армии! Настоящий американский идиот! Я присягаю на верность американской пизде – и ее суверенным республикам: Дэвенпорт, штат Айова! Дейтон, штат Огайо! Скенектеди, штат Нью-Йорк (а также близлежащая Троя)! Форт-Майерс, штат Флорида! Нью-Ханаан, штат Коннектикут! Чикаго, штат Иллинойс! Альберт-Ли, Миннесота! Портленд, Мэн! Маундсвилл, Западная Виргиния! Родимая страна шикс – тебе пою я славу!
От горных круч до прерий,
От океана к океану,
Боже, храни А-ме-ри-кууууууу!
Мой дом, РОДИМЫЙ ДОМ-МММММММ!
Можете себе вообразить, какое впечатление произвело на меня известие о том, что на протяжении нескольких поколениий всех Молсби хоронили на кладбище в Ньюбэрипорт, штат Массачусетс, а всех Эбботов – в Салеме.
Страна, где погибла наши отцы, страна гордых пилигримов… И странниц. Вот именно. Более того! Господа, взгляните на эту девушку. У ее матери мурашки ползли по коже при упоминании имени Элинор Рузвельт. Саму девушку в Хоуб-Саунде, штат Флорида, в 1942 году баюкала Уэнделл Уилки! (Мой папа в те времена молился Франклину Делано Рузвельту, а мама зажигала для него свечи по пятницам.) Сенатор от штата Коннектикут в студенческие годы жил в одной комнате с ее отцом в общежитии Гарварда. Ее брат по кличке «Пузо» окончил Йельский университет, играет на Нью-Йоркской Фондовой Бирже и (Господи, как мне повезло!) в поло (да-да, это такая игра верхом на лошади) по воскресеньям в каком-то клубе округа Уэстчестер. Понимаете, эта девушка вполне могла бы принадлежать к клану Линдбери. Она могла бы быть дочерью босса моего отца! Эта девушка знала, как управляться с парусной яхтой, как есть десерт серебряными приборами (кусок пирога, который уместился бы у вас в руке – и который можно было есть руками! – она ухитрялась есть манипулируя своими вилочками и ложечками примерно так, как орудует палочками китаец. Вот какого совершенства она достигла в далеком Коннектикуте!). С легкостью необыкновенной она принимала участие в затеях, которые представлялись мне экзотическими и даже запретными. Узнавая о ее увлечениях, я ощущал себя Дездемоной, которой вдруг рассказали про антропофагию. Как-то раз я нашел в ее альбоме газетную вырезку. Статья называлась «Дебют каждый день» и начиналась следующим пассажем: «САРА ЭББОТ МОЛСБИ»: «Уткам, фазанам и перепелам лучше драпать из окрестностей Нью-Ханаана, потому что нынешней осенью дочь мистера и миссис Молсби – Салли – собирается поупражняться в стрельбе…» Она стреляет из ружья, доктор! «…охота – одно из увлечений Салли. Она также любит ездить верхом, а летом надеется…» – внимание, доктор, это покорило бы всех – «… летом надеется порыбачить, и выудить несколько форелей из ручья, что протекает неподалеку от летнего дома Молсби».
Вот что она не умела – так это сосать член. Стрелять из ружья по перепелкам – пожалуйста, а отсосать мой член – ни-ни. «Извини меня, – говорила Салли. – Я не хотела тебя так расстраивать, но сделать то, о чем ты просишь, я не могу.» Я не должен воспринимать это как личное оскорбление, потому что дело вовсе не во мне… Не во мне? Хрена с два, девушка! Да, меня приводило в ярость именно то, что она подвергает меня дискриминации! Мой папа не смог подняться по служебной лестнице в «Бостон энд Нортистерн» именно по той же причине, по которой Салли Молсби отказывается опуститься передо мной на колени и отсосать мой член! Где же справедливость? Где Антидискриминационная Лига Бнай Брит?
– Тогда я тебя полижу, – говорю я.
Странница пожимает плечами и отвечает вежливо:
– Ты можешь этого не делать… Если ты не хочешь…
– Но я хочу! Причем тут «можешь»? Я хочу!
– А я – нет, – отвечает Салли.
– Но почему?
– Потому что. Не хочу.
– Черт подери, Сара, что за детский лепет – «потому что»?! В чем дело?
– Я… я просто не хочу этого делать. Вот и все.
– Ну, что ж, начнем все сначала. Почему?
– Алекс, я не могу. Просто не могу.
– Ну назови мне хоть одну причину!
– Прекрати, пожалуйста, – отвечает она, зная о своих правах. – Я не обязана ничего тебе объяснять.
«Не обязана ничего объяснять!» Да мне и без того все ясно: я не хочу сосать твой член потому, что ты не умеешь ставить паруса, ты понятия не имеешь о том, что такое кливер, у тебя никогда не было фрака, и ты не умеешь танцевать котильон… Да, сэр, если бы я был блондинистым гоем в розовом жокейском наряде и в стодолларовых охотничьих ботинках, то не сомневайтесь – она сосала бы мой член как миленькая.
Я ошибся. Три месяца я пригибал ее голову к моему члену (сталкиваясь с неожиданно стойким сопротивлением. Моя милая возлюбленная оказалась упрямой, как черт), три месяца я обрушивал на нее аргументы, три месяца я по ночам тащил ее за уши к моему члену, – и вдруг, однажды вечером, когда мы слушали концерт Будапештского струнного квартета в Библиотеке Конгресса (на концерт меня пригласила Странница. Исполняли Моцарта), и раздались заключительные аккорды квинтета для кларнета и струнных, – в этот драматический момент раскрасневшаяся Салли вдруг схватила меня за руку. Концерт закончился, мы поехали к ней, забрались в постель, и тут она вдруг заявляет:
– Алекс, я сделаю это… – Что?
Но она уже забралась под одеяло и прильнула к моему члену. Она сосала мой член! Если можно так выразиться…
Потому что она просто взяла мой член в рот и держала его во рту ровно минуту – как градусник, доктор! Я отбросил прочь одеяло: ощущать я почти ничего не ощущал, но ведь нельзя было упустить историческое зрелище! Только Салли, оказывается, уже отработала свою смену. Она вытащила мой член из своего рта, и теперь он торчал у ее щеки, словно переключатель коробки передач в ее «Хиллмен-Минксе». А по щекам Салли катились слезы.



