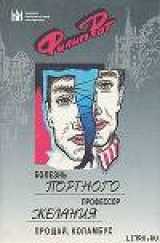
Текст книги "Болезнь Портного"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
ДРОЧКА
Затем пришла юность – примерно половину той поры я провел запершись в ванной, спуская в унитаз или в корзину с грязным бельем, или брызгая на зеркальную дверцу аптечки, перед которой я стоял со спущенными штанами и всматривался в свое отражение, стараясь не упустить ни одной подробности. Бывало и так: склонившись к дергающемуся кулаку, зажмурясь и разинув рот, я поджидал, когда из моего члена ударит клейкая струя, чтобы поймать ее на язык. Сделать это с закрытыми глазами было непросто, и я частенько в экстазе оказывался заляпанным с головы до ног. Так я и вел по жизни свой восставший облупленный член – сквозь мир замызганных носовых платков, скомканных бинтов и перепачканных пижам, – постоянно трясясь от страха быть застигнутым в тот самый момент, когда буду кончать. Но, несмотря на это, я никак не мог заставить себя держать лапы подальше от хрена. Как только тот начинал ползти вверх, к пупку, я отпрашивался с урока, мчался по коридору в сортир и, подергав своего приятеля раз десять-пятнадцать, спускал в писсуар. По субботам, когда мы с приятелями ходили в кино, я, улучив момент, пока те в перерыве отправлялись в фойе купить леденцов, забирался на балкон и, скорчившись в последнем ряду, извергал свое семя в пакет из-под воздушной кукурузы. Однажды, когда мы всей семьей выехали на пикник, я почистил яблоко, разрезал его пополам, выскреб сердцевинку, увидел к вящему своему изумлению (благодаря преследовавшей меня навязчивой идее) на что это похоже, бросился в лес, упал на землю и сунул член в холодную и рыхлую выемку яблока, воображая, что выемка эта на самом деле находится между ног того мифического создания, которое называло меня Большим Парнем, вымаливая у меня то, чего не удостаивалась еще ни одна девушка за всю историю. «О, засунь его в меня, Большой Парень», – стонало яблоко, которое я трахал во время того пикника. «О, Большой Парень, трахни меня!» – умоляла молочная бутылка, которую я хранил в подвале, и которую яростно насиловал после школы, смазав предварительно член вазелином. «Давай, Большой Парень, давай!» – повизгивала говяжья печенка, купленная мной в один прекрасный день в мясной лавке. Хотите верьте, хотите – нет, но я, совершенно обезумев, изнасиловал тот кусок мяса по дороге на занятия по подготовке к бар-мицве, спрятавшись за афишной тумбой.
К концу первого года обучения в средней школе – и первого года занятий мастурбацией – я неожиданно обнаружил на нижней стороне своего пениса, у самой головки, небольшое пятнышко, признанное впоследствии родинкой, Рак. Я подхватил рак. Непрестанное дерганье полового члена, бесконечные фрикции довели меня до неизлечимой болезни. А мне еще нет и четырнадцати лет! По ночам, лежа в постели, я обливался горючими слезами. «Я не хочу умирать! Пожалуйста! – всхлипывал я под одеялом. – Не хочу! Пожалуйста!» Но затем, немного поплакав и резонно решив, что в любом случае скоро буду хладным трупом, – я опять принимался дрочить и спускал в собственный носок. Я всегда брал с собой в постель носки – в один из них я кончал перед сном, а во второй – после пробуждения.
Если бы только я мог ограничиться одной мастурбацией в день! Или двумя. Или хотя бы тремя. Увы. Перед лицом грядущей скорой смерти я бил один рекорд за другим. Перед едой. После еды. Во время еды. Я вскакиваю из-за обеденного стола, трагически хватаясь руками за живот.
– Понос! – кричу я. – У меня понос!
Мчусь в туалет, запираю за собой дверь и натягиваю на голову трусы, похищенные из платяного шкафа сестры. Я держал их в кармане, завернутыми в носовой платок. Хлопчатобумажная материя, которой я касаюсь губами, настолько возбуждает меня – само слово «трусы» так возбуждает, – что траектория моей эякуляции достигает невиданных доселе высот: вырвавшись из головки члена подобно ракете, сперма ударяет прямо в лампочку над моей головой, где и повисает перламутровой каплей, к моему ужасу. Перепутавшись, я прикрываю голову руками, ожидая взрыва и звона разбитого стекла – как видите, мысли о катастрофе ни на секунду не покидали меня. Потом, стараясь не шуметь, вскарабкиваюсь на радиатор и снимаю раскаленную каплю с помощью туалетной бумаги. Затем начинается тщательный осмотр – в поисках следов преступления я обследую клеенчатую занавеску, ванну, пол, четыре зубные щетки – Боже избави! – и в ту секунду, когда уже собираюсь открыть дверь, воображая, что замел все следы – в эту самую секунду душа моя уходит в пятки: капля спермы примостилась, подобно сопле, на носке моего ботинка. Я – Раскольников онанизма: клейкие, липкие улики буквально повсюду! Может, у меня и на манжетах сперма? и в волосах? в ушах? Именно эти мысли не дают мне покоя, когда я возвращаюсь за обеденный стол – раздраженный и измученный.
– Не понимаю, почему ты запираешься в ванной на щеколду? – спрашивает отец, разевая набитый красным желе рот. – Ума не приложу. Это же все-таки квартира, а не Центральный вокзал.
– …уединение… я же человек… больше не буду… – бормочу я в ответ, уверенный в своей правоте, а потом отшвыриваю прочь десерт и срываюсь на крик: – Я плохо себя чувствую! Можете оставить меня в покое?!
После десерта – я все-таки съедаю его, потому что очень люблю желе – после десерта я снова в ванной. Переворошив ворох грязного белья, отыскиваю нестиранный бюстгальтер сестры, цепляю одну бретельку за дверную ручку, а другую – за шкафчик для белья: получившееся пугало будит во мне новые мечты. «Давай, Большой Парень, дрочи что есть мочи!» – и я, подстегиваемый маленькими чашечками лифчика Ханны, принимаюсь терзать свой член… как вдруг кто-то стучит в дверь свернутой газетой. Я от страха аж подскакиваю на унитазе.
– Послушай, может ты позволишь и другим посидеть на толчке? – спрашивает отец. – Я уже неделю в сортир не ходил.
Восстановив равновесие на унитазе – это мой большой талант – я взрываюсь, оскорбленный в лучших чувствах:
– У меня понос! Это о чем-нибудь говорит хоть кому-нибудь в этом доме?! – а сам тем временем с еще большим усердием возобновляю дрочку.
А потом лифчик Ханны начинает двигаться. Он колышется! Я закрываю глаза, и вот! – Леонора Лапидус! Девочка из моего класса, у которой самые большие груди, бежит к автобусной остановке, и ее неприступный бюст вздымается, обтянутый блузкой, и я запускаю свои лапы за вырез блузки и высвобождаю груди Леоноры из лифчика, НАСТОЯЩИЕ ГРУДИ ЛЕОНОРЫ ЛАПИДУС, и … и в эту самую секунду я вдруг обнаруживаю, что мама изо всех сил дергает за ручку двери. Двери, которую я-таки забыл закрыть на щеколду! Я знал, что это когда-нибудь случится! Меня застукали! Это конец!
– Открой дверь, Алекс. Я хочу, чтобы ты немедленно открыл эту дверь.
Дверь закрыта! Меня не поймали! И я еще жив – судя по тому, как ведет себя мой живчик. Так вперед же! Вперед! «Лижи меня, Большой Парень! Лижи меня! Я – страстный лифчик Леоноры Лапидус!»
– Алекс, ответь мне. Ты ел после школы хрустящий картофель? Это из-за него ты так страдаешь?
– О-о-охх! О-о-охх!
– Алекс, тебе больно? Может, мне вызвать врача? Алекс, тебе больно, или нет?! Я хочу знать, что именно у тебя болит. Отвечай.
– А-ах! А-ах!
– Алекс, не смывай за собой унитаз, – слышен из-за двери строгий голос моей мамы. – Я хочу посмотреть, что там у тебя. Мне не нравятся эти звуки.
– А вот я, – встревает в переговоры отец, впечатленный, как водится, моими достижениями, – я уже неделю в сортир не ходил.
Именно в эту секунду я вскакиваю с унитаза и, постанывая, словно подстегиваемое кнутом животное, спускаю три капли чего-то клейкого в кусок ткани, за которым моя плоскогрудая восемнадцатилетняя сестра прячет свои соски. Это мой четвертый оргазм за день. Когда же я начну истекать кровью?
– Поди сюда, пожалуйста, – говорит мама. – Зачем ты спустил воду? Я же просила тебя не делать этого.
– Я забыл.
– И что же там было такого необычного? Почему ты спустил воду столь поспешно?
– Понос.
– Преимущественно жидкий или похожий на детские какашки?
– Я не смотрел. Не смотрел я!! И не говори мне «какашки» – я уже скоро школу заканчиваю!
– Не надо на меня кричать, Алекс. Поносом тебя не я наградила, уж поверь. Если бы ты ел только то, что готовлю я, ты не бегал бы в туалет по пятьдесят раз на дню. Мне Ханна обо всем рассказала, так что ты не думай, будто я не в курсе того, что происходит.
Она недосчиталась трусов! Меня раскрыли! О, почему я не умер! Я хочу умереть! Как можно быстрее!
– Ну… и что же происходит?.. – осторожно спрашиваю я.
– Ты вместе с Мелвином Вейнером заходишь после школы в закусочную «У Харолда» и кушаешь там хрустящую картошку. Разве не так? И не надо мне лгать! Ты кушаешь хрустящий картофель с кетчупом в закусочной на Готорн-авеню, или нет? Джек, поди сюда, я хочу, чтобы ты тоже это слышал, – зовет мама отца (тот сменил меня на унитазе).
– Послушайте, могу я спокойно посидеть на толчке? – отзывается папа. – У меня что, без того забот мало, чтобы на меня еще орали, когда я сижу на унитазе?!
– Ты знаешь, чем занимается твой сын после школы – этот отличник, которому родная мать уже не смеет говорить слово «какашка» – такой он взрослый! Чем, по-твоему, занимается твой сын, когда его никто не видит?
– Вы можете меня оставить в покое?! – орет отец. – Могу я посидеть спокойно?! Может, у меня что-нибудь получится на этот раз.
– Вот увидишь, что будет, когда папа узнает, какие вещи ты вытворяешь вопреки здравому смыслу и во вред собственному здоровью… Алекс, ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Ты у нас такой умный, ты теперь знаешь ответы на все вопросы – так вот, ответь мне: отчего, по-твоему, Мелвин Вейнер заболел хроническим колитом? Почему этот ребенок половину своей жизни провел в больницах?
– Потому что он ест хрустящую картошку.
– Не смей надо мной смеяться!
– Ну хорошо! – ору я. – Так отчего же он заболел колитом?!
– Потому что он ест хрустящий картофель! Только ничего смешного в этом я не вижу! Потому что для этого ребенка еда – это хрустящая картошка и бутылка «пепси». Потому что завтрак его состоит – знаешь из чего? Завтрак – наиболее важный из всех приемов пищи. И это не мнение твоей матери, Алекс. Так считают все самые знаменитые диетологи. Так вот: знаешь ли ты, что Мелвин Вейнер ест на завтрак?
– Пончики.
– Да, пончики, мистер Умник, мистер Взрослый. И кофе. Кофе и пончики. И с этого тринадцатилетний пишер начинает свой день! С полупустым желудком! Но тебя-то, слава Богу, воспитывают по-другому. Твоя мама не шляется подобно некоторым – не буду называть никаких имен – по магазинам все дни напролет. Скажи мне, Алекс, если это, конечно, не тайна. Или, может быть, я глупая и ничего не понимаю… Скажи мне: чего ты добиваешься? Что ты хочешь этим доказать? Зачем ты пичкаешь себя всякой дрянью, когда ты можешь придти домой и съесть булочку с маком, а потом запить ее стаканом молока? Я хочу знать правду. Обещаю не говорить об этом папе, – говорит мама, многозначительно понижая голос, – но я должна узнать правду из первых рук.
Мама выдерживает паузу. Тоже многозначительную. И продолжает:
– Ты кушаешь там только хрустящий картофель, дорогой, или еще что-нибудь?.. Скажи мне, пожалуйста, какую еще дрянь ты кушаешь там, чтобы мы выяснили первопричину твоего поноса. Мне нужен твой честный и прямой ответ, Алекс. Ты там кушаешь гамбургеры, да? Ответь мне, пожалуйста, когда ты спускал воду в унитазе – там был гамбургер?
– Я тебе сказал уже – не смотрю я в унитаз, когда спускаю воду! Меня, в отличие от тебя, не интересуют какашки! Тем более чьи-то!
– Ах, ах, ах! Тринадцать лет, и уже ничего ему не скажи! И кому ты так грубишь? Человеку, который спрашивает тебя о твоем здоровье! Который заботится о твоем благополучии! – вопиющая непостижимость ситуации, того гляди, заставит ее расплакаться. – Алекс, ну почему ты становишься таким? В чем дело? Скажи мне, пожалуйста, чем мы заслужили такое твое отношение? Что мы сделали такого ужасного?
Я думаю, что ее на самом деле заботит. Мне кажется, что мама считает вопрос риторическим. Самое ужасное, что так считаю и я. Что они сделали для меня, кроме самопожертвования? Этот ужасный факт до сих пор вне моего понимания, доктор. До сих пор!
Теперь я должен приготовиться к разговору шепотом. Я научился улавливать шепот за милю: мы начинаем обсуждать головные боли отца.
– Алекс, разве ты не знаешь, что у отца такие головные боли, что он почти ничего не видит? – Мама проверяет, не слышит ли нас отец. Боже упаси, если он вдруг узнает о том, в каком критическом состоянии его здоровье. – Разве ты не знаешь, что на следующей неделе папе предстоит обследование?
– Какое обследование?
– «Приводите его, – сказал мне доктор. – Проверим, нет ли у него опухоли», – шепчет мама.
Все, цель достигнута. Я начинаю плакать. Каких-либо стоящих причин для моих слез нет, но в нашей семейке каждый старается поплакать хотя бы раз в день. Мой отец – вы должны это понять, и у меня нет в этом никаких сомнений, ибо шантажисты составляют значительную часть человеческого сообщества, а следовательн, смею предположить, и значительную часть вашей клиентуры, доктор, – так вот, мой отец «проходит обследование» на предмет опухоли столько, сколько я себя помню. Постоянные головные боли преследуют его, конечно же, из-за запоров. А запорами папа мучается потому, что деятельностью его пищевого тракта ведает фирма «Беспокойство, Страх и Отчаяние». Это правда, что доктор однажды сказал моей маме, что он готов проверить, нет ли у ее супруга опухоли. «Если это вас осчастливит» – таков, похоже, был подтекст. «Хотя, – предположил тогда доктор, – будет дешевле и, возможно, эффективнее поставить вашему супругу клизму». Я знаю обо всем этом, и тем не менее сердце мое разрывается при одной мысли о том, что череп моего отца может расколоться от злокачественной опухоли.
Да, мама всегда добьется своего, и она это знает. Я напрочь забываю о собственной неизлечимой болезни – раке полового члена, – и погружаюсь в глубокую печаль. До сегодняшнего дня я неизменно печалюсь, стоит мне только подумать о том, сколько сфер человеческой жизни находится вне понимания моего отца. И вне его досягаемости. У папы нет денег, нет образования, он не умеет говорить; он любопытен, но бескультурен; напорист, но ему не к чему приложить свою энергию; папа обладает опытом, но лишен мудрости… С какой легкостью эти несоответствия вызывают у меня слезы! Почти с той же легкостью, с какой они вызывают у меня ярость.
Личностью, с которой папа настойчиво предлагал мне брать пример, был в одно время театральный продюсер Билли Роуз. Уолтер Уинчел рассказал моему отцу, что карьера Билли Роуза началась с того, что Бернард Барух принял его на работу секретарем, поскольку Билли Роуз отлично владел стенографией.
– И кем был бы сейчас Билли Роуз, если бы не знал стенографии, Алекс? Никем! Так почему же ты противишься этому?
Еще до стенографии мы с отцом сражались по поводу пианино. Этот человек, у которого в доме не было ни проигрывателя, ни хотя бы одной пластинки, был просто одержим страстью к музыкальным инструментам.
– Я не понимаю, почему ты не хочешь играть на музыкальном инструменте? Я просто ума не приложу. Твоя двоюродная сестра, маленькая Тоби, может сесть за пианино и сыграть любую песню – какую захочешь. Стоит ей просто сесть за пианино и сыграть «Чай для двоих», и каждый из присутствующих уже ее друг. У нее нет проблем с друзьями, Алекс, у нее нет проблем с популярностью. Ты только скажи мне, что будешь заниматься музыкой, и я завтра же куплю тебе пианино. Алекс, ты слышишь, что я тебе говорю? Я предлагаю тебе нечто такое, что может изменить всю твою жизнь!
Но то, что предлагал мне отец, меня не интересовало. А то, что я хотел, он мне никогда не предлагал. Но что в этом необычного? Почему это до сих пор так мучает меня? После стольких лет! Доктор, от чего я должен избавиться – от ненависти… или от любви? Скажите же мне… Потому что я до сих пор не удосужился вспомнить ничего хорошего – я имею в виду те воспоминания, которые вызывают во мне восторженно-щемящее чувство утраты… Эти воспоминания, похоже, так или иначе связаны с погодой, с определенным временем суток. Они иногда вспыхивают в моем сознании с такой остротой, что в те мгновения я уже не в подземке, не в офисе, не на обеде с красивой девушкой, – нет! В эти секунды я возвращаюсь в детство, к ним. Это – воспоминания практически ни о чем, и тем не менее они представляются мне столь же переломными моментами моей жизни, каким является, например, момент моего зачатия. Моя благодарность – да-да, благодарность – столь безмерна, любовь моя к родителям так пронзительна и безгранична, что я, похоже, действительно помню то мгновение, когда папины сперматозоиды оплодотворили мамину яйцеклетку… Я на кухне (может быть, впервые в жизни). «Посмотри в окно, малыш», – говорит мама, и я послушно поворачиваю голову.
– Видишь? Этот багрянец? – показывает мама. – Настоящее осеннее небо.
Первая поэтическая строчка, услышанная мною! И я запомнил ее! Настоящее осеннее небо… Или еще: морозный январский день, сумерки – о, эти воспоминания о сумерках убьют меня, ей-Богу, – в окошке уже висит луна, я только что вернулся домой, щеки мои пунцовые от мороза, и я заработал доллар, сгребая снег с тротуара.
– Знаешь, что я приготовила тебе на обед? – сладко воркует мама. – Знаешь, что я приготовила моему трудолюбивому мальчику? Твое любимое зимнее блюдо. Тушеную баранину.
…Ночь. Все воскресенье мы провели в Нью-Йорке, ходили в Радио-Сити, побывали в Чайна-тауне, и вот теперь возвращаемся домой через мост Джорджа Вашингтона. Кратчайший путь из Нью-Йорка в Джерси-Сити лежит через тоннель «Холланд», но я так просил поехать по мосту, да и мама находит подобную поездку «расширяющей кругозор». И поэтому папа делает десятимильный крюк. На переднем сиденье сестра считает вслух многочисленные опоры моста, между которыми натянуты великолепные, расширяющие кругозор тросы, а я засыпаю на заднем сиденье, уткнувшись носом в мамино черное котиковое пальто.
В один из зимних уик-эндов мы всей семьей едем в Лейквуд. Ночь с субботы на воскресенье. На одной из двуспальных кроватей спим мы с отцом, на другой свернулись калачиком мама с Ханной. На рассвете меня будит папа, мы тихо одеваемся и, подобно заключенным, решившимся на побег, бесшумно выскальзываем из комнаты.
– Пойдем, – шепотом говорит отец, жестами показывая мне, что надо надеть пальто и шапку. – Я хочу показать тебе кое-что. Я не говорил тебе, что работал здесь официантом, когда мне было шестнадцать?
Мы выходим из отеля, и папа показывает на безмолвную, изумительной красоты лесную чащу.
– Ну как? – спрашивает отец. Мы идем рядышком – «спортивным шагом» – вдоль серебристого озера. – Дыши глубже. Вдыхай хвойный аромат полной грудью. Это самый лучший воздух на земном шаре – хороший зимний хвойный воздух.
Хороший зимний хвойный воздух – еще один родитель-поэт! Я не испытал бы подобного трепета, даже если бы родился сыном Вордсворта!..
Летом папа остается в городе, а мы втроем отправляемся на побережье, где на месяц снимаем меблированную комнату. Отец присоединится к нам в последние две недели, когда начнется его отпуск… но в это время Джерси-Сити так распухает от влажности, и на город с близлежащих болот обрушиваются такие полчища комаров, что папа после работы трясется по старому разбитому шоссе шестьдесят пять миль – только ради того, чтобы провести ночь с нами в обдуваемой бризом комнате на Брэдли-Бич.
Он приезжает, когда мы уже поужинали. Впрочем, папа ужинать не торопится. Он снимает с себя потемневшую от пота одежду, в которой он целый день кружил по городу, собирая взносы, и надевает плавательный костюм. Я беру полотенце и иду вслед за отцом, который шлепает к пляжу в туфлях с развязанными шнурками. На мне чистенькие шорты и футболка без единого пятнышка, я смыл под душем морскую соль, и мои волосы – мои мальчишечьи кучеряшки, поддающиеся еще гребешку – аккуратно расчесаны на пробор. Вдоль дощатого настила тянутся ржавые железные поручни. Я усаживаюсь на них и смотрю вниз. Там мой папа пересекает в своих туфлях с развязанными шнурками пустынный пляж. Аккуратно расстилает полотенце, кладет часы в правую туфлю, очки – в левую… И вот он готов к погружению в морскую пучину. До сегодняшнего дня я вхожу в воду так, как меня учил отец: сначала погружаю в воду кисти рук, затем смачиваю подмышки, плескаю себе в лицо, осторожно – очень-очень осторожно – выливаю пригоршню воды на затылок… Такой способ действует очень освежающе и одновременно позволяет избежать шокового воздействия холодной воды на организм. Освеженный, избежавший шока, отец оборачивается, комически машет рукой в ту сторону, где, по его мнению, находится его сын, и плюхается спиной в море. Лежит на спине, раскинув руки. Лежит неподвижно – он работает, он вкалывает изо всех сил, и все ради меня, – затем переворачивается, наконец, на живот, шлепает несколько раз руками по воде, нащупывает дно и медленно бредет к берегу. Его короткое мокрое туловище поблескивает под последними лучами солнца, которое садится за горизонт у меня за спиной, в задыхающемся от влажного зноя Нью-Джерси, откуда меня так удачно вывезли.
И таких воспоминаний у меня много, доктор. Очень много. Это я вам про своих родителей рассказываю.
emp
Но… но… но… – дайте-ка я возьму себя в руки – вот уже новое видение. Папа выходит из ванной, яростно массируя затылок и морщась от изжоги.
– Ну, что у вас тут за срочное дело, о котором вам неймется поговорить?
– Нет, ничего… – отвечает мама. – Мы уже обо всем договорились.
Папа укоризненно смотрит на меня. Он живет ради меня, и я это знаю.
– Что он натворил?
– Что было – то было. Мы уже обо всем договорились, слава Богу, – говорит мама. – Сам-то ты как? Сходил?
– Конечно, не сходил.
– Джек, что с тобой будет – с твоими кишками?
– Думаю, они окаменеют – вот что с ними будет.
– Это потому, что ты слишком быстро кушаешь.
– Я не кушаю быстро.
– А как же ты кушаешь – медленно, что ли?
– Я ем нормально.
– Ты ешь как свинья. Кому-то все равно надо сказать тебе об этом.
– Ты иногда выражаешься весьма изысканно. Не замечала?
– Я всего лишь говорю правду, – парирует мама. – Я целый день суечусь на кухне, а ты вечно ешь так, словно спешишь на пожар. А этот – этот решил, что я готовлю недостаточно вкусно. Он предпочитает травиться и путать меня до смерти.
Что он натворил?
– Мне не хочется огорчать тебя, – отвечает мама. – Поэтому давай просто забудем о том, что произошло.
Но мама не может забыть, и потому теперь уже она начинает плакать. Видите ли, ее тоже вряд ли можно назвать самым счастливым человеком в мире. Когда-то мама была стройной девчонкой, которую мальчишки-старшеклассники дразнили «рыжей». В десятилетнем возрасте я просто с ума сходил – так мне нравился мамин школьный альбом. Я хранил его в одном ящике стола вместе с другим сокровищем – коллекцией марок.
Софи Гинская, по прозванью «рыжая»,
Далеко она пойдет, умница бесстыжая.
Это про мою маму!
Кроме того, мама работала в свое время секретаршей у футбольного тренера. По нынешним временам не ахти какая должность, но для молоденькой девушки в годы первой мировой войны это был такой пост, ради которого стоило остаться в Джерси-Сити. Так, во всяком случае, казалось мне, когда я перелистывал страницы маминого школьного альбома, а она, показывая на фотографию темноволосого парня, который за ней ухаживал в юности, говорила (цитирую дословно): «Теперь он крупнейший производитель горчицы в Нью-Йорке». «И я могла выйти замуж за него, а не за папу», – признавалась мне мама по секрету – и не раз. Иногда я воображал, как бы сложилась мамина и моя жизнь, если бы она действительно стала супругой того парня. Как правило, подобные мысли приходили мне в голову, когда папа вел нас обедать в деликатесную на углу. И осматривался и думал про себя: «Мы могли бы быть производителями всей этой горчицы». Похоже, мама моя в эти минуты думала о том же.
– Он кушает хрустящую картошку, – всхлипывает мама и бессильно опускается на стул, чтобы раз и навсегда Выплакать Всю Свою Душу. – Они вместе с Мелвином Вейнером после школы объедаются хрустящим картофелем. Джек, скажи ему… я всего лишь мать… Скажи ему, чем это может закончиться. Алекс, – говорит она пылко, внимательно наблюдая за тем, как я бочком пытаюсь улизнуть из кухни, – Алекс, понос – это только начало. А наешь, чем это кончается? С твоим чувствительным желудком? Знаешь, чем это закончится? Ты будешь ходить с пластмассовым судном, привязанным к твоей попе!
Кому за всю историю человечества удавалось устоять перед слезами женщины?! Моему отцу. Я – второй.
– Слышал, что мама сказала? – поворачивается ко мне отец. – Не ешь после школы хрустящий картофель.
– И вообще никогда его не ешь, – умоляет мама.
– И вообще никогда его не ешь, – повторяет отец.
– И гамбургеры не кушай, – всхлипывает мама.
– И гамбургеры не кушай, – говорит папа.
– Гамбургеры, – говорит мама с омерзением, словно произносит вслух имя Гитлера, – они кладут в них Бог знает что – а он их кушает. Джек, пусть он поклянется не есть эту гадость, пока не поздно.
– Клянусь! – ору я. – Клянусь!
И опрометью бросаюсь из кухни. Куда? Ну куда же еще…
Расстегиваю штаны, яростно хватаюсь за член, высвобождаю его из трусов…
– Алекс, не спускай за собой воду! – раздается из-за двери мамин голос. – Алекс, ты слышишь меня? Я должна посмотреть, что там в унитазе!
Доктор, вы понимаете, в каком я был положении? Мой член являлся в доме тем единственным предметом, о котором я мог сказать, что он принадлежит мне. Поглядели бы вы на мою мать во время эпидемии полиомиелита! Ей-Богу, она была достойна какой-нибудь медали. Открой рот. Почему у тебя горло красное? У тебя болит голова, да? Почему ты это скрываешь? Ты не пойдешь ни на какой бейсбол, Алекс, пока я не увижу, что ты можешь поворачивать шею. Тебе трудно поворачивать шею? Тогда почему ты держишь ее так странно? Ты кушаешь так, будто тебя тошнит. Тебя тошнит? Но ты кушаешь так, будто тебя тошнит. Не смей пить воду из-под крана, когда будешь играть в бейсбол. Если захочешь пить – потерпи до дому. У тебя сухость в горле, да? Но я же вижу, как ты глотаешь. Вот что, мистер Джо Ди Маджио: мне кажется, что тебе лучше забыть про эту бейсбольную рукавицу и лечь в постель. Я не собираюсь отпускать тебя носиться по площадке в такую жару. С таким-то горлом. Нет-нет. Ну-ка измерь температуру. Мне не нравится, как ты хрипишь. Честно говоря, мне кажется, что ты давно уже ходишь с таким горлом и ничего мне не говоришь. Почему ты мне ничего не говоришь? Алекс, полиомиелиту нет дела до бейсбола. Стоит заболеть, и ты останешься калекой на всю жизнь! Я не хочу, чтобы ты играл в бейсбол, и это окончательно! И не надо есть гамбургеры. И майонез не надо. И печенку. И тунца. Не все так щепетильны, как твоя мать.
Ты привык жить в стерильно чистом доме. А кто знает, из каких продуктов они готовят в ресторане? Знаешь, почему твоя мать всегда садится спиной к кухне, когда мы обедаем «У Чинка»? Потому что я не хочу видеть, что там творится за моей спиной. Алекс, мой все подряд, понял? Все! Бог знает, чьи руки касались этих приборов до тебя.
Послушайте, разве я преувеличиваю, когда говорю, что остался амбулаторным больным только благодаря чуду? Истерия и предрассудки. Осторожно. Берегись. Не делай того. Не делай этого. Не нарушай закон. Какой закон? Чей закон? Да если бы они вдели кольца в носы и выкрасились в синий цвет – они больше соответствовали бы своему содержанию! Все эти запреты и заповеди – не ешь то, не ешь это… А ведь у нас и без того сумасшедшая семейка. Мои родители до сих пор смеются, вспоминая, как я, будучи еще в нежном возрасте, наблюдал в окно снежную бурю, а потом вдруг обернулся и спросил с надеждой: «Мамочка, а мы верим в зиму?» Вы понимаете, о чем я говорю? Меня воспитали зулусы и готтентоты! Когда я просто пил стакан молока, закусывая его бутербродом с салями – это воспринималось как вызов самому Господу. Вообразите же, что творилось с моим сознанием во время занятий онанизмом! Чувство вины, страх и ужас переполняли мою душу! Что в их мире не было чревато опасностью, не кишело микробами, не сопрягалось с риском? О Господи, ну где же удовольствие, вкус к жизни? Где смелость и отвага? Кто заполнил души моих родителей страхом перед жизнью? Теперь, когда отец на пенсии, у него осталась по сути одна только вещь, которой можно бояться – скоростная магистраль «Нью-Джерси».
– Я не поеду по этой дороге ни за какие деньги. Нужно совершенно выжить из ума, чтобы осмелиться путешествовать по этому шоссе, это узаконенный способ умерщвлять людей…
Послушайте, знаете, о чем он мне напоминает трижды в неделю по телефону? Причем я беру в счет только те звонки, на которые отвечаю – а так телефон у меня звонит без устали с шести вечера до десяти – ежедневно.
– Продай ты эту машину, а? – умоляет отец трижды в неделю. – Окажи мне услугу: продай свою машину, чтобы я мог спокойно спать по ночам. Зачем тебе машина в этом городе – ума не приложу. Зачем тратиться на страховку, гараж, ремонт – это я даже и не пытаюсь понять. Я не могу понять другого – почему ты живешь в этих джунглях? Сколько опять содрали с тебя эти грабители за квартирку два на четыре? Пятьдесят долларов в месяц. Ты сошел с ума. Для меня загадка – почему ты не хочешь вернуться в Джерси? Что ты нашел в этом шуме, гари и разгуле преступности…
А мама?! Она продолжает говорить шепотом. Софи шепчет! Раз в месяц я езжу обедать к родителям, и эта поездка превращается в баталию, требующую полной отдачи, напряжения всех сил, а также хитрости и коварства. Впрочем, за все эти годы мне удалось незаметно свести количество подобных сражений к минимуму. Итак, раз в месяц я приезжаю к родителям, звоню, мама открывает дверь, и начинается шепот!
– Даже и не спрашивай, что я пережила вчера.
Я и не спрашиваю.
– Алекс, – продолжает мама «сотто воче», – ты даже не представляешь, как может на него повлиять в такие дни твой звонок.
Я киваю.
– И еще, Алекс, – я опять киваю: усилия минимальные, но иногда срабатывает. – На будущей неделе у отца день рождения. Мне самой не обидно, что ты не прислал мне открыток на День Матери и в день рождения – меня это не огорчает. Но отцу исполняется шестьдесят шесть, Алекс. Это не шутки, Алекс – это веха в человеческой жизни. Так что пришли ему открытку. Ты от этого не умрешь.
Доктор, эти люди – невероятны! Они непостижимы! Эти двое – самые выдающиеся производители чувства вины! Они растапливают меня, как растапливают куриный жир! «Позвони, Алекс. Приезжай, Алекс. Держи нас в курсе, Алекс. Пожалуйста, впредь не исчезай без предупреждения. В прошлый раз, когда ты куда-то уехал, не сообщив нам об этом, папа уже готов был звонить в полицию. Знаешь, сколько раз на дню он тогда звонил тебе? Вот представь себе».



