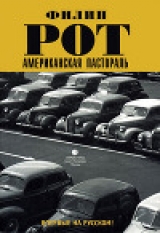
Текст книги "Американская пастораль"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
Швед понимал, что, сбив Оркатта с ног, он сможет без особого труда стучать его башкой по плиточному полу террасы столько, сколько понадобится для отправки на кладбище, в компанию к родовитым предкам. В этом типе было что-то больное, и он, Швед, всегда знал это – чувствовал в его отвратительных картинах, в готовности применять запрещенные приемы при игре в тач-футбол на спортивном поле позади дома, чувствовал даже на кладбище, когда тот, гой,добрый час потчевал гостя-еврея своими историями… Глубокая неудовлетворенность пропитывала всю его жизнь. Доун считала, что он создает искусство, современное искусство, но нет, он просто кричал о своей неудовлетворенности; и свидетельство бесконечной неудовлетворенности Уильяма Оркатта бесстыдно украшало стену их гостиной. Но теперь он владеет моей женой. Отодвинув жалкую Джесси, он вернул жизнелюбие и сексуальность «Мисс Нью-Джерси-1949». Добился этого и теперь пользуется. Алчный вор, сукин сын.
– Ваш отец – замечательный человек, – сказал Оркатт. – С Джесси редко бывают настолько предупредительны. Поэтому она и предпочитает оставаться дома. А он так любезен. И насколько я понимаю, искренен. Никаких задних мыслей. Открыт к общению. Не боится подвохов. Ничего не стесняется. Спокойно идет по жизни. Это прекрасно. Нет, в самом деле он удивителен. Личность. Самостоятельность суждений. Я, порождение своей среды, завидуюэтому.
Пари держу, что так оно и есть, сукин ты сын. Что ж, смейся над нами, жеребчик. Смейся, не стесняйся.
– А где они? – спросил Швед.
– Он сказал ей, что лучший способ съесть кусок свежего торта – сесть за кухонный стол и запивать его стаканом вкусного холодного молока. Так что они, вероятно, на кухне и наслаждаются молоком. Поток льющихся на Джесси сведений о производстве перчаток намного превышает ее потребности, но ничего страшного: пусть послушает. Надеюсь, вы не в претензии, что я не смог оставить ее дома.
– Мы огорчились бы, оставь вы ее одну.
– Вы все проявляете столько такта.
– Я только что из кабинета Доун, рассмотрел макет дома, – сказал ему Швед, рассматривая, пока говорил, бородавку на левой щеке Оркатта. Темная бородавка пряталась на дне складки, бегущей от крыла носа к углу рта. Мало того что Оркатт носат, он еще обладатель безобразной бородавки. Кажется ли она ей привлекательной? Целует ли она ее? Замечает ли иногда, что у этого типа раскормленно-рыхлая физиономия? Или, поскольку речь идет об отпрыске одной из лучших рим-рокских семей, внешность уже не имеет значения и воспринимается с невозмутимой беспристрастностью, свойственной профессионалкам из истонского борделя?
– О-о, вот как, – сказал Оркатт, изящно маскируя подспудно гложущую неуверенность.
Хватает, нарушая правила, футбольный мяч, носит такие рубашки, малюет такие картинки, трахает жену соседа – и все-таки умудряется выглядеть сдержанным и непознанным. Сплошная видимость и увертки. Он стремится найти свой стиль, сказала однажды Доун. На поверхности – джентльмен, по сути – крыса. Демон, таящийся в душе его жены, – пьянство, демоны, терзающие его душу, – сластолюбие и зависть. Герметично закрытый, вылощенный и хищный. Агрессивность, и очень мощная, досталась ему от предков, но он со своими безукоризненными манерами пошел еще дальше. Гуманно заботится о сохранении окружающей среды и расчетливо высматривает добычу, оберегает то, что дано от рождения, и тихо подбирается к тому, что не дано. Воспитанный дикарь Уильям Оркатт. Получившее воспитание скотство. Нет, я предпочитаю коров.
– Предполагалось осмотреть его послеужина. Когда установим шпиль. Разве он смотрится без шпиля? Мне это кажется невероятным.
Разумеется, он стремится остаться непознанным. Это дает возможность ловко идти по жизни, накладывая лапу на красивых чужих жен. Почему, увидев их на кухне, он постеснялся размозжить головы этой парочки увесистой сковородкой?
– Нет-нет, он смотрится. Впечатление сильное, – откликнулся Швед и затем, не умея, как всегда с Оркаттом, вовремя остановиться, прибавил: – Макет интересный. Теперь я понял, как задумана игра света. Свет омывает стены. Это будет эффектно. Думаю, вы заживете там очень счастливо.
– Вызаживете, – со смехом поправил Оркатт.
Но Швед не услышал собственной оговорки. Не расслышал, потому что вдруг оказался во власти мыслей о том, что нужно было сделать, и о том, где он дал слабину.
Он должен был перебороть ее. Ни в коем случае нельзя было оставлять ее там. Джерри прав. Нужно ехать в Ньюарк. Немедленно. Взять с собой Барри. Вдвоем они управятся и привезут ее на машине сюда, в Олд-Римрок.
А если там Рита Коэн? Убью. Если она ошивается около моей дочери, оболью эту дыбом стоящую шапку волос бензином – и подожгу. Рушит жизнь моей дочки. Показывает мне ее мохнатку. Уничтожает мою детку. Да, вот слово: уничтожает. Они уничтожают ради удовольствия уничтожать. Взять с собой Шейлу. Взять Шейлу. Спокойно. Взять Шейлу в Ньюарк. Мерри послушает Шейлу. Шейла поговорит с ней и убедит, что необходимо уйти из той мерзкой каморки.
– …и пусть наша интеллектуальная гостья все понимает превратно. Откровенная грубость, с которой она на старинный французский манер расправляется с буржуазией… – Оркатт делился со Шведом своим восторгом по поводу фраппирующих заявлений Марсии. – То, что она плюет на регламент званых обедов, запрещающих убежденно высказываться по какому-либо поводу, я думаю, безусловно, делает ей честь. И все же забавно, всегда забавно, насколько пустословие тесно соседствует с умом. У нее нет ни малейшего понимания, о чем она, собственно, говорит. Знаете, что любил повторять мой отец? «Блестящие мозги и ни грана ума. Чем тоньше, тем глупее». Именно этот случай.
Брать ли Доун? Нет. Доун слышать больше не хочет об их катастрофе. Как только дом будет готов, уйдет. Нужно отправиться туда и сделать все самому. Садись, черт побери, в машину и езжай за ней. Любишь ты ее им нет? Подчиняешься ей, как всегда подчинялся отцу, как всегда всем подчинялся. Боишься выпустить зверя на волю. Она разделалась с твоими нормами. А ты всегда прячешься. Никогда ничего сам не выбрал.Но как привезти в дом Мерри с ее повязкой, закрывающей пол-лица, сегодня, когда здесь отец? Увидев ее, отец просто умрет. Но если не сюда, то куда ехать? Куда отвезти ее? Могут ли они вместе, вдвоем, поехать в Пуэрто-Рико? Доун плевать, куда он поедет. Ей нужно одно: иметь рядом Оркатта. А ее нужно забрать, пока она не спустилась в этот подземный переход. Не думать о Рите Коэн. Забыть о безжалостной идиотке Шейле Зальцман. Забыть об Оркатте. Он не в счет. Увезти Мерри куда-нибудь, где нет этого жуткого перехода. Вот главное. Уничтожить опасность подземного перехода. Спасти ее от насильственной смерти в этом переходе. Начать с этого – оказаться там до утра, до того, как она выйдет из этой мерзкой комнаты.
Он пытается пробиться к решению, делает это одним-единственным доступным ему способом, но никуда он не пробивается, он тонет, весь этот вечер превращается в постепенное неуклонное погружение под действием давящей на него тяжести. Он человек, который не умеет рвануть вперед и взорваться, он может только тонуть… Но сейчас он по крайней мере понимает, что делать: надо добраться к ней до рассвета.
До рассвета. После Доун. Невозможно представить себе жизнь после Доун. Без Доун он не способен ни на что. Но ей нужен Оркатт. «Пустышка БАСП», – сказала она и разве что не зевнула, показывая свое к нему отношение. Но эта пустышка ослепляюще привлекательна для девчонки-ирландки и католички. Мать Мерри Лейвоу не согласна на что-то меньшее, чем Уильям Оркатт Третий. Муж-рогоносец понимает это. Конечно. Теперь он все понимает. Кто вернет ее в сказку, о которой она мечтала? Мистер Америка. В паре с Оркаттом она снова победно пойдет вперед. Спринг-Лейк, Атлантик-Сити, а теперь Мистер Америка. Избавившись от позорного пятна, наложенного на нее нашим ребенком, от пятна, пачкающего ее репутацию, от запятнанности позорным воспоминанием о взлетевшем на воздух магазине, она сможет вернуться к неоскверненной жизни. А я остановился у того взорванного магазина. И она знает это.
Знает, что дальше мне хода нет. Дальше я бесполезен. Со мной можно пройти только до этой черты.
Он принес стул, сел между женой и матерью и взял за руку продолжавшую говорить Доун. Есть сто разных способов взять за руку. Одним берут за руку ребенка, другим – друга, третьим – престарелых родителей; по-разному берем руку того, с кем прощаемся, кто умирает, кто умер. Швед держал руку Доун так, как мужчина держит руку обожаемой женщины, вкладывая в пожатие пробегающее по телу волнение, чувствуя себя так, словно прикосновение ладоней дает обмен душами, а сплетение пальцев дает все оттенки интимной ласки. Он держал руку Доун так, словно понятия не имел о том, что случилось с их жизнью.
Правда, потом подумалось: она ведь тоже хочет вернуться ко мне. Но не может, так как все слишком чудовищно. Разве у нее есть выбор? Ведь, должно быть, она считает себя ядовитой – женщиной, давшей жизнь убийце. И ей нужно, необходимоувенчать себя новой короной.
Нужно было послушаться отца и отказаться от этого брака. А он восстал против него, восстал единственный раз в жизни, но больше и не требовалось – и так сработало. «Вокруг сотни, тысячи чудных еврейских девушек, – говорил отец – так нет, тебя угораздило отыскать ее.Прежде ты отыскал еще одну, в Данлеви, Южная Каролина, но тогда ты прозрел и избавился от нее. А дальше? Вернулся домой и нашел эту Дуайр. Почему это происходит, Сеймур?» Он не мог сказать «девушка из Южной Каролины была красива, но Доун вдвое красивее», не мог сказать «власть красоты иррациональна»; ему было двадцать три года, и единственное, что он в состоянии был сказать, – «я влюблен в нее». «Влюблен? А что это значит? Чем поможет тебе влюбленность, когда у вас появится ребенок? Как ты будешь его растить – католиком? Евреем? Нет, ты обречен будешь растить его и ни тем и ни другим. И все это потому, что ты, видите ли, влюблен».
Отец был прав. Именно это и случилось. Они вырастили дитя, не ставшее ни католиком, ни иудеем, а ставшее вместо этого сначала заикой, потом убийцей и, наконец, джайной. Всю свою жизнь он старался поступать правильно, и вот что он наделал. Все то зло, что он запер в себе на замок, закопал так, что глубже невозможно, вырвалось на свободу и одержало верх, оттого лишь, что девушка была красавицей. Главным, к чему он стремился чуть ли не от рождения, было оградить своих близких от страданий, быть добрым, добрым не только внешне, но и по существу. Вот почему он и привел Доун к отцу – встретиться за закрытыми дверями, у него в офисе, на фабрике, попытаться разрешить религиозные противоречия и защитить их обоих от горечи. Инициатором встречи был отец. Увидеться лицом к лицу должны были «эта девушка», как он милосердно именовал Доун в присутствии Шведа, и «страшилище», как называла его она. Доун не испугалась и, к удивлению Шведа, дала согласие. «Я ведь сумела пройти по подиуму в купальнике. А это, скажу тебе, было совсем не легко. Двадцать пять тысяч людей глазело. Но я приняла участие в этом парадекупальников. В Кэмдене. Четвертого июля. Пришлось. Я думала об этом дне с отвращением. Мой отец чуть не умер. Но я справилась. Чтобы этот чертов купальник сидел на мне как влитой, я, Сеймур, прилепила его к спине клейкими лентами. И чувствовала себя выставленным напоказ уродцем.Но я взялась делать все, что должна делать „Мисс Нью-Джерси“, так что и с этой работой справилась. Чудовищно утомительная работа. В каждом городе штата. Пятьдесят долларов за выход. Но если много работаешь, сумма растет на глазах. Все это было мне чуждо и пугало до смерти, но я же справилась. А то Рождество, когда я рассказала родителям, что стала „Мисс округ“, – думаешь, это было приятно? Но я справилась.И если я справилась со всем этим, то справлюсь и с тем, что теперь предстоит; ведь это уже не выступления глупой девчонки на подиуме, теперь ставка – вся моя жизнь и все мое будущее. Я все сделаю, чтобы выиграть. Но ты будешь рядом, правда? Я не могу пойти туда одна. Прошу, ты долженбыть рядом!»
Шквал слов сбил его с ног, и единственное, что он мог сказать в ответ, – «А где же мне еще быть?». По дороге на фабрику он попросил ее не упоминать слова «четки», «крест», «блаженные небеса» и, насколько возможно, не касаться Иисуса.
– Если он спросит, висят ли у вас на стенках распятия, отвечай «нет».
– Но это ложь. Я не могу ответить «нет».
– Тогда скажи: одно.
– Это неправда.
– Доуни, если ты скажешь: три, это все осложнит. Какая разница – одно или три? А тема будет закрыта. Скажи так. Ради меня. Скажи: одно.
– Ладно, посмотрим.
– И не упоминай обо всех других штуках.
– О каких штуках?
– О Деве Марии.
– Это не штуки.
– Хорошо, это статуэтки. Забудь о них. О'кей? Если он спросит тебя: «У вас есть статуэтки?», ответь «нет», просто ответь ему «нет», просто скажи: «У нас нет ни статуэток, ни картин, только одно распятие».
Любая религиозная атрибрика, объяснял он, скульптурные изображения святых, подобные тем, что стоят у них в столовой и в спальне ее матери, картины, похожие на те, что ее мать развешивает по стенам, всегда вызывают у ее отца болезненную реакцию. Сам он не разделяет отцовской позиции, а просто разъясняет, что отец воспитан в определенном духе, он такой, переделать его нельзя, и незачем наступать на больные мозоли.
Не подчиняться отцу, как и подчиняться ему, – удовольствие слабое. Вот что он начинал понимать в этот момент.
Еще одной опасной темой был антисемитизм.
– Говоря о евреях, будь осторожна. И не говори о священниках, ни в коем случае не говори о священниках. Не вздумай рассказывать ему эту историю о твоем отце и священниках, которая произошла, когда он был мальчиком, собирающим мячи в загородном клубе.
– С чего мне вдруг придет в голову это рассказывать?
– Не знаю, но не коснись этого даже словом.
– Почему?
– Не знаю. Просто прошу тебя: не делай этого.
Но он знал почему. Ведь если она расскажет, как ее отец, работая на уик-эндах мальчиком, подносящим мячи, впервые осознал, зайдя в туалетную комнату, что и у священников есть гениталии – прежде ему и в голову не приходило, что у них могут быть признаки половой принадлежности, – его отец не удержится и спросит, а знает ли она, на что используется после обрезания крайняя плоть еврейских младенцев мужеска пола? И когда ей придется сказать: «Не знаю, мистер Лейвоу, а на что она идет?», мистер Лейвоу ответит (потому что это одна из его любимейших шуток): «Ее посылают в Ирландию. Ждут, пока наберется достаточно, сваливают в мешок, отсылают в Ирландию и лепят там из нее священников».
Последовавшего разговора Швед не забыл до конца своих дней, и вовсе не из-за того, что говорил отец, – тут как раз все было ожидаемо. А вот поведение Доун сделало этот диалог незабываемым. Ее правдивость, то, как она избежала неловкостей во всем, что касалось ее родителей или предметов, по-настоящему – как он знал – для нее важных, мужество, которое она проявила, – все это было незабываемо.
Она была на полторы головы ниже своего жениха и, по словам одного из судей, разоткровенничавшихся с Дэнни Дуайром по поводу состязания в Атлантик-Сити, не попала в десятку только потому, что без каблуков в ней было всего пять футов два дюйма, а в тот год полдюжины не менее талантливых и хорошеньких девушек обладали прекрасным высоким ростом. Эта миниатюрность (которая, может быть, помешала ее участию в финальной борьбе – Швед считал это объяснение сомнительным, ведь ставшая победительницей «Мисс Аризона» была всего лишь пять футов и три дюйма) только усиливала привязанность Шведа к Доун. Для юноши с таким, как у него, глубинным чувством долга – к тому же красавцем, всегда прикладывающим особые усилия, чтобы не восприниматься в первую очередь обладателем сногсшибательной внешности, – этот росточек в пять футов два дюйма способствовал ускоренному созреванию естественного мужского желания защищать и оберегать. Вплоть до этого тяжкого, выматывающего объяснения с отцом он и не подозревал, как сильно любит эту девушку.
Соврала она только дважды: по поводу числа распятий в доме и по поводу крещения – пункта, по которому она внешне капитулировала, но только после добрых трех часов переговоров, во время которых Шведу показалось, что – как это ни удивительно – его отец,кажется, вот-вот проиграет вчистую. И только позже он осознал, что тот сознательно затягивал переговоры, дожидаясь, чтобы двадцатидвухлетняя девушка обессилела, и потом, разом повернув на сто восемьдесят градусов, прикрыл вопрос о крещении, разрешив ей только празднование Сочельника, Рождества и Пасхального Воскресенья.
Но сразу же после появления Мерри на свет она все равно окрестила девочку. Доун могла бы сделать это сама или поручить своей матери, однако ей хотелось, чтобы все было по-настоящему. Договорились со священником, пригласили крестных родителей, младенца носили в церковь, но пока Лу Лейвоу не наткнулся на свидетельство о крещении в комоде редко используемой спальни в глубине римрокского дома, об этом не знал никто – только Швед, которому Доун открылась вечером, после того как свежеокрещенный ребенок был уложен в кроватку – очищенный от скверны первородного греха и предназначенный вкусить небесной благодати. К моменту обнаружения свидетельства о крещении Мерри была всеобщей любимицей шести лет от роду, и взрыв негодования скоро утих. Что, разумеется, не отменило неколебимой уверенности отца Шведа в том, что тайное крещение – источник всех проблем, с которыми пришлось столкнуться девочке. Это крещение, да еще елка на Рождество, да еще Пасха – этого более чем достаточно, чтобы бедный ребеноктак и не смог в себе разобраться. Мало того, была еще бабушка Дуайр – и это еще осложняло дело. Через семь лет после рождения Мерри с отцом Доун случился второй инфаркт, и, устанавливая водогрей, он упал замертво, а бабушка Дуайр буквально поселилась в церкви Святой Женевьевы. Каждый раз, когда ей удавалось залучить к себе Мерри, она тащила девочку в церковь, и один только Бог знает, чем ее там накачивали. Швед, теперь, когда он сам стал отцом, куда свободнее обсуждающий с отцом этот, да и не только этот вопрос, объяснял ему:
– Папа, Мерри воспринимает все это как неизбежную добавку. Для нее все это – бабушка, бабушкины дела. Походы в церковь за компанию с матерью Доун не имеют для нее решительно никакого значения.
Но отец не готов был проглотить это объяснение.
– Одна встает на колени. Так? Они делают все, что там у них положено, и она встает на колени, верно?
– Да, вероятно, думаю, так, встает. Но для нее это ничего не значит.
– В самом деле? А вот для меня это значит – и многое!
В разговорах с сыном Лу Лейвоу воздерживался от утверждения, что крещение – причина надрывного плача Мерри. Но в разговорах с женой он отбрасывал экивоки, а узнав про «какое-то католическое масло», которым эта старая Дуайр кропила его внучку, громко осведомился, не тайное ли крещение было причиной надрывного плача, так страшно пугавшего всех членов семьи в течение первого года жизни Мерри. Возможно, и все плохое, что с ней случилось, включая и самое худшее,происходило именно из-за этого.
Закричав по выходе из материнского лона, она кричала не переставая. Заходясь в плаче, она так широко раскрывала рот, что на щеках лопались тоненькие кровяные сосуды. Сначала врач приписал эти крики желудочным коликам, но когда так прошло три месяца, понадобилось найти другое объяснение, и Доун начала возить ее к всевозможным специалистам и на всевозможные обследования. Мерри была на высоте – она продолжала вопить и там. В какой-то момент Доун велено было даже выжать пеленку и привезти на анализ мочу. По хозяйству им помогала тогда благодушная Мира, толстая, жизнерадостная дочь бармена из морристаунской пивной «Маленький Дублин», и, хотя она сразу подхватывала Мерри, прижимала ее к своей мягкой, словно подушка, пышной груди и нежно ворковала над ней, как над собственной доченькой, если Мерри уже успевала зайтись, Мира справлялась с ней не лучше, чем Доун. Пытаясь перехитрить механизм, провоцирующий этот надрывный плач, Доун придумывала тысячи разных способов. Поездке с Мерри в магазин предшествовали сложные приготовления, целью которых было загипнотизироватьребенка и ввести в состояние покоя. Ради этого выезда за покупками ее купали, укладывали в кроватку поспать, одевали в чистенькое и мягкое, устраивали удобно в машине, потом осторожно везли к магазину в продуктовой тележке – и все шло отлично, пока кто-нибудь не наклонялся над ней со словами «какое очаровательное дитя», и она тут же откликалась воплем и надрывно кричала следующие двадцать четыре часа. За ужином Доун говорила Шведу: «Столько усилий – и все напрасно. У меня все сильнее едет крыша. Я на голову встать готова – только бы помогло, но ничто не поможет». Домашний фильм, снятый, когда ей исполнялся год, демонстрирует всех собравшихся, распевающих «С днем рождения!», и Мерри, вопящую в своем высоком стуле. Но через несколько недель без какой было явной причины крики стали слабеть, промежутки – увеличиваться, и к полутора годам все уже было прекрасно и оставалось прекрасным, пока она не начала заикаться.
Мешало Мерри то, что и должно было помешать; ее еврейский дедушка знал это уже в то утро знаменательной встречи на Централ-авеню. Швед сидел в кресле в углу кабинета, в стороне от линии огня. Когда Доун произнесла имя Иисуса, горестно посмотрел сквозь стекло на сто двадцать женщин, работающих в цехе на швейных машинках; все остальное время смотрел себе под ноги. Лу Лейвоу с каменным лицом восседал за столом – не за любимым своим столом, стоящим в гуще рабочего шума пошивочного цеха, а за почти не используемым столом, в тихом уголке, отгороженном стеклянными стенками.
А Доун не повышала голоса, не возмущалась, почти не лгала и твердо удерживала почву под ногами, мобилизуя для этого каждую клеточку своего стройного миниатюрного тела. Подготовленная к этому «поджариванию» одним только жестким отборочным собеседованием, которое ей, «Мисс Нью-Джерси», пришлось пройти перед национальным конкурсом, стоя перед пятью сидящими судьями и отвечая на вопросы о своей биографии, Доун была потрясающа.
Вот начало инквизиторского допроса, который Швед никогда не забудет:
– Ваше полное имя, мисс Дуайр?
– Мэри Доун Дуайр.
– Вы носите на шее крест, Мэри Доун?
– Носила. Недолго. Когда училась в старших классах.
– Значит, вы ощущаете себя религиозной?
– Нет. Я носила крест не поэтому. Меня отправили в летний лагерь, и, вернувшись домой, я стала его носить. Он не был для меня строго религиозным символом. Скорее знаком того, что я в самом деле провела уик-энд в этом лагере и подружилась там со многими ребятами. Крест был в гораздо большей степени связан с этим, чем с ощущением себя набожной католичкой.
– В вашем доме висят распятия?
– Одно.
– Ваша мать набожна?
– Да… она ходит в церковь.
– Как часто?
– Часто. По воскресеньям. Не пропуская ни одного. Во время поста ходит каждый день.
– И что она получает от этого?
– Получает от этого? Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Она получает там утешение. Церковь приносит утешение. Когда умерла моя бабушка, мама много ходила в церковь. Когда у вас кто-то умер или болеет, церковь вас утешает. Указывает, что делать. Вы начинаете перебирать четки и молиться, чтобы…
– Четки – это такие бусины?
– Да, сэр.
– И ваша мать перебирает их?
– Да, разумеется.
– И ваш отец тоже такой?
– Какой?
– Набожный.
– Да. Да, он набожен. Церковь дает ему ощущение собственного достоинства. Ощущение, что он выполняет свой долг. Мой отец очень строг в вопросах морали. Он получил очень строгое католическое воспитание, куда более строгое, чем мое. Он рабочий. Ремонтирует сантехнику. Устанавливает масляные обогреватели. В его понимании Церковь – мощная сила, заставляющая тебя поступать правильно. Для него очень значимы понятия добра и зла, необходимости наказания за зло и сексуальную распущенность.
– Что ж, против этого и я не возражу.
– Конечно. Если вдуматься, вы с отцом очень похожи.
– Вот только он католик, набожный католик, а я еврей. Различие немалое.
– Но может быть, и не такое уж большое.
– Нет, большое.
– Как скажете, сэр.
– А что вы скажете об Иисусе и Марии?
– О чем именно?
– Что вы о них думаете?
– Как о личностях? Я никогда не думаю о них как о личностях. Маленькой девочкой я говорила маме, что люблю ее больше всех на свете, а она отвечала, что это неправильно: больше всех любить надо Бога.
– Бога или Иисуса?
– Думаю, что она говорила о Боге. Может, об Иисусе. Мне это все равно не нравилось. Я хотела любить ее больше всех.Других случаев разговора об Иисусе как о человеке и личности я не помню. Все, связанное с ним, видится мне в человеческой оболочке, только когда я прохожу Крестным путем в Страстную пятницу, следуя за Иисусом на Голгофу. В этот момент он как бы воплощается. Ну и, конечно, в яслях.
– Иисус в яслях. Что вы думаете об Иисусе в яслях?
– Что я об этом думаю? Я люблю лежащего в яслях младенца Иисуса.
– Почему?
– Ну, потому что во всей этой сцене есть что-то милое и дарующее покой. И важное. Миг смирения. Все вокруг устлано сеном; маленькие четвероногие жмутся друг к другу. Теплая, греющая душу сцена. Не поверить, что где-то может быть холодно, ветрено. Свечи горят. Все смотрят на младенца с обожанием.
– И это все? Просто так смотрят с обожанием?
– Да. Я не вижу в этом ничего плохого.
– Так. Ну а что вы мне скажете о евреях? Давайте-ка доберемся до главного. Что ваши родители говорят о евреях?
Пауза.
– Знаете, у нас дома редко говорят о евреях.
– Что ваши родители говорят о евреях? Я хотел бы услышать прямой ответ.
– Думаю, есть вещь куда более существенная, чем та, до которой, как я понимаю, вы хотите добраться, и заключается она в том, что моя мать отдает себе отчет в некоторой неприязни, которую она испытывает к евреям, потому что они евреи, но не отдает себе отчет в том, что кто-то испытывает к ней неприязнь, потому что она католичка. А если говорить о том, что не нравится мне, то могу вспомнить вот что. Когда мы жили на Хилсайд-роуд, одна из моих подружек была еврейка и мне не нравилось, что я попаду на небо, а она – нет.
– А почему ей не попасть на небо?
– Если ты не христианка, путь на небо тебе заказан. Мне было очень грустно, что Шарлотта Ваксман не попадет вместе со мной на небо.
– Мэри Доун, что ваша мать имеет против евреев?
– Простите, вы не могли бы называть меня просто Доун?
– Доун, что ваша мать имеет против евреев?
– Пожалуй не то, что евреи – евреи, а то, что они не католики. В глазах моих родителей и вы, и протестанты – все едино.
– Что ваша мать имеет против евреев? Ответьте.
– Ну, только то, что говорят обычно.
– Мне ничего обычно не говорят. Так что ответьте, пожалуйста, сами.
– Ну, прежде всего, что они слишком напористы. (Пауза.) И всегда думают о выгоде. (Пауза.) Вспоминают еще о «еврейских зарницах».
– Еврейских цевницах?
– Еврейских зарницах.
– Что это значит?
– Вы не знаете, что такое «еврейские зарницы»?
– Пока не знаю.
– Поджоги с целью получить страховку. Это называется еврейскими зарницами. Вы это никогда не слышали?
– Нет. Это для меня новость.
– Я вас шокировала. Я этого не хотела.
– Да, я шокирован. Но лучше уж обсудить все в открытую, Доун. Для этого мы и встретились.
– Так говорят не обо всех евреях. О нью-йоркских.
– А что говорят о евреях Нью-Джерси?
Пауза.
– Думаю, их считают одной из веток нью-йоркских.
– Понятно. То есть к евреям штата Ута разговоры о зарницах не относятся. И к евреям Монтаны тоже. Так? К евреям штата Монтана это не относится.
– Я не знаю.
– А как относится к евреям ваш отец? Давайте обсудим это открыто и избавим нас всех от горя, которое может принести будущее.
– Мистер Лейвоу, хотя иногда все это и говорится, чаще всего не говорится ничего. Моя семья вообще не из разговорчивых. Два-три раза в год мы ходим вместе в ресторан: отец, мать, мой младший брат Дэнни и я. И меня всегда удивляет, что вокруг сидят люди, пришедшие семьями, и разговаривают друг с другом. Мы просто сидим и едим.
– Вы уклоняетесь от темы.
– Простите. Я вовсе не собираюсь защищать их, потому что мне самой это не нравится. Просто показываю, что с их стороны это отнюдь не глубокое чувство. За ним не стоит никакой серьезной озлобленности или ненависти. Иногда он употребляет слово «еврей» с оттенком осуждения. Это не связано с его убеждениями, но время от времени такие чувства проявляются. Да, это верно.
– И как же они отнесутся к тому, что ваш муж еврей?
– Примерно так же, как вы относитесь к тому, что ваш сын собирается жениться на католичке. Одна из моих кузин замужем за евреем. Все немножко прохаживались на этот счет, но скандала не было. Она, правда, была постарше меня, и все радовались, что она хоть как-то устроилась.
– Была таким перестарком, что и еврей сгодился. Сколько ж ей было, сто?
– Тридцать. И никто не рыдал. Вообще все это не имеет значения, если только кто-то не хочет сознательно оскорбить другого.
– А если хочет?
– Что ж, тогда может возникнуть желание как-то съязвить. Но мне не кажется, что брак с евреем должен восприниматься как проблема.
– Пока не возникнет вопрос о воспитании детей.
– Вы правы.
– И как же вы с родителями собираетесь разрешить этот вопрос?
– Этот вопрос я буду решать сама.
– И что это означает?
– Я хочу, чтобы мой ребенок был крещеным.
– Вы хотите этого.
– Варианты возможны во многих случаях, но только не когда речь идет о крещении, мистер Лейвоу.
– Что такое крещение? Почему это так важно?
– Это простая процедура смывания первородного греха. Но если ребенку суждено умереть, она открывает ему путь на небо. Если ребенок умер некрещеным, душа обречена на маяту во тьме.
– Что ж, нам, разумеется, не хотелось бы этого. Позвольте спросить о другом. Если, скажем, я соглашусь, чего еще вы хотите?
– Думаю, что, когда они подрастут, мне захочется, чтобы дети приняли первое причастие. Святые дары…
– Значит, главное, на чем вы настаиваете, – крещение, которое, как вам кажется, обеспечит умершему ребенку путь на небо, и первое причастие. Объясните мне, чтоэто.
– Это тот первый раз, когда мы приобщаемся к евхаристии.
– А эточто значит?
– Сказано: сие тело мое, сия кровь моя…
– Это связано с Иисусом?
– Да. Разве вы этого не знаете? Это момент, когда все преклоняют колени. «Это тело мое, ядите его. Это кровь моя, пейте ее». И тогда все прихожане произносят «Господь – Бог мой» и вкушают от тела Христова.








