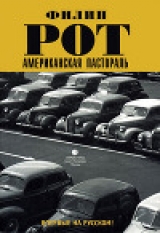
Текст книги "Американская пастораль"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
Барри Уманофф, игравший когда-то со Шведом в одной команде и одно время самый близкий друг, теперь был юристом, профессором Колумбийского университета, и каждый раз, когда родители прилетали погостить из Флориды, Барри с женой непременно приглашали к обеду. Встречи с Барри всегда поднимали отцу настроение: отчасти поскольку тот, сын иммигранта-портного, сумел подняться до уровня университетского профессора, отчасти потому, что Лу Лейвоу считал – ошибочно, хотя Швед принимал это легко и не перечил, – что именно Барри Уманофф убедил Шведа расстаться с бейсбольной перчаткой и заняться бизнесом. Каждое лето Лу напоминал Советнику – как он еще в старших классах называл Барри – о той благой роли, которую он, упорно грызя науки, сыграл для всего семейства Лейвоу, а Барри каждый раз отвечал, что, будь у него хоть сотая доля спортивных талантов, которыми обладал Швед, он даже и близко не подошел бы к дверям юридического факультета – и никто б не заставил.
Именно в этой семье Барри и Марсии Уманофф Мерри пару раз ночевала в Нью-Йорке, пока Швед не положил конец ее самостоятельным поездкам, и с Барри же он советовался о юридической стороне дела, когда она исчезла из Олд-Римрока. Барри отвел его к Шевицу – манхэттенскому специалисту по подготовке дел к судопроизводству. Когда Швед попросил Шевица определить, что в худшем случае ожидает дочь, если она предстанет перед судом и будет признана виновной, тот сказал: «От семи до десяти лет. Но, – тут же добавил он, – если действие было совершено в пылу антивоенного протеста, случайно, несмотря на попытки обойтись без жертв… А знаем ли мы, что все, от начала и до конца, совершено только ею? Не знаем. Уверены ли мы в том, что она это сделала? Не уверены. За ней не числится никаких серьезных политических выступлений. Одна сплошная риторика. Да, она бесконечно сыпала яростные обвинения, но способна ли эта девочка сама, по собственной инициативе убить кого-нибудь? Откуда мы знаем, что она сама сделала бомбу и присоединила взрывное устройство? Изготовление бомбы требует обширных знаний, а эта девочка, возможно, едва умеет зажигать спички». – «Естествознание было ее коньком, – сказал Швед. – У нее высший балл за самостоятельные работы по химии». – «Разве она делала бомбу в рамках самостоятельной работы по химии?» – «Нет, разумеется, нет». – «Значит, нам по-прежнему неизвестно, умеет ли она зажигать спички. Она вполне могла ограничиваться словами. Мы не знаем, что она сделала и что она собиралась сделать. Не знаем ничего, и другие тоже не знают. Она могла получить Вестингхаузовскую премию за успехи в точных науках, а мы могли этого и не знать. Что можно доказать? Думаю, очень немного. Раз вы спросили, я отвечаю: в худшем случае от семи лет до десяти. Но предположим, ее будут судить как несовершеннолетнюю. По закону о несовершеннолетних она получит от двух до трех лет, даже если признает частично свою вину. Верхняя планка установлена жестко, и никто не имеет права ее повысить. Все зависит от того, насколько она причастна к убийству. Может быть, это будет не так и страшно. Если она объявится, у нас есть хороший шанс отмазать ее почти полностью – даже если она как-то причастна ко всему этому».
И пока несколько часов назад он не узнал, что, вступив в орегонскую коммуну, она все свое время отдавала изготовлению бомб, пока она, полностью освободившаяся от заикания, не поведала ему, что дело идет не о случайной смерти одного человека, а о хладнокровном убийстве четверых, слова Шевица оставляли ему хоть призрак надежды. Ведь этот человек не склонен был баюкать сказками. Войдя к нему в офис, ты сразу же понимал это. Шевиц был из породы людей, любящих получать подтверждение своей правоты, оказываться правым было его призванием.Барри заранее выяснил, что Шевиц не из тех, кто любит утешать и нянчиться. Говоря «если она объявится, у нас есть хороший шанс отмазать ее пачти полностью», он делал это не потому, что Швед жаждал услышать что-то подобное. Но это было тогда, когда они полагали возможным убедить суд, что она не умеет даже зажигать спички. Это было до пяти часов сегодняшнего дня.
Жена Барри, Марсия, преподавала в Нью-Йорке литературу и была даже на вкус бесконечного терпимого Шведа «крепким орешком» – ошеломляюще-самоуверенной воинствующей фрондеркой с тягой к сарказму и продуманно-апокалиптическим заявлениям, цель которых – убить покой сильных мира сего. Все, что она говорила или делала, недвусмысленно указывало на занятую ею позицию. Ей достаточно было легчайшего движения – просто сглотнуть слюну, слушая, как вы говорите, побарабанить пальцами по ручке кресла или даже слегка покивать, вроде бы соглашаясь, – чтобы продемонстрировать: все, что вы тут сказали, – неверно. Чтобы еще активнее подчеркнуть свои убеждения, она ходила в широких балахонах из набивной ткани и выступала этакой крупной женщиной, для которой наплевательское отношение к своей наружности не столько протест против условностей, сколько внешний признак мыслителя, для которых значима только суть. Никаких мелких обыденных преград между нею и самой суровой правдой.
И все же Барри наслаждался ее обществом. Более непохожих друг на друга людей трудно было сыскать, так что, скорее всего, это был случай так называемого взаимного притяжения противоположностей. Барри представлял собой олицетворение вдумчивости и доброты – с самого детства, а он был беднейшим ребенком, которого довелось наблюдать Шведу, он был усердным, честным и благородным, надежно выступал в роли кэтчера, постепенно стал лучшим учеником класса и, пройдя срочную службу в армии, поступил на солдатскую стипендию в Нью-Йоркский университет. Именно там он познакомился с Марсией Шварц и женился на ней. Шведу трудно было понять, как такой крепко сложенный и не лишенный привлекательности парень, как Барри, в двадцать два года решил отказаться от любой перспективы встреч с девушками в пользу Марсии Шварц, уже тогда, в колледже, так переполненной собственными мнениями, что, оказавшись в ее обществе, Швед едва мог бороться со сном. Но Барри она нравилась. Барри сидел и слушал. И как бы не замечал, что она неряха и хоть еще и студентка, но одевается по-старушечьи, а глаза лихорадочно блестят, неестественно увеличенные толстыми стеклами очков. Полная противоположность Доун. Марсия, безусловно, способна была воспитать на свой страх и риск настоящую революционерку. Если бы Мерри росла в пределах досягаемости ее речей… но как она могла вырасти такой рядом с Доун? В чем причина? Где объяснение этого странного несоответствия? Что это – всего лишь игра генов? Во время марша на Пентагон, марша с требованием остановить войну во Вьетнаме, Марсию Уманофф и еще десятка два женщин бросили в полицейский фургон, а потом, что доставило ей безусловное удовольствие, заперли на всю ночь в тюрьме округа Колумбия, и до самого утра, когда их освободили, она громко выкрикивала протесты. Если бы Мерри была еедочерью, все было бы понятно. Если бы Мерри участвовала в словесных битвах, если б она, как эта не закрывающая рта фанатичка, боролась с миром только с помощью слов, история ее жизни не ограничивалась бы тогда брошенной бомбой, а превратилась в совсем иную историю. Но у нее была бомба. Бомба. Вся тошнотворная история сводится к этой бомбе.
Трудно понять, почему Барри женился на этой женщине. Может быть, это имеет связь с бедностью, среди которой он вырос. Кто знает? Ее агрессивность, высокомерие, ощущение немытого тела – все, что было невыносимо для Шведа в роли друга и было бы вовсе невыносимо в роли любовника, – возможно, как раз это и возбуждало в Барри тягу к своей жене. В самом деле загадка, почему один безусловно разумный человек мог восхищаться тем, что другому столь же разумному человеку было бы трудно вынести даже в течение часа. Но так как это действительно было неразрешимой загадкой, Швед прикладывал все усилия, чтобы скрывать свою антипатию, находить доводы в защиту Марсии Уманофф и рассматривать ее просто как странноватую штучку из неведомого ему мира академических кругов, в которых всегда кипят противоречивые суждения и провокации собеседника вызывают, по-видимому, всеобщее восхищение. Результат, которого они добиваются этими бесконечными конфронтациями, был для него непостижим; ему представлялось, что куда плодотворнее наконец повзрослеть и совместно преодолеть эту стадию. И все-таки, на его взгляд, постоянные подкусывания Марсии и подножки, которые она подставляла, вовсе не означали, что она действительно стремилась подкусывать и сбивать с ног. Поняв, что для нее это было единственным способом адаптироваться на Манхэтгене, он не мог уже относиться к этому способу поведения как к омерзительному, и еще меньше мог он поверить, что Барри Уманофф, который когда-то был ему ближе родного брата, мог жениться на омерзительной женщине. Как обычно, полная неспособность Шведа нащупать связь между причиной и следствием привела его (в противоположность инстинктивной подозрительности отца) к привычным и всегда свойственным ему терпимости и снисходительности. Так что в конце концов он зачислил Марсию в разряд «трудных», в крайнем случае тех, о ком можно сказать: «что ж, это не подарок».
Но Доун ее ненавидела. Ненавидела, так как знала, что Марсия ненавидит ее за когда-то полученный титул «Мисс Нью-Джерси». Доун не выносила людей, сводивших всю ее жизнь к победе на конкурсе. А Марсия была особенно невыносима, так как и не скрывала удовольствие, с которым объясняла все поступки Доун, отталкиваясь от этого эпизода, и прежде – а уж теперь и подавно – не объяснявшего сути ее характера. Когда они только еще познакомились, Доун подробно рассказала чете Уманофф об инфаркте отца, о том, что семья оказалась без средств и она осознала, что двери колледжа, скорее всего, никогда не откроются для ее брата… словом, историю о необходимости набрать денег на его обучение, но никакие объяснения не изменили взгляда Марсии Уманофф на «Мисс Нью-Джерси» как на объект для шуток. Марсия даже и не трудилась скрыть тот факт, что смотрит на Доун Лейвоу как на пустое место, считает ее скотоводство претенциозным, полагает, что все это лишь для создания имиджа, и смотрит на это не как на серьезную работу, которой та занимается по двенадцать-четырнадцать часов ежедневно, а как на прихоть в стиле журнала «Дом и сад», с помощью которой богатая глупышка, живущая не в пропитанном разнообразными запахами Нью-Джерси, а на природе,убивает свободное время. Доун ненавидела Марсию за ее неприкрытое высокомерие по отношению к богатству Лейвоу, их вкусам, любви к деревенскому образу жизни, и ненавидела в квадрате, так как была убеждена, что втайне Марсия от души радуется тому, что – предположительно – сделала Мерри.
Самый нежный уголок сердца Марсии был отдан вьетнамцам – разумеется, северным. Даже когда несчастье произошло у нее под носом, в доме стариннейшего друга мужа, она ни на миг не смягчила свои политические пристрастия и горячую заинтересованность в международных делах. Это и привело Доун к подозрениям, которые – Швед точно знал – были ложными, потому что, хоть он и не мог поклясться, что верит в благородство Марсии, честность Барри была для него вне подозрений.
– Я не пущу ее на порог дома! Свинья, и та человечнее, чем она. Плевать, сколько там у нее дипломов, она ни в чем не разбирается и ничего не видит. В жизни не видела такой слепой, эгоистичной, отвратительной якобы интеллектуалки, и я не пущу ее к себе в дом!
– Хорошо, но мне трудно попросить Барри приехать без нее.
– Раз так, пусть не едет и Барри.
– Барри должен приехать. Я хочу, чтобы он приехал. Присутствие Барри значимо для отца. Он уверен, что Барри приедет. И вспомни, Доун, это ведь Барри отвел меня к Шевицу.
– Но эта женщина спрятала у себя Мерри. Ты что, не понимаешь? Именно к ним Мерри поехала. В Нью-Йорк – и к ним. Ониее спрятали! Ведь кто-то же должен был сделать это. Террористка в ее доме. Это же привело ее в восторг. И она спрятала ее от нас, спрятала от родителей, когда девочка так нуждалась в родителях. Марсия Уманофф, и никто другой, направила ее в подполье.
– Мерри не нравилось оставаться у них даже раньше. Она ночевала у Барри всего два раза. Именно так. На третий раз она там не объявилась. Ты, наверное, не помнишь. Она пошла куда-то в другое место и больше уже не общалась с Барри и Марсией.
– Нет, Сеймур, это сделала Марсия. У кого еще столько связей? Изумительный преподобный Икс, изумительный преподобный Игрек, пятнающие кровью списки призывников. Она в таких чудесных отношениях с этими выступающими против войны священниками, они такие неразлучные друзья, но дело в том, что они не священники, Сеймур! Священники – непрогрессивно-либеральные мыслители. Будучи таковыми, они не приняли бы сан. Потому что священники не должны так поступать, так же как не должны прекращать молиться за мальчиков, которых отправили туда, за море. Ей нравится в этих священниках, что они несвященники. Она так в них влюблена не потому, что они служат Церкви, а потому что они совершают то, что, по ее понятиям, подтачиваетЦерковь. Выходят за рамки Церкви, за границы той роли, которую надлежит исполнять священникам. Ей жутко нравится, что эти священники ломают то, на чем выросли я и такие, как я. Вот что пленяет эту толстую суку. Я ненавижу ее! Ненавижу до печенок!
– Прекрасно. Я все понимаю. Ненавидь ее сколько угодно. Но не за то, чего она не делала. Она не делала этого, Доун. Ты сходишь с ума от предположений, которые не соответствуют истине.
Они действительно не соответствовали. Не Марсия спрятала у себя Мерри. Марсия ограничивалась разговорами, всегда ограничивалась одними лишь разговорами – бессмысленными, показными разговорами, потоком слов, единственной целью которых было скандально заявить о себе, непримиримыми, агрессивными словами, едва ли доказывающими что-либо, кроме интеллектуальных притязаний Марсии и ее нелепой убежденности, что, размахивая ими, она доказывает независимость своих мнений. Но приютила Мерри Шейла Зальцман, психотерапевт из Морристауна. Хорошенькая, благожелательная, с мягким голосом, она какое-то время давала Мерри столько надежд и уверенности, вела ее за собой, предлагая массу «стратегий», способных перехитрить ее дефект речи, и, вытеснив Одри Хёпберн, стала ее кумиром. В те месяцы, когда Доун сидела на успокоительных, возвращалась из больницы и снова попадала туда, в те месяцы, пока Шейла и Швед вдруг забыли об ответственности как главной основе их жизней, в те месяцы, пока эти люди, любящие порядок и морально устойчивые, еще не сумели заставить себя покончить с тем, что могло угрожать такой ценности, как стабильность, Шейла Зальцман была любовницей Шведа – первой и последней его любовницей.
Любовница. Наиболее странная для Шведа составляющая жизни – неподходящая, невероятная, даже смешная. «Любовнице» не было места в незапятнанной матрице этой жизни. И все-таки: в течение четырех месяцев после исчезновения Мерри Шейла играла в ней именно эту роль.
Разговор за обедом шел об Уотергейте и «Глубокой глотке». Все, кроме родителей Шведа и Оркаттов, видели этот запрещенный к широкому показу фильм с молодой порнозвездой Линдой Лавлейс в главной роли. Картину крутили уже не только в специальных «кинотеатрах для взрослых», но и в обычных киношках по всему штату Джерси.
– Больше всего меня удивляет, – сказал Шелли Зальцман, – что тот самый электорат, который бурно голосует за президента и вице-президента из республиканских политиков, претендующих на роль строгих блюстителей нравственности, бьет кассовые рекорды, чтобы посмотреть фильм, подробно смакующий сцены орального секса.
– Может быть, голосуют не те, кто ходит на этот фильм, – предположила Доун.
– А ходят кто – сторонники Макговерна? – спросила Марсия.
– Если речь о сидящих за этим столом, то да, – ответила Доун, с самого начала обеда едва сдерживавшая ярость, кипевшую в ней против этой женщины.
– Послушайте, мне совершенно непонятно, какая связь между такими разными вещами, – заявил отец Шведа. – Кроме того, я совершенно не понимаю, зачем вы все тратите деньги, чтобы смотреть заведомую гадость. Ведь это гадость, так, Советник? – сказал он, обращаясь к Барри за поддержкой.
– Можно сказать, что и гадость, – ответил Барри.
– Тогда зачем же вы впускаете ее в свою жизнь?
– Она сама просачивается, мистер Лейвоу, не спрашивая, нравится нам это или нет, – с приятной улыбкой объяснил Оркатт. – Все, существующее в мире, так или этак к нам просачивается. А в мире, хоть, может быть, вы об этом не слышали, многое изменилось.
– Нет, сэр, я слышал. Ведь я из отбросившего копыта Ньюарка. И слышал больше, чем хотел бы услышать. Сами смотрите: сначала делами в городе начали заправлять ирландцы, потом итальянцы, теперь подбираются негры. Меня это не касается. Я ничего не имею против. Черные дождались своей очереди и дотянулись до кубышки? Слушайте, я не вчера родился. Коррупция в Ньюарке – часть игры. Новое – это, во-первых, расовая проблема и, во-вторых, налоги. Суммируйте это с коррупцией – и вот она, проблема. Семь долларов и семьдесят шесть центов. Вот какова налоговая ставка в городе Ньюарке. Неважно, богатый вы или бедный, я утверждаю: при таких ставках вы не сможете удержаться в бизнесе. «Дженерал электрик» выехала уже в 1953-м. Кроме «ДЭ», «Уэстингхауса», «Брайерс» с бульвара Раймонд, «Целлулоида» – все прикрыли свое производство в городе. Все они были крупными предприятиями, и все выехали еще доволнений, допоявления расовой ненависти. Расовые проблемы – это последний штрих. Улицы не убирают. Сгоревшие автомобили не вывозят. Незаконный захват брошенных домов. Пожары в брошенных домах. Безработица. Грязь. Бедность. Грязи все больше. Бедность все безнадежнее. Закрытие школ. Кошмар в школах. На всех углах болтаются бездельничающие подростки. Эти бездельники промышляют наркотиками. Эти бездельники рады ввязаться в любую историю. Программы по урегулированию! Я вас умоляю, не будем об этих программах. Полиция смотрит сквозь пальцы. Любая зараза, любые болезни. «Сеймур, пора выезжать, – сказал я сыну летом 1964 года, – слышишь меня? Выезжай!» Но он не послушался. «Петерсон, Элизабет, Джерси-Сити на грани взрыва. Только слепой не видит, кто на очереди. Следующим взлетит Ньюарк, – сказал я ему. – Я тебя первого предупреждаю об этом. Произойдет все летом 1967 года». Именно так я предсказывал. Ведь так, Сеймур? Предсказал с точностью чуть не до дня.
– Это верно, – подтвердил Швед.
– Все производство в Ньюарке рухнуло. Сам Ньюарк рухнул. В Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Детройте волнения были даже и посильнее. Но помяните мои слова: этому городу не суждено оправиться. Не сможет. И что же перчатки? Производство перчаток в Америке? Капут. Тоже рухнуло. И только мой сын продолжает висеть на ниточке. Пройдет лет пять, и кроме государственных заказов в Америке не будут шить ни одной пары перчаток. И в Пуэрто-Рико не будут. Крепкие парни уже шуруют на Филиппинах. На очереди Индия. Потом Индонезия, Пакистан, Бангладеш. Вот увидите: во всех этих уголках мира будут производить перчатки, но только не здесь. Причем нас всех прикончили не только профсоюзы. Конечно, они не слишком понимали, что творят, но и предприниматели не понимали. «Не буду платить этим сукиным детям лишние пять центов в час» – и вот они уже разъезжают на кадиллаках и проводят зиму во Флориде. Да, множество предпринимателей не умело рассуждать здраво. А профсоюзы не учитывали заморской конкуренции, выдвигали жесткие требования, снижали доходность и в результате, как я это ясно вижу, ускорили переезд перчаточной промышленности. Профсоюзные требования по повышению расценок заставили почти всех либо выйти из бизнеса, либо вывезти его из страны. В тридцатых мощную конкуренцию составляли Чехословакия, Австрия, Италия. Потом наступила война и спасла нас. Правительственные заказы. Интендантское управление закупило семьдесят семь миллионов пар перчаток. Перчаточники разбогатели. Но война кончилась, и сразу же, хотя вроде бы все еще шло хорошо, подступило начало конца. Наше падение было предрешено невозможностью конкурировать с заграницей. Мы сами его ускорили неразумностью действий обеих сторон – и предпринимателей, и рабочих. Но независимо ни от чего мы были обречены. Единственное, что остановило бы процесс – я за это не ратую: не думаю, что можно прекратить мировую торговлю и не думаю даже, что надо пытаться, – но все-таки единственное, что остановило бы, – это таможенные барьеры, увеличение пошлины с пяти до тридцати, а то и до сорока процентов…
– Лу, – сказала ему жена, – при чем тут все это, когда речь о фильме?
– О фильме? Обо всех этих мерзких фильмах? На самом-то деле ничего тут нет нового. У нас был карточный клуб… помнишь, давным-давно – «Клуб пятничного вечера»? И был один парень, бизнесмен, что-то связанное с электричеством. Может быть, помнишь, Сеймур, такого Эйба Сакса?
– Конечно, – ответил Швед.
– Так вот, неприятно говорить это, но он держал дома всякие фильмы такого рода. Их было сколько угодно. На Малбери-стрит, куда мы приходили с детишками полакомиться китайской кухней, был зал, торговавший спиртным, и, зайдя туда, можно было купить любой порнухи. Но знаешь, что я скажу? Я посмотрел ее минут пять и вернулся в кухню, и, рад отметить, то же самое сделал мой друг, ныне уже покойный, отличный парень, закройщик перчаток, память подводит – не вспомнить его имени…
– Эл Хаберман, – подсказала жена.
– Точно. Мы с ним целый час сидели вдвоем и играли в джин, пока там в гостиной стоял шум и гвалт вокруг всей этой непристойности и ах-ах зажигательных кадров. Для меня это был счастливый момент. Прошло тридцать-сорок лет, а я все еще помню, как сидел с Элом Хаберманом и играл в карты, пока эти болваны в гостиной пускали слюни.
С какого-то момента он рассказывал это, обращаясь исключительно к Оркатту. Несмотря на сидевшую по правую руку от него абсолютно пьяную женщину, несмотря на уверенность в превосходстве еврейской мудрости, возможность беспутства среди «благородных» белых казалась ему особенно немыслимой, а следовательно, Оркатт должен был сочувствовать его нападкам на пошлость больше, чем все остальные сидящие за столом. Такие, как он, должны нести ответственность за контроль над ситуацией. Они были первыми, кто вступил на эту землю. Разве не так? Они установили правила, которым подчинились прибывшие позже. Оркатт должен быть восхищен тем, что он вышел в кухню и спокойно играл там в джин, пока силы добра не взяли наконец верх над силами зла и впечатление от того грязного фильма не растворилось в воздухе далекого 1935 года.
– К сожалению, должен сказать, мистер Лейвоу, что теперь это уже не остановишь игрой в карты, – возразил Оркатт. – Этот способ воздействия потерял свою силу.
– Что не остановишь? – спросил Лу Лейвоу.
– То, о чем вы говорите. Вседозволенность. Неестественным образом превратившуюся в идеологию. Непрерывный протест. Было время, когда вы могли просто сделать шаг в сторону и этим выразить свою позицию. В вашем случае обыкновенная игра в карты уже свидетельствовала о позиции. Но в наши дни все труднее укрыться в спокойной бухте. Изломанность вытесняет привычки, которые всегда были дороги людям этой страны. Демонстрировать то, что они называют «скованностью», сегодня так же стыдно, как когда-то было стыдно демонстрировать разнузданность.
– Это верно, да, это верно. Но позвольте я расскажу об Эле Хабермане. Вам хочется поговорить о былом стиле поведения, о том, как он проявлялся, так давайте поговорим об Эле. Он был прекрасный парень, Эл, красавец. Разбогател, раскраивая перчатки. В те дни это было возможно. Если у мужа с женой было достаточно амбиций, они могли раздобыть несколько шкур и начать мастерить из них перчатки. В конце концов обзавелись маленькой мастерской с двумя закройщиками и двумя швеями. Умели сшить перчатки, отутюжить их и продать. Все это было доходно, они были сами себе хозяева, умели работать шестьдесят часов в неделю. Тогда, в те давние времена, когда заработок у Генри Форда достигал неслыханной суммы доллар в день, хороший закройщик вырабатывал пять долларов в день. Однако не забывайте, в то время чуть ли не у любой женщины было двадцать – двадцать пять пар перчаток. Это считалось нормой. К каждому платью или костюму свои перчатки. Разных цветов, разных фасонов, разной длины – и в результате целый перчаточный гардероб. В те дни можно было нередко увидеть, как женщина два-три часа выбирает себе в магазине перчатки: примеряет по очереди тридцать пар, а продавщица, прежде чем предложить новый цвет, каждый раз моет руки в раковине, установленной за прилавком. Дамские лайковые перчатки были от четвертого размера до восьми с половиной, и каждый размер делился еще на четыре четверти. Раскройка перчаток – ремесло удивительное, было, во всяком случае. Теперь про все нужно говорить «было». Такой раскройщик, как Эл, всегда работал в рубашке с галстуком. В те времена все так работали. И можно было продолжать работать и в семьдесят пять, и в восемьдесят. Иногда начинали, как Эл, в пятнадцать лет и даже раньше и могли продолжать работать до восьмидесяти. Семьдесят – и за возраст-то не считалось. Кроме того, они могли работать и в выходные: в субботу и в воскресенье. Эти люди могли работать постоянно. Зарабатывали на учебу детям. Зарабатывали на красивые дома. Эл, например, мог так, в шутку, взять кусок кожи и сказать: «Что ты хотел бы получить, Лу, – номер восемь или номер девять длиной шестнадцать?» – и тут же, на глаз, без линейки точно их выкроить. Закройщик блистал, прямо как примадонна. Но теперь эта гордость профессией ушла в прошлое. Из тех, кто, работая на раскройном столе, мог одним махом вырезать перчатку о шестнадцати пуговицах, Эл Хаберман был, я думаю, последним во всей Америке. Да и вообще длинных перчаток больше нет. Это еще одно «было». Одно время вошли в моду шелковистые перчатки длиной в восемь пуговок, но к 1965 году и это закончилось. Мы начали обрезать длинные перчатки, превращать их в короткие, а из обрезанных манжет кроить новые пары. Прежде по всей длине вверх от шва в основании большого пальца через каждый дюйм шла пуговка, поэтому до сих пор, говоря о длине перчатки, мы продолжаем говорить о пуговках. Слава богу, в 1960 году Джеки Кеннеди начала появляться в маленьких перчатках до запястья, в перчатках до локтя, в перчатках выше локтя, в шляпках-«менингитках», и перчатки тут же, мгновенно опять вошли в моду. Первая леди перчаточной индустрии. Ее размер был шесть с половиной. Все, занятые в перчаточном производстве, молились на эту леди. Сама она все покупала в Париже. Но разве это имело значение? Нет, ведь она вернула к жизни женские нарядные перчатки. Но когда Кеннеди убили и Жаклин Кеннеди выехала из Белого дома, то это, да еще наступившая мода на мини-юбки прикончили элегантные женские перчатки. Убийство Джона Ф. Кеннеди и приход мини-юбок вместе нанесли дамским перчаткам непоправимый удар. Раньше перчатки были нужны круглый год. В прежние времена женщина никогда не выходила на улицу без перчаток – неважно, весна это была или даже лето. Теперь перчатки надевают, только когда холодно, когда садятся за руль мотоцикла, во время спортивных…
– Лу, – осторожно сказала жена, – никто ведь не говорит о…
– Пожалуйста, дай мне закончить. Дай мне договорить и не перебивай. Эл Хаберман очень любил читать. Никогда не учился в школе, но был запойным читателем. Его любимым писателем был сэр Вальтер Скотт. В одной из своих классических книг сэр Вальтер Скотт описывает спор между сапожником и перчаточником о том, чье мастерство выше. И перчаточник этот спор выигрывает. Знаете, что он говорит? «Твое дело, – говорит он сапожнику, – всего-навсего сделать варежку для ноги. Заботиться о каждом пальчике отдельно тебе не приходится». Сэр Вальтер Скотт был сыном перчаточника, так что не удивительно, что он именно так повернул этот спор. Вы не знали, что сэр Вальтер Скотт был сыном перчаточника? А знаете, кто еще был сыном перчаточника, кроме сэра Вальтера и моих сыновей? Уильям Шекспир. Отец Шекспира был перчаточником, не умевшим прочесть свое имя. А знаете, что говорит Ромео своей стоящей на балконе Джульетте? Все помнят «Ромео, Ромео, где ты, Ромео?» – но это говорит она.А что говорит Ромео? Я с тринадцати лет работаю на сыромятне, но знаю это – благодаря моему дорогому покойному другу Элу Хаберману. В семьдесят три он вышел из дома, поскользнулся, упал и сломал себе шею. Ужасно. Так вот, он рассказал мне, что говорит Ромео. Он говорит: «Как она льнет щекой к своей руке. Как я хотел бы быть ее перчаткой и прикоснуться к этой щечке!» Шекспир. Знаменитейший автор всех времен.
– Лу, дорогой мой, – снова мягко вмешалась Сильвия Лейвоу, – какое все это имеет отношение к тому, что мы обсуждали?
– Оставь, пожалуйста! – отмахнулся он раздраженно, даже не посмотрев в ее сторону. – А что до мистера Макгаверна, то это мне и совсем не понятно. Какая связь между мистером Макгаверном и этим грязным фильмом? Я голосовал за Макгаверна. Я агитировал за него в своем кондоминиуме. И если б вы знали, чего только я не наслушался от всех наших евреев, жужжащих, что Никсон сделал для Израиля и то и это, но я напомнил им, на случай если они забыли, что Гарри Трумэн поймал его в 1948 году на всяческих шахер-махерах, ну а теперь посмотрите на урожай, который приходится пожинать моим милым друзьям, голосовавшим за мистера фон Никсона и его штурмовиков. Я скажу вам, кто ходит на эти мерзкие фильмы: подонки, идиоты и подростки, за которыми не присматривают родители. А вот почему мой сын повел на этот фильм свою хорошенькую жену, я не пойму до самой могилы.
– Чтобы увидеть, как живет другая половина общества, – сказала Марсия.
– Моя невестка – леди. Такие вещи ей не интересны.
– Лу, – обратилась к нему жена, – кто-то смотрит на это иначе.
– Не могу в это поверить. Они интеллигентные и образованные люди.
– Вы слишком раздуваете значение интеллигентности, – сказала с легкой насмешкой Марсия. – Интеллигентность не уничтожает заложенного природой.
– Что? Интерес к таким фильмам заложен природой? Скажите, а что вы скажете детям, если они вас спросят об этом фильме? Скажете, что он чудный и увлекательный?
– Мне не понадобится что-либо говорить им. В наши дни дети не задают вопросов, а просто сами идут в кино.
Больше всего его, конечно, изумило, что эта ситуация «наших дней», похоже, совсем и не огорчала ее, преподавательницу, ячейку-преподавательницу, женщину, имеющую детей.








