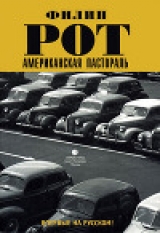
Текст книги "Американская пастораль"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
– Я не выродок, – говорит Швед. – А вот ты выродок.
– Нет, ты не выродок, это точно. Ты все делаешь правильно.
– Не понимаю. Ты произносишь это, как оскорбление. – Швед даже рассердился. – Что дурного в том, чтобы поступать правильно?
– Ничего. Ничегошеньки. Но только твоя дочь всю жизнь расшибает об это лоб. Ты прячешься за ширмой, Сеймур. Ты никогда не раскрываешься. Никто не знает, что ты на самом деле. Вот об это она и бьется – о твой фасад. О твои чертовы нормы. Посмотри хорошенько, как лихо она расправилась с твоими нормами.
– Не знаю, чего ты от меня хочешь. Я, к сожалению, не так умен. Больше ты ничего не хочешь мне сказать? Это все?
– Ты берешь все призы. Всегда поступаешь правильно. Все тебя любят. Женишься не на ком-нибудь – на «Мисс Нью-Джерси». Вот тут впору задуматься. Почему, собственно, ты на ней женился? Потому что выглядит, как картинка. Для чего ты вообще что-либо делаешь? Чтобы добиться красивых картинок.
– Я любил ее! Так любил, что пошел против воли отца!
Джерри смеется.
– Ты уверен? Ты правда думаешь, что одержал над ним верх? Ты женился на ней, потому что не знал, как выпутаться. Отец вытер об нее ноги тогда в своем офисе, а ты сидел и помалкивал. Скажешь, неправда?
– Моя дочь сидит в жуткой конуре, Джерри. О чем мы говорим?
Но Джерри не слышит его. Он слышит только себя. Почему именно сейчас Джерри считает, что настал его час и он наконец-то может резануть брату правду-матку? Почему кто-то решает, что, когда тебе хуже всего, самое время под видом рассуждений о твоем характере вылить на тебя все презрение, которое копится многие годы? Почему людей так распирает от чувства превосходства над страдальцем, почему они так ликуют, выказывая это? Что за радость именно сейчас выместить на мне всю обиду за то, что жил в моей тени? Почему, если его подмывало все это сказать, он молчал, пока я был на коне? И почему он считает, что оказался в тени? Самый знаменитый кардиохирург Майами! Доктор Лейвоу, который спасает людей с больным сердцем!
– Отец, черт побери, проморгал и позволил тебе проскользнуть в щелку – это ты понимаешь? Если бы он сказал: я никогда не дам согласия, я не согласен, чтобы мои внуки были какими-то половинками, – тогда тебе пришлось бы делать выбор. Но тебя эта участь миновала: тыникогда не делал выбора. Нет, никогда. Потому что он дал тебе проскользнуть. Все всегда давали тебе возможность проскользнуть к цели, не делая выбора. И поэтому до сих пор непонятно, кто ты на самом деле. Ты не проявил себя – вот в чем дело, Сеймур, ты «не проявлен». Поэтому твоя дочь и решила убрать тебя из своей жизни. Ты всегда и во всем виляешь, и ей это сделалось ненавистно. Ты всегда прячешься за ширмой. Ты никогда не делаешь выбора.
– Зачем ты это говоришь? Что ты хочешь, чтобы я выбрал? О чем у нас речь?
– Думаешь, у тебя есть представление, что такое мужчина? Ты понятия не имеешь, что такое мужчина. Думаешь, знаешь, что такое дочь? Ты понятия не имеешь о том, что такое дочь. Думаешь, ты понимаешь эту страну? Ты понятия не имеешь об этой стране. У тебя ложное представление обо всем. Разбираешься только в своих идиотских перчатках. Эта страна вызывает ужас. Конечно, ее изнасиловали. С кем – как ты думаешь? – она водилась? Разумеется, в той компании ее неминуемо должны были изнасиловать. Это тебе не Олд-Римрок, дружище, это уже джунгли США. Она вошла в этот мир, в этот свихнувшийся мир, погрузилась в то, что его наполняет, – так чего же ты хочешь? Девочка из Римрока, Нью-Джерси, – конечно, она не знает, как в нем держаться, конечно, подонки просто используют ее. Что она знает? Она как звереныш, вдруг очутившийся в большом мире. Она еще не насытилась им, она до сих пор пытается с ним играть. Конура на Маккартер-хайвей? А почему бы и нет? Любая бы на ее месте сбежала. Ты готовил ее до конца жизни доить коров? К какой жизни ты старался ее приготовить? К искусственной, выдуманной. Ты строишь жизнь на предположениях.По сей день живешь в мире фантазий нашего старика, по сей день паришь вместе с Лу Лейвоу в этом его перчаточном рае. Перчатки тиранят нашу семью, душат ее, заставляют вертеться вокруг самого главного во вселенной – дамских перчаток! Он по-прежнему с жаром рассказывает о продавщице, которая, предлагая товар, споласкивает руки, прежде чем прикоснуться к паре перчаток другого цвета? О, где ты, где ты, чинная старозаветная Америка, страна, где у каждой женщины было по двадцать пять пар перчаток? Твоя дочь отправила все твои нормы к чертям собачьим, а ты все думаешь, что знаешь жизнь!
«Жизнь – это просто короткий отрезок времени, пока мы живы». – Мередит Лейвоу, 1964 год.
– Ты хотел получить «Мисс Америка»? Что ж, ты получил ее, но она отомстила – она твоя дочь! Ты хотел быть настоящим американским атлетом, американским морским пехотинцем, крутым американским парнем, под ручку с красоткой из «благородных»? Ты жаждал стать частичкой Соединенных Штатов Америки? Теперь ты ею стал, дружище, благодари свою дочь. Эта страна со всеми своими прелестями лезет тебе прямо в глотку. Дочка ткнула тебя носом в дерьмо, вонючее американское дерьмо, и теперь ты как все. Америка пошла вразнос! У Америки приступ бешенства! Черт тебя возьми, Сеймур, черт тебя возьми, если бы ты был отцом, который любит свою дочь…
Голос Джерри гремит в телефонной трубке; и черт с ними, с выздоравливающими пациентами, которые ждут в коридоре, чтобы он посмотрел, как вживляются их новые клапаны и артерии, и чтобы сказать, как они благодарны ему за «лицензию на продление срока». Джерри орет, орет, если приспичило, все, что хочет, – на больничные правила он плевать хотел. Он хирург, который орет в любом случае: орет, если ты с чем-то не согласен, орет, если ты его разозлил, орет, даже если ты просто стоишь перед ним и молчишь. Он делает не то, что предписывает делать больница, не то, чего ждет от него отец, не то, чего хотят жены; он делает то, что онхочет, и так, как онхочет; каждым словом и поступком, каждую минуту он объясняет всем, что он и кто он, он ничего не прячет за ширмой – ни свои мнения, ни чувство голода, ни срывы, ни желания, ни злость. В царстве воли он самодержец, твердый и бескомпромиссный правитель. Он не тратит время на сожаления – зачем я сделал то-то? почему я не сделал того-то? – ни перед кем не оправдывается за свои омерзительные выходки. Посыл понятен: вам придется принять меня таким, какой я есть, – иного не дано. «Глотать» что-либо он не намерен. Если что-то не так, он орет.
И это два родных брата: у одного агрессия вытравлена из генов неведомым селекционером, к генам другого агрессия привита.
– Был бы ты любящим отцом, – кричит Джерри на Шведа, – ни за что не оставил бы там свою дочку! И вообще не спускал бы с нее глаз!
Швед сидит у себя за столом; глаза полны слез. Такое чувство, словно Джерри ждал этого звонка всю жизнь. Уродливость происшедшего вызвала у него приступ ярости против старшего брата, и теперь он не может остановиться. Всю жизнь ждать возможности выплеснуть на меня эти ужасные обвинения, думает Швед. Люди действуют безошибочно: разузнают, что тебе нужно, и с размаху бьют отказом.
– Я не хотел оставлять ее, – говорит Швед. – Ты как будто не понимаешь. Не хочешь понять. Я ушел не поэтому. У меня ноги подкашивались, когда я уходил! Ты не хочешь понять. Как можно говорить, что я ее не люблю? Это бесчеловечно. Отвратительно. – Ее испачканное блевотиной лицо мелькает у него перед глазами, и он, срываясь, кричит: – Все вокруг отвратительно!
– Наконец-то ты прозреваешь! Мой брат приступает к формированию собственной точки зрения. Собственной, а не чужого дяди. Отличной от всеобщей генеральной линии. Замечательно. Первый шаг сделан. Наши мысли уже не столь безмятежны. «Все вокруг отвратительно». И что ты собираешься делать? Ничего. Слушай, хочешь, я сам поеду и заберу ее? Хочешь или нет?
– Нет.
– Так зачем звонишь?
– Не знаю. Чтобы ты помог.
– Тебе никто не поможет.
– Ты жесток. И жестоко со мной обращаешься.
– Да, я не умею выглядеть белым и пушистым. Никогда не умел – спроси отца. Это ты у нас перманентно белый и пушистый. И вот к чему это привело. Никому ни одного обидного слова. Любую вину беру на себя. Любое мнение имеет право на существование. Это, ясное дело, «либерально», ты либеральный отец, ничего не скажешь. Но что это значит? В чем тут суть? В желании сохранить все в целости. И смотри, в каком ты оказался дерьме!
– Не я начал войну во Вьетнаме. Не я показывал эту войну по телевизору. Не я сделал Линдона Джонсона Линдоном Джонсоном. Ты забываешь, как это началось, почему она бросила бомбу. Эта чертова война.
– Нет, войну начал не ты. Зато ты вырастил такую заряженную ненавистью девчонку, какой Америка еще не видела. У нее с детства каждое слово – бомба.
– Я дал ей все, что мог, все, все. Клянусь, я дал ей все. – Теперь слезы текут легко, он растворяется в своем плаче; и какое новое ощущение: как будто выплакаться было важнейшей целью его жизни, самой дорогой его сердцу мечтой, и вот она сбывается – в тот момент, когда он вспоминает все, что он дал ей, а она приняла, то спонтанное общение душ, наполнявшее их жизнь, которое в один прекрасный день вдруг (что бы ни говорил Джерри, какие бы горы обвинений ни возводил против него с таким злорадством), необъяснимым образом, стало ей ненавистно. – Тебя послушать, с такой бедой каждый дурак может справиться. Но с ней никто не может справиться. Никто! Нет средства побороть ее. Ты думаешь, я ничего не понимаю в жизни, плохо ориентируюсь? Если уж я плохо ориентируюсь, то где ты возьмешь тех, кто хорошо ориентируется… если я… Ты понимаешь, что я хочу сказать? Каким же я должен быть? Если я неправильно живу, то что говорить о других?
– О да, я тебя понимаю.
Расплакаться было для Шведа практически так же немыслимо, как, скажем, потерять равновесие при ходьбе или подбить кого-нибудь на дурной поступок; иногда он едва не завидовал тем, кто способен найти утешение в плаче. Но реакция брата уничтожила еще державшиеся обломки железной стены, которая преграждала путь мужским слезам.
– Если ты хочешь сказать, что я не… – всхлипнул он, – что я не… что мне эта жизнь не по зубам… то, я скажу тебе, она и никому не по зубам.
– Именно! Наконец-то дошло! Не по зубам. Всем нам не по зубам. В том числе и тому, кто все делает правильно! Всегда следовать правилам! – Джерри не скрывал отвращения, клокотавшего в голосе, – ходит тут, видите ли, и все делает правильно. – Скажи, ты собираешься перестать корчить из себя паиньку и выставить свою силу воли против дочкиной? Да или нет? На стадионе ты это умел. Там ты выигрывал очки. Помнишь? Ты сталкивал свою волю с волей соперника и выигрывал. Может, представишь себе, что это просто матч? Хотя нет, не поможет. Ты ведь человек действия, ты хорош для типично мужского дела, но здесь не типично мужское дело. И тебе даже не понять, как за него приняться. Ты видишь себя только игроком в мяч, фабрикантом перчаток и мужем «Мисс Америка». Тупеющим и дохнущим со скуки со своей «Мисс Америка». Ирландская девчонка из элизабетских доков и еврейский отпрыск из Уиквэйкской школы корчат из себя белых англо-саксонских протестантов – БАСПов. Коровы. Коровье общество. Старая колониальная Америка. И ты думал, что этот фасад достанется тебе бесплатно? Хорошие манеры, благие помыслы. Но за это тоже надо платите, Сеймур.Тут и я бросил бы бомбу. Стал бы джайнистом и поселился в Ньюарке. БАСПы, мать вашу! Я и не знал, что ты такой законопаченный. Но ты действительно законопачен. Туго же наш старик тебя запеленал. Чего ты хочешь, Сеймур? Завязать? Это тоже годится. Любой другой на твоем месте уже давно бы отряхнул прах со своих ног. Так что давай! Признай, что она презирает твою жизнь, – и завязывай. Признай, что многое в тебе самом ей ненавистно, – и подведи черту: навсегда распрощайся с этой стервой. Признай, что она чудовище, Сеймур. Даже чудовище родится от кого-то, у любого чудовища есть родители. Но родителям не нужны дети-чудовища. Завязывай! Ну а если не хочешь завязывать и звонишь, чтобы сказать мне это,то отправляйся туда, ради бога, и забери ее. Я могу съездить за ней. А? Твой последний шанс. Последнее спецпредложение. Если хочешь, чтоб я приехал, я быстро сворачиваю туг все, прыгаю в самолет – и берусь за дело. Я пойду туда, и, уж будь спокоен, я вытащу ее с Маккартер-хайвей, вытащу этот мешок дерьма, эту смердящую эгоизмом мерзавку, втягивающую тебя в свои гнусные игры. Со мной игр не получится. Ну, хочешь, чтобы я поехал?
«Нет, не хочу». Джерри думает, что во всем разбирается, но на самом деле не разбирается. Он думает, что все связано. А связи никакой нет. Какая связь между тем, как мы жили, и тем, что она сделала? Между тем, где она росла, и тем, что сделала? Все это так же лишено связи, как и все остальное, – все это часть вселенского хаоса! А он, Джерри, этого не понимает. Джерри злится. Думает, что злостью и криком прогонит из головы проклятые вопросы. Но все, что он кричит, неверно. Все неправда. Причины, следствия, кто виноват. Причины! Но причин нет. Она просто такая, как есть. И все мы такие, как есть. Причины, следствия – это в книжках. Разве могла жизнь нашей семьи породить весь этот дикий ужас? Не могла. И не породила. Джерри ищет рациональные объяснения, но это немыслимо. Здесь что-то иное, что-то, о чем он не имеет ни малейшего понятия. И никто не имеет. Это иррациональность. Хаос. Хаос с начала до конца.
– Нет, не хочу, – говорит Швед. – Это немыслимо.
– Для тебя это слишком грубо. В этом мире – и слишком грубо. Дочь – убийца, но все-таки слишком грубо. Муштровал морскую пехоту, но слишком грубо. О'кей, Великий Швед, наш нежненький гигант. У меня полная приемная больных. Действуй как знаешь.
III
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
7
В то лето шли слушания по Уотергейтскому делу. Лейвоу чуть ли не все вечера напролет просиживали на террасе у телевизора, смотрели запись дневного заседания по тринадцатому каналу. Отсюда же, в свое время, когда скот и фермерский инвентарь были еще не распроданы, они в теплые предвечерние часы смотрели, как коровы Доун пасутся у подножия холма. Неподалеку от дома лежал выгон в восемнадцать акров, и в некоторые годы они выпускали туда скотину «на вольные хлеба» на все лето. Но если коровы разбредались и пропадали из виду, а Мерри перед сном, уже одетая в пижамку, хотела их увидеть, Доун звала их «сюда, сюда!» – как звали их, наверное, от начала времен, – и они в ответ откликались и поднимались на холм или выходили из болота – тащились, мыча, на голос отовсюду, куда бы ни забрели. «Ну не красотки ли наши девчушки?» – обращалась Доун к дочери, а на следующий день они снова вставали на рассвете, чтобы вывести стадо, и он слышал, как Доун говорит: «Так, идем через дорогу», – и Мерри открывает ворота, а затем мать с крохотной дочуркой, с помощью хворостин и австралийской овчарки Апу, выгоняют стадо из двенадцати, пятнадцати или восемнадцати коров, каждая под двести фунтов весом. Мерри, Апу и Доун, иногда ветеринар или паренек с соседней фермы – когда надо подправить забор или помочь с сенокосом. Мерри всегда помогает мне задавать сено. А если телка отстанет, умеет ее подстегнуть. Когда Сеймур заходит в хлев, вот эти две коровы сразу начинают нервничать, ворошат копытами траву, трясут головами, косятся, а стоит войти Мерри, как они сразу ее признают и дают знать, что им надо. Они к ней привыкли, они ее чувствуют.
Как же она могла сказать: «Не хочу говорить о матери»? Чем мать-то ей не угодила? В чем ее преступление? Разве можно назвать криминалом мягкое обращение с покладистыми коровами?
В течение всей недели, когда родители гостили у них – ежегодный визит в конце лета, – у Доун не было никакой надобности их развлекать. Возвращалась ли она со строительства или приезжала от архитектора – они сидели перед телевизором, и свекор исполнял роль помощника адвоката. Родители мужа смотрели прямые трансляции, а потом вечером – все сразу в записи. Все свободное от телевизора время отец Шведа сочинял письма членам комитета и потом вслух зачитывал их за ужином. «Уважаемый сенатор Уайкер! Вы удивлены происшедшим в Белом доме, где живет Хитрец Дики? Не будьте простофилей. Гарри Трумэн вычислил его еще в 1948-м и тогда же дал ему прозвище Хитрец Дики». «Уважаемый сенатор Гэрни! Никсон – он все равно как Тифозная Мэри. Он заражает все, к чему прикасается, в том числе и Вас». «Уважаемый сенатор Бейкер! Вы хотите знать ПОЧЕМУ? Потому что это банда самых обыкновенных преступников. Вот вам и ПОЧЕМУ!» «Уважаемый доктор Дэш, – писал он нью-йоркскому адвокату комитета, – примите мои аплодисменты! Благослови Вас Господь! Благодаря Вам я горжусь, что я американец и еврей».
Самое большое презрение он приберег для довольно-таки незначительной фигуры, некоего юриста по имени Кальмбах, который организовал передачу крупной незаконной денежной суммы для уотергейтской операции и, по мнению старого джентльмена, заслуживал самого глубокого презрения и порицания. «Уважаемый мистер Кальмбах! Если бы Вы были евреем и сделали то, что сделали, весь мир возопил бы: „Опять евреи! Вот они – настоящие стяжатели!“ Но кто у нас стяжатель, дорогой мистер Загородный Клуб? Кто вор и обманщик? Кто у нас американец, а заодно и гангстер? Вы не усыпили мою бдительность своими сладкими речами, мистер Загородный Клуб Кальмбах. Вам не удалось отвести мне глаза ни гольфом, ни изысканными манерами. Я всегда знал, что Ваши вымытые руки – грязные. А теперь это знает весь мир. Стыдитесь».
– Думаешь, этот сукин сын мне ответит? Надо бы опубликовать эти мои письма отдельной книжкой. Найду кого-нибудь, кто напечатает, и раздам бесплатно, чтобы люди знали, что чувствует простой американец, когда эти сукины дети… Смотри-смотри, ты только посмотри на него. – На экране появился Эрлихман, бывший начальник штаба при Никсоне.
– Тошнотворный тип, – говорит мать Шведа. – И эта Трисия такая же.
– Ну, она-то мелкая сошка, – возражает муж. – А вот он настоящий фашист, да и все они одна шайка-лейка: фон Эрлихман, фон Хальдеман, фон Кальмбах.
– Все равно меня от нее воротит, – говорит жена. – Как они с ней носятся, тоже мне, принцесса.
– Эти так называемые патриоты, – Лу Лейвоу обращается к Доун, – спят и видят, как бы захватить Америку и сделать из нее нацистскую Германию. Знаешь книгу «Здесь этому не бывать»? Отличная книга, не помню автора.
Абсолютно современная. Эти господа подвели нас к краю пропасти. Только взгляни на этого сукина сына.
– Даже не знаю, кто противнее: он или тот, другой, – говорит его жена.
– Один черт, – говорит старик, – что тот сукин сын, что этот.
Дух недовольства, унаследованный от Мерри. Наверное, думал Швед, отец распалялся бы так же, сиди она с ними сейчас перед телевизором, но вот ее нет, и кто, в самом деле, больше этих уотергейтских негодяев виноват в том, что с ней произошло?
Во время вьетнамской войны Лу Лейвоу начал слать Мерри копии писем, которые он отправлял президенту Джонсону, но писал в надежде повлиять не столько на президента, сколько на саму Мерри. Его внучка-подросток в такой ярости из-за этой войны – он и сам наверняка не менее бурно реагировал бы, если бы, допустим, семейный бизнес пошел наперекосяк, – и старик до того расстраивался, что, отведя сына в сторонку, начинал говорить: «Почему она так переживает? Откуда она вообще все это знает? Кто забивает ей голову? Какая ей-то разница? Она и в школе так себя ведет? В школе так нельзя, она испортит отношения. Она испортит аттестат и не поступит в колледж. Люди этого не любят, ей откусят голову, она всего лишь ребенок…» Стараясь как-то смягчить – нет, не взгляды Мерри, но ярость, с какой она, брызжа слюной, высказывала их, он всячески показывал, что солидарен с ней, посылал ей статьи из флоридских газет, с присовокуплением собственных антивоенных лозунгов на полях вырезок. Во время своих визитов он ходил по дому, держа под мышкой портфель с письмами к Джонсону, и читал ей выбранные места – пытался спасти ее от самой себя, таскался за девчонкой по пятам, как маленький ребенок. «Надо пресечь это в корне, подавить в зародыше – шептал он сыну. – Так нельзя, совсем нельзя».
– Ну, – говаривал он, зачитав очередное послание президенту о том, какая великая страна Америка, какой великий президент был Франклин Делано Рузвельт, в каком неоплатном долгу его собственная семья перед этой страной и как ему лично и его близким неприятно, что наши ребята на другом конце света воюют неизвестно за что, когда им надо быть дома, со своими родными, – ну, как тебе твой дед?
– Дж-дж-джонсон – военный преступник, – отвечала она, – он не п-п-прекратит войну, потому только, что ты, дед, призываешь его к этому.
– Но, понимаешь ли, он еще и просто человек, у которого работа такая.
– Он акула империализма.
– Есть и такое мнение.
– Что он, что Г-г-гитлер – одно и то же.
– Ты преувеличиваешь, дорогая. Я не хочу сказать, что Джонсон нас не разочаровал. Но ты забываешь, что Гитлер сделал с евреями, милая моя Мерри. Тебя тогда не было на свете, поэтому ты и не помнишь.
– Джонсон то же самое делает с вьетнамцами.
– Вьетнамцев не сажают в концлагеря.
– Вьетнам – это один б-б-большой лагерь! Проблема не в том, что там «наши ребята». Это все равно что сказать: «Надо успеть вывести штурмовиков из Аушвица до Р-рож-рождества».
– Приходится быть дипломатичным, дорогая. Не могу же я называть президента убийцей и при этом надеяться, что он меня послушает. Правильно, Сеймур?
– Думаю, это вряд ли целесообразно, – сказал Швед.
– Мерри, мы все солидарны с тобой, – увещевал ее дед. – Ты это понимаешь? Поверь мне, я тоже, когда читаю газеты, начинаю беситься. Отец Кафлин, сукин сын. Отважный летчик и так называемый национальный герой этой страны Чарльз Линдберг – нацист, гитлеровец. Мистер Джеральд Л. К. Смит. Великий сенатор Бильбо. Да, в этой стране полно доморощенных мерзавцев, никто не отрицает. Мистер Рэнкин. Мистер Дайс со своим комитетом. Мистер Дж. Парнелл Томас из Нью-Джерси. Изоляционисты, расисты, фашисты-«ничегонезнайки» – не где-нибудь, а в самом конгрессе США. Негодяи вроде Парнелла Томаса, загремевшие в конце концов в тюрьму. А зарплату-то им платят американские налогоплательщики. Страшные люди. Хуже некуда. Мистер Маккаррен. Мистер Дженнер. Мистер Мундт. Геббельс из Висконсина, достопочтенный мистер Маккарти – чтоб он сгорел в адовом пламени. Его кореш мистер Кон. Мерзавец. Еврей,а такой мерзавец. Здесь всегда были негодяи, как и в любой другой стране, и к власти их приводили избиратели, эти мудрецы, имеющие право голоса. А газеты? Мистер Херст. Мистер Маккормик. Мистер Вестбрук Пеглер. Настоящие фашисты и реакционеры, псы поганые. Как я их ненавижу! Спроси своего папу. Да, Сеймур? Я ведь ненавижу их?
– Да.
– Но у нас демократия, милая. И возблагодарим за это Бога. Тебе не обязательно злиться на своих родственников. Ты можешь писать письма. Можешь голосовать. Ты можешь на любом углу вскочить на ящик и произнести речь. В конце концов, можешь вступить в морскую пехоту, как это сделал твой отец!
– Ой, дед, морская пехота – это про-про-про…
– Черт возьми, Мерри, тогда переходи на другую сторону! – воскликнул он, закусив удила. – А что? Если хочешь, иди в ихморскую пехоту. Такое бывало в истории. Это правда. Когда тебе исполнится лет, сколько нужно, ты можешь перейти на ту сторону и воевать в армии противника, если хочешь. Но я не советую. Люди этого не любят, и, думаю, у тебя хватит ума понять почему. Неприятно, когда тебя называют предателем. Но такое бывало. Такая возможность есть. Например, Бенедикт Арнольд, он так и поступил. Он перешел на сторону врага, насколько я помню. Мой одноклассник. И, наверное, я уважаю его. Он имел мужество отстаивать то, во что верил. Рисковал жизнью, защищая то, во что верил. Но он, Мерри, оказался не прав, по-моему. Он перешел на другую сторону в Революционной войне, и, по моему мнению, парень здорово ошибся. А ты не ошибаешься. Ты права.Твоя семья на сто процентов против этой чертовой вьетнамской войны. Тебе не надо восставать против семьи, потому что семья с тобой заодно.Ты здесь не одна такая противница войны. Мы все против нее. Бобби Кеннеди против…
– Сейчаспротив, – презрительно процедила Мерри.
– Ну да, сейчас. Лучше сейчас, чем в другой раз, ведь правда? Будь реалисткой, Мерри, витать в облаках – пустое дело. Бобби Кеннеди против войны. Сенатор Юждин Маккарти против. Сенатор Джавитс против, а он республиканец. Сенатор Фрэнк Черч против. Сенатор Уэйн Морс против, да как активно. Я восхищаюсь этим человеком. Я написал ему и удостоился ответа с собственноручной подписью. И конечно, сенатор Фулбрайт против войны. Он, как считается, предложил принять Тонкинскую резолюцию…
– Ф-ф-фул…
– Никто не говорит…
– Папа, дай Мерри сказать.
– Прости, детка. Я слушаю.
– Фул-фулбрайт – расист.
– Разве? Ты уверена? Сенатор Уильям Фулбрайт из Арканзаса? Брось. Ты что-то путаешь, друг мой. – Однажды, было дело, она уже отозвалась дурно об одном человеке, которого он уважал, противнике Джо Маккарти, и теперь он изо всех сил сдерживал себя, чтобы не накинуться на нее из-за Фулбрайта. – Но дай и мнезакончить. Что я говорил? На чем я остановился? На чем, черт побери, я остановился, Сеймур?
– Твоя мысль заключается в том, что вы оба против войны и оба хотите, чтобы она прекратилась. По этому поводу вам незачем спорить – вот что ты имел в виду, я полагаю, – сказал Швед. Он держался нейтрально, равноудаленный от обоих огнедышащих жерл, это устраивало его куда больше, чем роль оппонента любого из них. – Мерри считает, что писать письма президенту уже поздно. Она считает, что это бесполезно. Ты же считаешь, что бесполезно или нет, но это в твоих силах и ты будешь продолжать; по крайней мере, оставишь свое имя в анналах истории.
– Точно! – воскликнул старик. – Послушай, что я ему тут пишу: «Я всю жизнь состою в демократической партии». Слушай, Мерри. «Я всю жизнь состою в демократической партии…»
Но никакие его обращения к президенту войну не остановили, и никакие разговоры с Мерри не «пресекли в корне» и не «подавили катастрофу в зародыше». Он единственный в семье видел ее приближение. «Я предвидел. Было ясно как день – что-то грядет. Я чувствовал. Я старался предотвратить. Она потеряла управление. Что-то сломалось. Я чуял это. Я говорил вам: с этим ребенком нужно что-то делать, с ней что-то не ладно. Но у вас в одно ухо влетает, в другое вылетает. Вы мне все: „Папа, успокойся. Папа, ты преувеличиваешь. Папа, у нее трудный период. Лу, оставь ее в покое, не спорь с ней“. – „Ну уж нет, – говорил я вам, – я не оставлю ее в покое. Она моя внучка. Отказываюсь оставлять ее в покое. Я не хочу потерять внучку и поэтому не оставлю ее в покое. У нее крыша поехала“. А вы смотрели на меня как на сумасшедшего. Вы все. А я был прав. Я был тысячу разправ!»
Дома никаких новостей не было. Он молился, чтобы пришла весточка от Мэри Штольц.
– Ничего? – спросил он у Доун, готовившей в кухне салат из зелени, только что сорванной в огороде.
– Ничего.
Он налил выпить себе и отцу и вынес бокалы на террасу, где еще работал телевизор.
– Ты приготовишь жареное мясо, дорогой? – спросила его мать.
– Да, будет мясо, кукуруза и любимые помидоры Мерри. – Конечно, он хотел сказать «любимые помидоры Доун», но, раз уж оговорился, не стал поправляться.
Мать опешила, но, справившись с волнением, сказала:
– Никто не готовит мясо, как ты.
– Спасибо, мама.
– Мой большой мальчик. Самый лучший на свете сын. – Она обняла его и впервые за всю неделю не смогла удержаться от слез. – Прости, я вспомнила, как вы мне звонили.
– Я понимаю тебя, – сказал он.
– Когда она была маленькая, ты звонил мне, давал ей трубку, и она говорила: «Привет, бабуля! Знаешь что?» – «Не знаю, деточка. Что?» И она мне что-то рассказывала.
– Ну-ну. Ты так хорошо держалась. Не сдавайся. Ну же. Бодрись.
– Я смотрела на ее детские фотографии…
– Не надо. Лучше не смотри их. Ты ведь умеешь держать себя в руках, ма. Ничего не поделаешь, надо.
– Милый, ты такой сильный, ты так поддерживаешь нас, рядом с тобой мы просто оживаем. Я так люблю тебя.
– Хорошо-хорошо, мама. Я тебя тоже люблю. Но, пожалуйста, будь осторожна при Доун.
– Да-да, постараюсь.
– Вот и молодец.
Его отец, который – о чудо! – уже десять дней полностью сохранял самообладание, произнес, глядя на экран телевизора:
– Никаких новостей.
– Никаких новостей, – эхом откликнулся Швед.
– Совсем никаких.
– Совсем.
– Ну что ж, – сказал его отец с видом покорности судьбе, – ладно, значит, так тому и быть, – и отвернулся к телевизору.
– Как ты думаешь, Сеймур, она еще в Канаде? – спросила мать.
– Я никогда не считал, что она в Канаде.
– Но ведь туда ехали мальчики…
– Послушайте, лучше это не обсуждать. Доун может войти в любой момент…
– Извини, ты совершенно прав, – сказала мать. – Прости, пожалуйста.
– Ничто не изменилось, мама. Все по-прежнему.
– Сеймур, – нерешительно начала она. – Один вопрос, дорогой. Если она сдастся полиции, то что будет? Твой папа говорит…
– Что ты пристаешь? – перебил ее отец. – Он же сказал тебе, что тут Доун. Учись сдерживаться.
– должна учиться сдерживаться?
– Мама, не надо прокручивать в голове эти мысли. Ее нет. Она, может, вообще никогда больше не захочет нас видеть.
– Ну уж нет!– взорвался отец. – Как это не захочет! Ни за что не поверю. Обязательно захочет!
– Где твоя сдержанность? – спросила мать.
– Разумеется, она хочет нас видеть. Проблема в том, что она не может.
– Лу, дорогой, часто дети, даже в обычных семьях, вырастают и уезжают, и только их и видели.
– Но не в шестнадцать же лет. Не при таких же обстоятельствах. О каких «обычных семьях» ты говоришь? Мы и есть обычная семья. А это ребенок, который нуждается в помощи. Ребенок попал в беду, и наша семья не отвернется от попавшего в беду ребенка!
– Ей двадцать один год, папа. Двадцать один.
– Двадцать один, – подтвердила мать. – В январе исполнилось.
– Она не ребенок, – сказал Швед. – Я только хочу сказать, чтобы вы оба ничего не ожидали, чтобы не расстраиваться.
– Ну, я-то не расстраиваюсь. Я не так глуп. Уверяю тебя, я не расстраиваюсь.
– И не надо. Я очень сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим ее.
Хуже, чем не видеть ее никогда, было видеть ее такой, какой он оставил ее на полу той комнаты. Последние годы он потихоньку подготавливал их если не к полному отказу от надежды, то хотя бы к реалистической оценке будущего. Как мог он рассказать им, что пережила Мерри, какими словами описать, чтобы не убить их? То, что они могли представить себе, не было даже тенью реальности. И зачем кому-то знать эту реальность? Почему им обязательно надо знать?








