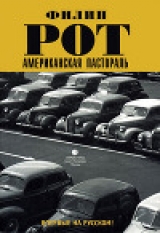
Текст книги "Американская пастораль"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
Шведу, конечно, не пришло в голову, когда он читал аннотацию, что нагромозди ты хоть гору высоких слов, их все равно не хватит для объяснения таких пустыхпроизведений, и говорить, что эти картины отражают вселенную, приходится именнопотому, что они не отражают ничего, и все слова иносказательно выражают только одно: что Оркатт бездарен, и, как бы ни пыжился, ему не сказать своего слова в живописи, да и ни в чем ином; а то, что он создает, узко и жестко, ибо таковы каноны, которые сковали его изначально. Шведу не приходило в голову, что он прав, что этот парень, который, посмотреть на него, живет в полном согласии с самим собой, превосходно ладит с людьми, безупречно соответствует занимаемому положению, на самом деле, возможно, давно таит в себе – и невольно выдает – одно желание: он не хочет быть в ладу,он хочет быть в разладе,но ему непонятно, как добиться этого. И он прибегает к единственному доступному ему средству – упорно пишет картины, о которых можно сказать, что они и на картины-то не похожи. Пожалуй, ему больше нечем утолить свою жажду оригинальности. Грустно. Но, как бы грустно это ни было, что бы Швед о художнике знал или не знал, понимал или не понимал, спрашивал или умалчивал, – все это перестало иметь значение, как только, через месяц после возвращения Доун с новым лицом из Женевы, одно из этих ребусных выражений извечных тем, определяющих человеческое существование, появилось в гостиной Лейвоу. Тогда-то и начались печали Шведа.
На полотне был пучок коричневых мазков – не тех серых, которые Оркатт старательно вымарывал в « Композиции № 16», —и в светлом, но уже не белом фоне угадывался пурпурный цвет. Темный колорит, утверждала Доун, свидетельствует о революционном пересмотре художником своих формальных выразительных средств. Она сказала это Шведу, а он, не зная, как реагировать, да и не интересуясь особенно «формальными средствами», промямлил в ответ: «Интересно». Когда он был ребенком, в доме у них не было ни одного произведения искусства, не говоря уже о произведениях «модернового» искусства, – в его семье подобными вещами увлекались не больше, чем в семье Доун. У Дуайров висели картинки религиозного содержания, и, может быть, Доун вдруг заделалась экспертом по «формальным средствам» от тайного стыда за детство в доме, где, кроме обрамленных фотоснимков ее самой и маленького братишки, висели только литографии Девы Марии и Сердца Христова. Если эти пижоны с утонченным вкусом вывешивают у себя на стенах произведения современного искусства, что ж, значит, они появятся и на наших стенах. Мы и у себя повесим формальные средства. Так, что ли? Доун, конечно, отрицает, но уж не говорит ли в ней опять-таки ирландский комплекс?
Она приобрела картину прямо в студии Оркатта, и стоила она им половину того, что они уплатили за новорожденного Графа. Швед сказал себе: «Бог с ними, с деньгами, забудь о них – сравнил божий дар с яичницей» – и таким образом справился с собой. Но вообще он расстроился, когда увидел « Медитацию № 27»ровно на том месте, где когда-то висел любимый им портрет Мерри, тщательно выполненный, очень похоже, пусть и с переизбытком розового цвета, изображающий здоровенькую шестилетнюю Мерри в светлых кудряшках. Портрет маслом написал для них в Нью-Хоупе один жизнерадостный пожилой джентльмен, встретивший их в своей студии в блузе и берете и не пожалевший времени, чтобы угостить их глинтвейном под рассказ о том, как он учился живописи, копируя картины в Лувре. Он шесть раз приходил к ним в дом писать сидящую за пианино Мерри и взял всего две тысячи за картину вместес позолоченной рамой. Но, как было сказано Шведу, поскольку Оркатт не попросил те тридцать процентов, которые им пришлось бы уплатить, если бы они купили «№ 27»в магазине, пять тысяч – это просто даром.
Его отец, увидев новую картину на стене, спросил: «Сколько он с вас содрал?» Доун помялась: «Пять тысяч долларов». – «Дороговато для грунтовки. А что там будет?» – «Что будет?.»– кисло спросила Доун. «Но ведь она не закончена… как я понимаю. Ведь не закончена?» – «В том-то и смыслэтой картины, что она „не закончена“, Лу», – сказала Доун. «Да? – Он еще раз взглянул. – Что ж, если этот тип соберется ее закончить, я подскажу ему, как это сделать». – «Папа, – вмешался Швед, чтобы затушить разгоравшуюся искусствоведческую дискуссию, – Доун купила ее, потому что она ей нравится». И хотя он тоже мог бы сказать художнику, как закончить картину (возможно, в тех же выражениях, что вертелись на языке у его отца), он был рад повесить все, что Доун ни купила бы у Оркатта, только потому, что она это купила.Ирландский комплекс это или нет, но приобретение живописного полотна было еще одним признаком того, что ее желание жить пересилило желание умереть, из-за которого она дважды оказывалась в психиатрической клинике. «Картина, конечно, дерьмо, – сказал он потом отцу. – Главное, что она ее захотела. Главное, у нее снова появились желания. Ради бога, – попросил он, с удивлением чувствуя, что и сам вот-вот сорвется, хотя повод не стоил выеденного яйца, – о картине больше ни слова». И каков же Лу Лейвоу? В следующий свой приезд в Олд-Римрок он первым делом подошел к картине и громко сказал: «Знаешь, мне нравится эта вещь. К ней привыкаешь, и она начинает нравиться. Смотри, – обратился он к Доун, – кажется, что картина не доделана, а ведь на самом деле это здорово. Видишь, полосы размыты? Это он нарочно. Это искусство».
В кузове своего пикапа Оркатт привез огромный картонный макет нового дома Лейвоу, и предполагалось, что после ужина он будет продемонстрирован всем гостям. На столе Доун уже много недель копились эскизы и наброски, в числе прочих схема, показывающая угол проникновения солнечных лучей в окна первого числа каждого месяца года. «Свет! – восклицала Доун. – Целые потоки солнечного света». Она избегала жесткости выражений, способной переполнить чашу сочувствия к страданиям жены и задуманному ею средству спасения, но все-таки в ее словах снова проскальзывала ненависть к любимому им каменному дому и к любимым кленам – гигантским деревьям, защищавшим дом летом от зноя, а осенью торжественно окружавшим лужайку золотым шатром, шатром, в центре которого ему когда-то мелькнуло видение раскачивающейся на качелях Мерри.
В первые годы жизни в Олд-Римроке Шведу было никак не привыкнуть к мысли, что эти деревья принадлежатему. Владеть деревьями – совсем не то, что владеть фабриками; то, что ему принадлежат деревья, еще удивительнее, чем то, что он, паренек, обитавший на спортплощадке Ченселлор-авеню и грязноватых улицах Уиквэйка, стал хозяином этого величественного каменного дома, ровесника Войны за независимость, в ходе которой Вашингтон дважды разбивал зимний лагерь на здешних холмах. Собственные деревья, озадаченно думал он, – это не собственный бизнес или даже не собственный дом. Правильнее считать, что деревья вверены его попечению. Да, именно так. Он попечитель деревьев, и его задача передать их своим потомкам: цепочке, начинающейся с Мерри и еедетей.
Чтобы снежные бури и сильные ветры не сломали клены, он обвязал их тросом, пустив его вокруг самых больших деревьев. На фоне неба, если смотреть снизу, трос вычерчивал нечто вроде параллелограмма на высоте пятидесяти футов, и над ним распускались по сторонам могучие ветви крон. Проволоку громоотводов, змейкой ползущую по стволам до самых макушек, на всякий случай проверяли каждый год. Два раза в год клены обрызгивали инсектицидами, через два года на третий удобряли, и к ним регулярно приходил озеленитель – обрезать отмершие ветки и вообще приглядеть за самочувствием личной рощи Лейвоу, которая начиналась прямо у дверей дома. Деревья Мерри. Фамильные деревья Мерри.
Осенью он всегда строил планы так, чтобы вернуться домой засветло, и, как он и надеялся, она всегда оказывалась на качелях; взлетала над ковром желтых листьев, устилавших землю под ближайшим к дому, самым большим кленом; качели к этому клену он привязал, как только ей исполнилось два года. И, раскачиваясь, она взлетала чуть не до второго этажа, до веток, упиравшихся в окна их спальни… Но если для него эти бесценные моменты на закате дня символизировали полное воплощение всех его чаяний, то для нее они не значили ровным счетом ничего: она, как выяснилось, любила эти деревья не больше, чем ее мать – дом. Онабеспокоилась об Алжире. Оналюбила Алжир. Дитя на качелях, дитя в обрамлении древесных куп. Это дитя в обрамлении древесных куп сидело теперь на полу той каморки.
Оркатты приехали пораньше, чтобы Билл с Доун успели поговорить о проблеме соединения одноэтажного дома и двухэтажного гаража. Оркатт уезжал в Нью-Йорк на пару недель, и Доун не терпелось поскорее решить эту последнюю задачу, потому что они уже месяц кумекали, как добиться архитектурной гармонии между двумя такими разными строениями. Гараж имел вид амбара, но Доун не нравилось, что он стоит слишком близко от дома, такого самого по себе особенного, и нарушает общее впечатление; тем не менее она не одобряла оркаттовскую идею восьмиметрового перехода – ей казалось, что из-за него все сооружение станет похоже на мотель. Они чуть ли не ежедневно вели дискуссии, обсуждая не только размеры, но и «образ» этого перехода – не сделать ли его в виде теплицы, например, а не обычного коридора, как планировалось первоначально. Доун страшно раздражалась, когда чувствовала, что Оркатт пытается, пусть и деликатно, навязать ей что-нибудь в духе близкой ему старомодной архитектурной эстетики вместо строгого модернового стиля, в каком она мыслила свой новый дом; пару раз он просто вывел ее из себя, и она даже подумала, что зря, наверное, обратилась к архитектору, который, несмотря на весь свой авторитет у местных подрядчиков – что гарантировало первоклассное качество строительства – и безупречную профессиональную репутацию, все-таки был в основном «реставратором старины». Она уже давно не была той молоденькой девушкой, только что покинувшей городок Элизабет и родительский дом со статуей в коридоре и картинками на стенах, которая робела перед снобами, к каковым она, ничтоже сумняшеся, причисляла и Оркатта. Когда они ссорились, она особенно язвила по поводу его (обоснованных) претензий на положение нетитулованного дворянина. Однако гнев и презрение улетучивались мгновенно, и меньше чем через сутки Оркатт опять появлялся у нее с «дивным решением» – как она называла его идеи, шла ли речь о месте для стирально-сушильной машины, устройстве верхнего света в ванной или же о лестнице в гостевую комнату над гаражом.
Вместе с макетом в одну шестнадцатую натуральной величины Оркатт привез образцы нового прозрачного пластика, который хотел предложить для стен и крыши перехода к гаражу. Он понес их в кухню к Доун, и там они, требовательный клиент и изобретательный архитектор, в очередной раз пустились в дебаты по поводу плюсов и минусов прозрачного перехода (поначалу Оркатт хотел обшить его вагонкой, как и гараж) – Доун при этом мыла салат, резала помидоры, лущила две дюжины початков кукурузы, принесенных Оркаттом со своего огорода. А в это время позади дома на обращенной к холму веранде, с которой когда-то, в такие же августовские вечера, они любовались силуэтами своих коров на фоне буйных закатных красок, Швед готовил угли для барбекю. С ним рядом находились его отец и Джесси Оркатт, в последнее время редко появлявшаяся где-либо вместе с мужем и проходившая, по словам Доун, у которой Оркатт устало осведомился по телефону, не будут ли они против, если он приедет с женой, период «затишья перед маниакальной бурей».
Три сына и две дочери Оркаттов, все уже взрослые, жили и работали в Нью-Йорке, а в прошлом были пятью ребятишками, которым Джесси, по всеобщему мнению, была преданной матерью. Выпивать она начала после того, как дети уехали из дома; сначала для поднятия настроения, потом чтобы подавить тоску, а затем просто чтобы выпить. Но это сейчас, а когда две супружеские пары только познакомились, Шведа поразил именно здоровели видДжесси: такая она была свежая – сразу видно, не любительница сидеть в четырех стенах, – такая жизнерадостная, и никакого притворства, никакой позы… Такой она казалась Шведу; его жена видела это, пожалуй, иначе.
Джесси была «богатой невестой» из Филадельфии, с манерами выпускницы пансиона благородных девиц; в дневное время, иногда и вечером, она ходила в заляпанных грязью бриджах, а свои шелковистые цвета соломы волосы заплетала в косы. С этими косами, с чистым, круглым, гладким лицом – за которым, сказала Доун, скрывается не мозг, а яблоко сорта «макинтош», – она походила на миннесотскую фермершу лет сорока, хотя, закручивая волосы наверх, делалась очень похожа на молоденького парнишку, как, впрочем, и на молоденькую девчушку. Швед и представить себе не мог, что в личности Джесси был какой-то изъян, который не дал ей спокойно плыть по течению, до старости оставаясь образцовой матерью и энергичной женой, способной превратить уборку осенних листьев в веселый праздник и задавать в День независимости пикники на лужайке у дома Оркаттов, на которые с превеликой охотой съезжалась вся округа. Ее характер Швед воображал себе тогда, как некую сложную смесь, в которой большая часть компонентов была токсичнадо крайности, до ужаса. Сердцевину же составляла уверенность в себе, которая в его воображении ассоциировалась с ее аккуратными, туго заплетенными косами.
Но вот и ее жизнь раскололась на «до» и «после». Сейчас на голове у нее был вечно всклокоченный седой пучок соломенных волос, а сама Джесси в пятьдесят четыре года представляла из себя старую, высохшую, истощенную алкоголичку, прячущую отвислый живот пьянчуги под бесформенными платьями фасона «мешок без выкройки». В тех случаях, когда она была в состоянии покинуть дом и общаться с людьми, говорила она только об одном – как «классно» она жила, пока не выпила свою первую рюмку спиртного, не впустила в голову всякие мысли, не заимела мужа, ребенка и не научилась страшно радоваться тому, что была надежным человеком, на которого можно положиться (в его глазах, она определенно радовалась).
То, что люди – существа многосложные, не было сюрпризом для Шведа и не очень шокировало, когда подтверждалось вновь и вновь. Удивляло другое: ему казалось, что у некоторых людей раньше времени выходили запасы духовного материала, из которого они были сделаны, что люди исчерпывали сами себя и, опустошенные, превращались в индивидуумов того сорта, к которому когда-то сами испытывали жалость. Как будто, хотя их жизнь богата и полна, они втайне сами себе противны и ждут не дождутся, когда их оставит умственное и физическое здоровье, а также всякое чувство сообразности, и они смогут отдаться своему другому, истинному своему «я» – «я» неудачников, полностью сбитых с толку. Как будто бы жить в ладу с миром – это случайное состояние, которое иногда настигает отдельных молодых счастливцев, но вообще человеческим существам органически не свойственно. Как странно. И как странно было ему думать, что, наверное, он сам, всегда считавший себя везучим членом неисчислимого братства нормальных, не враждебных миру людей, на самом-то деле представляет собой аномалию, «постороннего» в реальной жизни – именно потому, что так прочно укоренен.
– У нас был дом под Паоли, – рассказывала Джесси его отцу. – И там была масса всяких животных. Когда мне было семь, кто-то из родственников сделал мне чудный подарок – пони с повозкой. И после этого меня уже было не остановить. Я обожала лошадей. Я всю жизнь ездила верхом. Участвовала в выставках и охотилась. В школе в Виргинии принимала участие в охоте с приманкой.
– Постойте-постойте, – остановил ее Лу Лейвоу. – Тпру! Что такое охота с приманкой? Попридержите коней, миссис Оркатт. Я всего лишь простой парень из Ньюарка.
Она поджала губы, когда он назвал ее «миссис Оркатт», по-видимому, недовольная тем, что он обратился к ней как бы «снизу вверх», подчеркивая социальную дистанцию между ними. Отчасти, Швед знал, отец действительно по этой причине назвал ее «миссис Оркатт». Но разделяло их также и выразившееся в словах «миссис Оркатт» презрительное отношение Лу Лейвоу к ее пьянству, к третьей порции виски с водой за час и к четвертой по счету сигарете, которая догорала в ее дрожащих пальцах. Его удивляло, что она не могла держать себя в руках; его всегда поражали те, кто не мог держать себя в руках, но особенно пьющие гои. Демон пьянства сидел во всех гоях. «Большие шишки, – говорил он, – президенты компаний, а сами как индейцы с их любовью к огненной воде».
– Ради бога, зовите меня Джесси, – сказала она с деланой улыбкой, которая смогла замаскировать, по подсчетам Шведа, процентов десять, не более, испытываемого ею сейчас мучительного сожаления. Лучше бы она осталась дома и сидела с собаками и со своей бутылкой виски перед телевизором, чем (смешно – на что она надеялась?) идти, как порядочная, в гости с мужем. Дома на столике у телевизора рядом с бутылкой стоял телефон, и в ее власти было, протянув руку и поставив стакан, поднять трубку и набрать номер; хотя бы и неодетая, она могла, избежав ужаса личной встречи, сказать знакомым, как она их любит. Бывало, она месяцами никому не звонила, а потом вдруг позвонит три раза за вечер, когда люди уже лежат в постели. «Сеймур, я звоню, чтобы сказать, как ты мне симпатичен». – «Спасибо, Джесси. Ты мне тоже симпатична». – «Правда?» – «Ну конечно. Ты же знаешь». – «Да, Сеймур, ты мне нравишься. Всегда нравился. Ты знаешь, что ты мне нравился?» – «Да». – «Я всегда восхищалась тобой. И Билл тоже. Мы всегда восхищались тобой и любили тебя. И Доун нам нравится». – «Ты нам тоже нравишься, Джесси». Вечером в день взрыва, вернее, около полуночи, после того как фотографию Мерри показали по телевизору и вся Америка узнала, что накануне она сказала кому-то в школе, что Олд-Римрок ожидает большой сюрприз, Джесси попыталась дойти до Лейвоу (пешком три мили), но в темноте на ухабистой проселочной дороге подвернула ногу и два часа пролежала на земле, и ее чуть не переехал грузовик.
– Хорошо, друг мой Джесси. Ну, просвети же меня. Что такое охота с приманкой? – Нельзя сказать, что отец не старался ладить с людьми. Раз дети пригласили ее в гости, он будет с ней дружелюбен, как бы его ни раздражали эти сигареты, виски, нечесаные волосы, сбитые туфли и мешковатое платье, скрывающее оставленное в небрежении тело, как бы ни отвращал тот факт, что она растранжирила все предоставленные ей жизнью дары и превратилась в сплошное позорище.
– Охота с приманкой – это охота, но только не на лису. Всадник скачет впереди вас и тянет на веревке мешок… с чем-нибудь вонючим. Это создает духохоты. Гончие идут по следу. На пути охотников, вроде как на спортивной дистанции, ставят огромные, высокие препятствия. Безумно интересно. Скачешь очень быстро. Высоченные навалы из сучьев. Восемь, десять футов шириной, а поверху – перекладина. Здорово. Устраивается много скачек, масса отличных наездников и просто людей приезжает в эти места поскакать. Страшно интересно.
Шведу казалось, что она пытается немного замаскировать смущение. В самом деле непросто: подвыпившая болтушка, в гостях у приличных людей, а тут еще отец шутя подначивает (я, дескать, темнота, ничего не знаю), и это сбивает с толку, слова разъезжаются, но каждая неудача приводит к новой попытке заставить свои губы говорить четко и ясно, сказать что-то похожее на звонкое «Папочка!», вырвавшееся из-под тряпки, завешивающей рот его дочери-джайны.
Ему не надо было отрывать глаз от ярких углей, которые он при помощи щипцов складывал в пирамиду, – он и не глядя на отца знал, что тот думает. Интересно им, видите ли, думал его отец. Что это с ними? Какой такой интерес? Что там интересного? Что там страшно интересного? С тех пор, как сын приобрел дом и сотню акров земли за сорок миль к западу от Кер-авеню, отец часто спрашивал себя, как и сейчас: почему он хочет жить с этими людьми? Пусть бы и без пьянства – они и трезвые не лучше. Они через две минуты наскучили бы мне до смерти.
У его жены были к ним одни претензии, у отца – другие.
– Во всяком случае, – говорила Джесси, делая круговые движения рукой с зажатой в ней сигаретой, как будто пытаясь привести свою речь к некоему заключению, – именно поэтому я поехала в школу с лошадью.
– Поехала в школу с лошадью?
И опять она нервно поджала губы – оттого, наверное, что этот старик, который думает, что своими расспросами помогает ей выпутаться, погоняет ее слишком быстро, и неминуемая катастрофа, по всему чувствуется, наступит еще скорее, чем обычно.
– Да. Мы с ней ехали на одном поезде, – объяснила она. – Так удачно, правда?
И, к удивлению обоих Лейвоу, она, словно и не было у нее никаких серьезных проблем, а претензии к пьющим людям, которые иногда проявляют противные самодовольные трезвенники, бредовы и смехотворны, вдруг кокетливым жестом прижала ладонь к щеке Лу Лейвоу.
– Извини, я не понимаю, как ты попала на поезд с лошадью. Она была большая?
– В те времена лошади ездили на лошадиных платформах.
– Ага, – сказал мистер Лейвоу, и это прозвучало так, словно наконец-то он освободился от всю жизнь мучившего его любопытства по поводу представления гоя о радостях жизни.
Он отнял ее ладонь от своей щеки и крепко сжал обеими руками, как будто через нее хотел втиснуть в Джесси все, что знал о смысле жизни и что сама Джесси, похоже, подзабыла. Джесси между тем, под действием все той же силы, которая, не разбирая дороги, тянула ее и к концу вечера столкнула в пропасть унижения, продолжала лепетать:
– Они все уезжали, забирали с собой причиндалы для поло, все ехали на юг в зимнем поезде. Поезд ехал до Филадельфии. Я поставила лошадь на платформу за два вагона впереди от своего, помахала семье ручкой на прощание, и это было здорово.
– Сколько тебе было лет?
– Тринадцать. Я совсем не скучала, все было просто великолепно, отлично, потрясающе, – тут она начала всхлипывать, – здорово.
«Тринадцать, – думал его отец, – какая-то пигалица – пишерке,а уже машет семье ручкой. В чем дело? Что с ними? Какого черта ты машешь семье ручкой на прощание в тринадцать лет? Немудрено, что сейчас ты пьяница, чистая тикер».
Но сказал он другое:
– Ничего, можно и поплакать. Здесь же твои друзья.
И, преодолев гадливость, взял у нее из руки стакан, из другой – только что зажженную сигарету и обнял ее, чего она, возможно, и жаждала всю дорогу.
– Опять мне выступать в роли папаши, – тихо сказал он, а она ничего не могла сказать, только плакала.
Он держал ее в своих объятиях и покачивал, отец Шведа, которого она в единственную их предыдущую встречу лет пятнадцать назад, на Четвертое июля, во время пикника на лужайке перед домом Оркаттов, пыталась заинтересовать стрельбой по тарелкам – еще одной забавой, которую Лу Лейвоу никак не мог постичь своим еврейским умом. Нажимать на курок и стрелять развлечения ради? Не иначе как они свихнутые, мешуге.
В тот день, проезжая мимо конгрегациональной церкви по дороге домой, они увидели самодельное объявление: «Продаются палатки. Дешево», и Мерри тут же загорелась и стала упрашивать Шведа купить ей палатку.
Если Джесси позволено на плече у его отца оплакивать тот факт, что в тринадцать лет она «помахала ручкой на прощание» своей семье, что в тринадцать лет ее отправили из дома совсем одну, только с лошадью, то почему у Шведа от этого воспоминания о своей джайне в шестилетнем возрасте – «Папочка! Ну давай остановимся,тут продают па-па-палатки!» – не могли навернуться на глаза слезы?
Решив спросить у Оркатта, привычного к выходкам жены, что можно для нее сделать, и просто стремясь немного побыть одному, потому что вдруг ощутил всю тяжесть своего положения, мысль о котором всеми силами старался отогнать от себя хотя бы до тех пор, пока не разойдутся гости, – положения отца, чья дочь не просто погубила (в общем, по нечаянности) одного человека, а недрогнувшей рукой, во имя истины и справедливости убила потом еще троих, отреклась от всего, чему учили ее отец с матерью, и дошла до отказа от самого цивилизованного существования, начинавшегося с чистоты тела и опирающегося на здравый рассудок, Швед оставил на время отца и Джесси и пошел вокруг дома, к задней двери кухни, за Оркаттом. Через дверное стекло он увидел лежащую на столе пачку рисунков Оркатта – наверное, новые эскизы вызывающей столько проблем галереи, – а потом вдруг увидел и его самого.
На Оркатте были малиновые льняные штаны и свободная, навыпуск, гавайская рубашка с яркими тропическими цветами, которую правильнее всего было обозначить словечком «кричащая», охотно употребляемым Сильвией Лейвоу для любой безвкусной одежды. Доун утверждала, что такой «прикид» был неотъемлемой составляющей того образа суперсамоуверенного Оркатта, который когда-то вогнал Доун в такой, теперь казавшийся смешным, трепет. По интерпретации Доун, в которой Шведу вновь послышалась нотка не совсем изжитого старого комплекса, этими гавайскими рубашками Оркатт говорил миру простую вещь: я Уильям Оркатт Третий и могу позволить себе носить то, что здешняя публика надеть не осмелится. «Чем выше ставишь себя в избранном обществе округа Моррис, – говорила Доун, – тем ярче позволяешь себе одеваться. Гавайская рубашка, – насмешливо улыбнулась она, – это экстрим аристократии, шутовской наряд белой кости. Насколько я поняла, живя здесь, даже Уильямы Оркатты Третьи иногда вдруг испытывают желание немного покуражиться».
Год назад отец Шведа сказал примерно то же самое: «Вот что я заметил. Не успеет лето наступить, как эти богатые гои, эти скромные, приличные люди выряжаются в самые немыслимые одеяния». Швед тогда засмеялся. «Одна из их привилегий», – сказал он, солидаризуясь с Доун. «Привилегия? – спросил Лу Лейвоу и засмеялся вместе с сыном. – Может быть. И все же отдадим должное этому гою – надо быть смелым человеком, чтобы появляться на людях в таких штанах и рубахах».
Увидев крупного, осанистого Оркатта в таком костюме, вы, как и Швед, удивились бы, увидев на его живописных полотнах одни лишь стертые и размытые краски. Человек, неискушенный в абстрактном искусстве, – такой, каким, по словам Доун, был Швед, – легко вообразил бы, что художник, расхаживающий в этих ярких рубашках, будет писать другие картины: например, что-то вроде изображения Луиса Фирпо, одним ударом посылающего Джека Демпси за пределы ринга во втором раунде матча на старом стадионе «Поло Граундз». Очевидно, однако, что мотивы художественного творчества и его приемы находятся за пределами понимания Шведа Лейвоу. На его взгляд, вся творческая энергия этого типа уходила в «свисток»: щеголять в таких нарядах – вот все, на что он был способен по части дерзости, яркости, бунтарства; может быть, разочарование и отчаяние тоже выливались у него в ношение этих рубашек.
Нет, кажется, в «свисток» уходила не вся энергия. Швед стоял на широкой гранитной ступени и смотрел через дверь. Почему он не открыл ее, не прошел прямо в собственную кухню и не сообщил Оркатту, что Джесси нуждается в помощи мужа? Потому что увидел, какОркатт наклоняется над Доун, занятой лущением кукурузного початка у раковины. В первый момент Шведу показалось, что Оркатт учит Доун, хотя она и сама умеет, лущить кукурузу: он стоял сзади и, накрыв ее руки своими, помогал ей освоить навыки чистого удаления листьев и шелковистых нитей с початков. Но если он только помогает ей чистить кукурузу, то почему его бедра и ягодицы ходуном ходят под колоколом этой вульгарной рубашки? Почему щека Оркатта прижимается к ее щеке? И почему Доун приговаривает – насколько можно прочитать по губам – «не здесь, не здесь…»? Почему не здесьчистить кукурузу? Где же еще? Через мгновение он понял, во-первых, что они не просто вместе чистят початки, а во-вторых, что не вся его энергия и дерзость, не все бунтарство, разочарование и отчаяние, подтачивающие традиционную родовую выносливость, находят выход в любви к гавайским рубашкам.
Так вот почему она всегда ссорится с Оркаттом – просто сбивает меня со следа! Язвит по поводу его бесчувственности, по поводу его происхождения, по поводу его показного дружелюбия – шельмует его всякий раз, когда мы с ней собираемся в постель. Раз она так говорит, значит, она влюблена в него – это ясно и не может быть иначе. Измена дому никогда не относилась к дому – это была просто измена.«Думаю, бедная жена начала пить не без причины. Он всегда очень сдержан. Так стремится быть вежливым, – говорила Доун, – так выставляет напоказ все эти принстонские манеры. Хочет всегда оставаться в рамках. Культивирует барскую ласковость. Живет на проценты с семейного прошлого. И в половине случаев его тут просто нет, а вместо него пустота».
Но сейчас Оркатт был здесь, прямо за дверью. Перед тем как стремительно вернуться на террасу, к румянившемуся над огнем мясу, Швед увидел – и вряд ли это был обман зрения, – как Оркатт вставлял себя точно туда, куда собирался попасть, и, выдыхая «тут! тут! тут!», сообщал Доун, как продвигается дело. На этот раз он, судя по всему, себя не сдерживал.
8
За столом – накрыто на свежем воздухе, на веранде за домом, а темнеет так медленно, что Шведу кажется, будто вечер замер, застыл и больше уже, как ни грустно, ничто не сдвинется с места, ничто никогда не случится и ничто не откроет гроб, вытесанный из времени, и не выпустит его из этого гроба, – за столом кроме членов семьи присутствует чета Уманофф, Барри и Марсия, и Зальцманы, Шейла и Шелли. Считанные часы прошли с момента, когда Швед узнал, что после взрыва бомбы Мерри прятала у себя ее психотерапевт Шейла Зальцман. Зальцманы не рассказывали ему об этом. А ведь если б они это сделали – позвонили, как только она у них появилась, выполнили свой долг, то… Мысль повисает в воздухе. Если представить себе все то, чего можно было избежать, не стань она лицом, скрывающимся от закона… Но и эта мысль повисает. Он сидит за столом, внутренне сжавшись – скованный, выбитый из колеи, зажатый, лишенный того благодатного дара открытости и жизнерадостности, выданного ему в награду за гипероптимизм. Сопутствовавшая ему на протяжении всей жизни активность бизнесмена, атлета, солдата морской пехоты США никак не подготовила его к роли пленника, навечно заключенного в ящик, лишенного права думать о том, что сталось с дочкой, о помогавших ей Зальцманах, о том, что… да, о том, что сталось с женой. Следовало провести весь обед, не думая об этом, хотя только об этом он и мог думать. Следовало прожить так весь остаток жизни. Сколько бы он ни пытался выбраться наружу, он был обречен оставаться покойником, заключенным в ящике, сколоченном из времени. Иначе взорвется мир.








