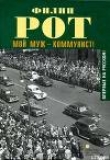Текст книги "По наследству. Подлинная история"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
После биопсии отец с неделю пробыл у нас в Коннектикуте; к тому времени, когда он оправился настолько, что мог вернуться в Элизабет, рот у него уже не болел, ел он с аппетитом, набрал килограмма два-три потерянного в больнице веса и окреп настолько, что прогуливался со мной после завтрака и еще раз днем. Каждое утро он приходил на кухню со словами: «Спал как убитый», а вечером, после ужина, устраивался с чашкой кофе напротив Клэр и еще долго после того, как я улизну наверх – почитать или посмотреть бейсбол, сидел на кухне, потчуя Клэр рассказами о своих родных и их судьбах в Америке. Скучными, никчемными – во всяком случае для тех, кто не принадлежал к нашей семье, – и успевшими, надо думать, уже приесться и ему самому (этот умер, этот женился, этот разорился, этот овдовел, у этого, слава Богу, жизнь в конце концов сложилась). Тем не менее, он рассказывал их вечер за вечером с не меньшим подъемом, чем Юл Бриннер[41]41
Юл Бриннер (1915–1985) – американский актер русского происхождения. Свою коронную роль сыграл в мюзикле Оскара Хаммерстайна «Король и я» (1956).
[Закрыть] пел «Вот так штуку», когда «Король и я» шел уже в четыре тысячи первый раз. И вечер за вечером Клэр сидела на кухне и, изнывая от скуки, слушала его, но при всем при том ее впечатляли как пыл, с которым он развертывал эту бессвязную сагу, так и поистине гипнотическая сила, с которой на восемьдесят седьмом году жизни его все еще притягивала незамысловатая судьба ничем не примечательной иммигрантской семьи. Как его покойный брат Чарли – он умер в 1936-м – в 1912-м женился на Фанни Спитцер, как Фанни четырнадцать лет спустя умерла, а Чарли женился на Софи Ласкер, и Софи заменила мать Мильтону, Роде, Кенни и Джанетт; как в 1942-м всего двадцати восьми лет от роду умерла Джанетт; как его брат Моррис, его хваткий, преуспевающий брат – он умер в двадцать девять, – приобрел фабрику шнурков на Пасифик-стрит, где мой дед приделывал наконечники к шнуркам; как Моррис приобрел два дома и четыре гаража; как он оставил все состояние своей транжирке жене, а она после смерти Морриса купила «вили».
– Слышала когда-нибудь о такой машине? Посмотри в справочнике. «В-и-л-и». Двухместная, с открытым кузовом. Все пошло прахом. Элла все распродала. Потом опять вышла замуж. Этот парень заделал ей ребенка, а она решила, что у нее опухоль желудка. Ее муж, армейский капитан, прибрал к рукам все ее денежки, Моррисово наследство, поехал в Германию, а ей велел покупать кожу, но тут ее отец, дядя Клейн, сказал: пусть они вносят деньги в американский банк, и коносамента он им не выдаст. У дяди Клейна была мелочная лавка на углу Эйвон-авеню – нет, что это я, на Клинтон-авеню, на углу Клинтон и Хантердон-стрит…
Эти истории были его Второзаконием, его хроникой Израиля, и после того, как он ушел на пенсию, где бы он ни оказался – на пароходе ли, плывущем на Карибы, в вестибюле ли флоридского отеля, в приемной ли врача, – мало кому из тех, кто просидел напротив него пусть четверть часа, удавалось увильнуть, от – в лучшем случае сокращенной – версии этой священной летописи. Христиане, с которыми ему приходилось сталкиваться, когда они с мамой путешествовали, вскакивали – и такое случалось – посреди фразы, спасаясь бегством, и даже в тех случаях, когда мама, собравшись с духом, пыталась объяснить ему, почему совершенно незнакомому человеку вряд ли так уж интересны обувная лавка Чарли на Бельмонт-авеню или кинотеатр Морриса на Пасифик-стрит по соседству с обувной фабрикой, он, судя по всему, не понимал или не желал понять ее. Такие лишения, такая несгибаемость и стойкость, такие люди, такие смерти, такие усилия – как это может не трогать, больше того, не заставить содрогаться от восторга так же, как содрогался он, вспоминая, как наши Роты в Америке вынесли все и выстояли?
В конце недели я повез его домой, в Элизабет, а по дороге сделал остановку в Манхэттене и отвел к офтальмологу. Мы пришли к решению, что надо забыть об опухоли и заняться глазами, – другого выхода у нас нет. В тот день отцу предстояло пройти обследование перед операцией, а в начале июля он должен был, предварительно передохнув, лечь в больницу – удалять катаракту. На это время из Чикаго прилетит брат – побудет с ним.
Так как на правый глаз отец ослеп на девяносто процентов, после операции, предупредил нас врач, он почти ничего не будет видеть, по меньшей мере, три-четыре недели. У нас почти не осталось времени найти кого-то, кто мог бы приглядывать за ним, пока он будет отходить после операции, однако мне повезло: проведя день-другой на телефоне, я узнал, что Ингрид Бёрлин, бывшая экономка моего брата, – она прожила у него пять лет, помогала растить двоих сыновей после того, как его первая жена умерла в 1971 году от рака, – сейчас работает у одной манхэттенской семьи и скоро освободится. Ингрид дала согласие поработать у отца начиная с того дня, когда отец вернется домой после операции катаракты, и вплоть до декабря, когда они с Лил, как у них заведено, отправятся на четыре месяца в Уэст-Палм-Бич (если опухоль даст такую возможность). С Ингрид, женщиной сорока с гаком, на редкость доброго нрава, умной и надежной, мама и отец очень сдружились за те пять лет, что она проработала у брата, и то, что она оказалась свободна как раз сейчас, когда отец так нуждался в уходе, мы сочли подарком судьбы. Договорились, что Ингрид будет приезжать на автобусе из Манхэттена пять-шесть раз в неделю на восемь часов – готовить, покупать продукты, убирать квартиру и – что снимало с нас самую большую тяготу – составлять отцу компанию все время, покуда он прикован к дому. Зная, что отец ни за что не согласится расстаться хоть с малой толикой своих банковских сертификатов или сбережений, чтобы платить Ингрид, мы с Сэнди согласились разделить расходы поровну, а после его смерти возместить их из наследства. Сбережений отца вполне хватило бы, чтобы оплачивать Ингрид в течение трех лет, если – на что особой надежды не было – он продержится так долго.
По дороге в Манхэттен я заметил, что он пал духом – неделя в гостях кончилась, а будущее, как и прежде, пугало, – и напомнил ему, что с появлением Ингрид да и после операции катаракты все переменится. Теперь, когда домашние дела возьмет на себя Ингрид и зрение у него восстановится, он не будет так зависеть от Лил, и их отношения, напрягшиеся во время болезни, надо думать, улучшатся.
Что он так раскипятится от моих слов, я никак не ожидал.
– Ни с того ни с сего она стала такой еврейкой – дальше некуда, – сказал он. – Раньше ее на службу не затащишь. До знакомства со мной она и вовсе в синагогу не ходила. Не знала даже, где синагога, но в пятницу, перед моей операцией, она меня бросает – и шасть на службу. Я ей говорю: «Даже собака не бросает хозяина. Люди покупают собаку, чтобы она была при них, а ты меня бросаешь!»
– Видишь ли, – сказал я, – пример с собакой, пожалуй, не самый удачный. Вполне понятно, что такое сравнение показалось ей нелестным.
Однако он не засмеялся и гнев на милость не сменил – никак нет. Напротив, теперь, возвращаясь домой, ярился, и еще как. Я гадал, что стоит за этим взрывом: уж не зол ли он на меня, потому что не хочет возвращаться домой. А может быть, он так разошелся из-за вопроса, который не решился задать ни доктору Бенджамину, ни доктору Мейерсону, ни мне, своему сыну писателю, потому что знал: ни у кого из нас, со всей нашей ученостью, степенями, витиеватыми словесами и высокоумными разглагольствованиями, так же как и у него, нет на этот вопрос ответа. Ведь, даже если он и не нужен никому, кроме себя самого, он, черт их подери, совершенно незаменим. А раз так, зачем ему умирать? Пусть-ка они, мозговитые, ответят на этот вопрос!
– Она все делает не так, – сказал он.
– А кто все делает так?
– Мама. Мама все делала так, как надо.
– Значит, другой такой не было и нет. И что бы тебе поменьше цепляться к Лил?
– Слушай, во Флориде сколько угодно дамочек, которые будут счастливы, если я у них поселюсь. Для них это – предел мечтаний.
Я не мог – это было бы слишком жестоко – чуть раньше напомнить ему, что маму – а она, когда он часов по десять-двенадцать в день проводил в конторе, делала, по его мнению, все так, как надо, – под конец ее жизни он вовсе не считал образцом совершенства. Не мог я напомнить ему, и что для бал-харборских дамочек – а они обмирали по нему, когда он, свежеиспеченный вдовец, каждый день методичным неспешным брассом плавал по четверть часа в бассейне кондоминиума, а потом в трусах и халате грелся на солнышке, пересказывая девочкам ходячие анекдоты элизабетского «Y», – поселить его у себя теперь, в 1988 году, учитывая, каким он стал, – отнюдь не предел мечтаний.
Впрочем, напоминать ему об этом не было нужды: он и сам минуту-другую спустя сообразил что и как, отчего разъярился еще больше, на этот раз вроде бы на сестру Лил, – та и вообще-то не пользовалась его благосклонностью (как и он ее, насколько я мог судить).
– Чего б Лил не выйти замуж за нее? – вопрошал он. – Они разговаривают по шестнадцать часов в день, вышла бы замуж за сестру – и дело с концом!
Но если Лил когда и хотела выйти замуж, так только за отца. Загвоздка в том, что он чувствовал себя все еще связанным – связанным уже не с мамой, а связанным узами их брака. Некоторое время назад, расчувствовавшись, он сказал:
– Мне иногда думается, что это мама послала мне Лил.
Такой полет фантазии, крайне для него нехарактерный, меня ошарашил, но особого вреда я тут не усмотрел, подумал только: уж не убаюкивает ли он свою совесть и не умаляет ли чувство стыда и вины, выражая таким образом верность покойной, – и сказал:
– Как знать, не исключено.
Он, по всей видимости, не столько старался найти способ предаться Лил всем сердцем (даже он был слишком искушен, чтобы питать такие надежды), сколько ввести ее на равных в их клан с его, единственной в своем роде, во всяком случае для него, историей. Он неизменно окружал своих друзей, стоила любому из них заболеть, заботой, преданно ходил за ними и, наверное, в тот год, когда он поддерживал Лил во время двух ее мастэктомий и выхаживал после них, был ей любящим мужем, по крайней мере более любящим, чем когда-либо. Но только как пациентка она могла хоть отчасти стать ему любимой женой; а едва он стал сдавать, едва стал нуждаться в уходе, в ней тут же обнаружилась куча недостатков – куда ей было до этого образца женского совершенства, Бесс Рот, которую он возвел на пьедестал рядом со своей матерью. С Лил, едва романтический порыв прошел, он вел себя примерно так же, как с мамой, особенно в конце ее жизни, только еще менее сдержанно.
Приступ ярости на время истощил его силы, вскоре он уронил голову на грудь и уснул. Проснулся он на трассе 684, и тут его гнев направился на водителей и их манеру вести машину. Водитель впереди переместился в другой ряд – он взвился:
– Что он себе думает, этот парень?
Другой пронесся мимо нас слева – он завопил:
– Им что, невдомек, что предельная скорость девяносто километров?
Затем:
– Эти грузовики, чтоб им, всю дорогу забили.
Затем:
– Она еще курит! Нет, ты посмотри, у нее ребенок в машине, а она курит!
– Не волнуйся ты так, – сказал я.
– А теперь новое дело – телефоны в машинах. Хорошенькое изобретение, нечего сказать. Ведут машину и лялякают по телефону! Хорошо бы Ингрид согласилась помогать и Эйбу, – ни с того ни с сего сказал он.
– Что-что? О чем ты?
– Хорошо бы Ингрид согласилась помогать и Эйбу, – повторил он. – Его помощница – ужасная стерва.
С Эйбом, соседом девяноста трех лет, отец, когда позволяла погода, совершал, вернее, пытался совершать ежедневный моцион. Эйб, на вид вполне бодрый старик, ходил на удивление твердо и уверенно для человека его возраста, хотя, отправляясь на прогулку вокруг квартала, они с отцом на всякий случай брались за руки, чтобы, не дай бог, не споткнуться на местных дорожках, цемент на которых пошел трещинами. «Хромые и слепые»[42]42
Евангелие от Луки. 14:21.
[Закрыть] – так иронически называл их парочку отец. Иногда им удавалось дойти по Норт-Брод-стрит до той самой аптеки, иногда они сопровождали друг друга до парикмахерской, а как-то раз, когда я приехал к отцу, они только что возвратились с выборов мэра. Результат выборов был предрешен, сказал отец, но от нечего делать – почему б и не проголосовать. И когда бы, откуда бы они ни возвращались, едва Эйб уходил к себе, отец неизменно говорил:
– Через пять минут он забудет, что мы виделись.
В тот день, когда я приехал сообщить отцу, что у него обнаружили опухоль, сразу после того, как я ошеломил его этой новостью и он забился в угол дивана – обдумать, на что это его обрекает, – позвонил Эйб. Я подошел к телефону – Эйб говорил с подъемом, оживленно.
– Привет, это Герман?
– Нет, Филип, – сказал я.
– Не хочет ли ваш отец прогуляться?
– Нет, Эйб, он хочет поговорить со мной. Может быть, чуть попозже.
Не прошло и десяти минут, как телефон снова зазвонил.
– Не хочет ли ваш отец прогуляться?
– Не сейчас, Эйб, попозже.
Повесив трубку во второй раз, я отключил телефон так же, как в тот вечер перед мамиными похоронами, когда другой сосед, Уилкинс, пытался устрашить отца безумным хохотом.
– По какому номеру можно позвонить Ингрид в Нью-Йорк? Хочу с ней переговорить насчет Эйба.
– Пап, тебе сейчас не до Эйба. Пусть Ингрид пока что поможет тебе.
– Только бы с этого треклятого глаза удалили катаракту!.. Тогда я смогу сам ходить в банк, к зубному врачу, мне никто не будет нужен.
– Не горячись, через пару недель катаракту удалят. Дэвид всех поднял на ноги, чтобы операцию назначили как можно скорее. Иначе зачем бы нам сегодня ехать к нему?
– Когда тетя Милли умерла, мне позвонила Энн, и мы оба проплакали полчаса – каждый на своем конце провода. Рассказывал я тебе или не рассказывал?
Энн – дочь маминой младшей сестры Милли.
– Я полчаса плакал, – сказал он. – И знаешь – я понял, кого я оплакиваю. Маму. Когда она умерла, я бегал вокруг больницы, кричал: «Где моя жена? Вы помогаете или вы не помогаете моей жене?» До того разозлился – даже заплакать не успел. Но когда мне сказали, что Милли умерла, с ней исчезла последняя частица мамы, и я плакал, как ребенок.
Мы уже въезжали в Манхэттен со стороны Уэст-Сайдского шоссе, когда он проснулся в третий раз и смиренно, робко сказал:
– Хорошо бы Ингрид согласилась присматривать за мной до конца.
– Почему бы и нет? – сказал я.
6
О ни шли на бой и потому, что такая их профессия, и потому, что они евреи
Он начал терять равновесие примерно через год, притом разом. Меж тем ему удалили катаракту, зрение в левом глазу полностью восстановилось, и они с Лил уехали, как обычно, провести четыре зимних месяца во Флориде. В декабре они даже съездили в Палм-Бич на свадьбу дочери Сэнди Кьювина; Сэнди пригласил его еще прошлой весной – в ту пору, когда нейрохирург сказал, что, если не сделать операцию, ухудшение наступит в сравнительно недолгое время, в ту самую пору, когда мне казалось, что отцу больше Флориды не видать.
В конце марта, когда он вернулся в Элизабет, я приехал поздравить его с возвращением домой и увидел, что за месяц, прошедший со времени моего визита во Флориду, его состояние заметно ухудшилось. У него почти каждый день болела голова, лицо еще сильнее сковал паралич, отчего он так комкал слова, что понять его было практически невозможно, вдобавок ко всему и походка стала пугающе нетвердой. Через несколько недель после возвращения домой он как-то ночью встал, пошел в ванную, но пошатнулся (или на миг потерял сознание) и рухнул. Он пролежал на полу ванной минут десять, прежде чем от его криков проснулась Лил. Отделался он легко – всего лишь ушибом ребра, но его уверенность в себе была основательно подорвана.
Примерно тогда же один приятель рассказал мне о волеизъявлении – имеющем законную силу документе, который, как он сформулировал, дает возможность заблаговременно отказаться от любой системы поддержания жизни в случае крайней физической немощи или умственной недееспособности, когда надежды выздороветь уже нет. Лицо, подписавшее такое волеизъявление, называет, кого уполномочивает решать, какое лечение применять, буде он или она не способны принять решение самостоятельно. Я позвонил моему адвокату – спросить, имеют ли такие документы законную силу в Нью-Джерси, и, когда она сказала, что имеют, попросил ее составить два таких документа, один для отца, другой – для меня.
На следующей неделе я поехал в Нью-Джерси – пообедать с отцом, Лил и Ингрид: теперь, когда он вернулся домой, она снова вела его хозяйство, начала она у него работать еще в июле прошлого года, сразу после того, как ему удалили катаракту. Я прихватил с собой свое волеизъявление, подписанное и засвидетельствованное этим утром в местной закусочной, и его волеизъявление, составленное моим адвокатом: по этому документу отец передавал право принимать за него медицинские решения, буде он не сможет принять их самостоятельно, нам с братом. Расчет у меня был такой: если показать ему, что и я велел составить такой документ, он расценит его не как зловещее предзнаменование, а как проявление здравого смысла – что-то, чем следует озаботиться любому взрослому человеку, безотносительно возраста и здоровья, – и подпишет.
Однако когда я приехал к нему и увидел, до чего он подавлен падением, оказалось, что сообщить ему об опухоли мозга год назад мне и то было легче, чем завести разговор об этом документе. По правде говоря, я не смог это сделать. Ингрид приготовила обильный обед с индейкой, я привез вино, мы долго сидели за столом, и я не стал объяснять, что это за документ и почему я хочу, чтобы он им обзавелся, а, стараясь отвлечь его от мыслей о смерти, рассказал про книгу, которую только что прочел. Наткнулся я на нее, перебирая несколько дней назад книги в лавке «Иудаика» на Бродвее. Называлась она «Зал славы еврейских боксеров» и состояла из старых архивных фотоснимков и тридцати девяти биографий боксеров – каждому отводилось по главе; среди них было немало чемпионов мира и претендентов на титул, выступавших в годы отцовской молодости. В детстве отец по четвергам водил нас с братом вечерами в ньюаркский Лорел-Гарден, но я интерес к этому виду спорта потерял, отец же по-прежнему с увлечением смотрел бокс по телевизору. Я спросил, скольких, по его мнению, еврейских боксеров он может назвать.
– Ну, – сказал он, – для начала – Эйба Аттела.
– Верно, – сказал я. – Ты еще под стол пешком ходил, когда Аттел был чемпионом в полулегком весе.
– Вот как? А мне казалось, я видел его матчи. Еще, как его там, дай бог памяти, этакий облом… Левински. Задира Левински. Он вышел в чемпионы – ведь так?
– Верно, в полутяжелом весе.
– Ну и, конечно же, Бенни Леонард. Руби Гольдстайн. Он стал судьей.
– Как и Леонард. Леонард упал замертво, когда судил матч на старой арене Сент-Ника. Помнишь этот матч?
– Нет, не помню. А вот Лу Тендлера помню. Он потом открыл ресторан. Я, когда ездил в Филадельфию, ходил туда. Бифштексы там подавали – первый класс. Потрясающие ребята. Все из бедноты, так же как и цветные, которые пробились в боксе. Большинство из них, насколько мне известно, свои денежки профершпилили. Если кто и разбогател, так только Тендлер. Время, когда на ринге первыми были Тендлер, Аттел и Леонард, я хорошо помню. Барни Росс. Вот это был боксер так боксер. У него был матч в Ньюарке – я его видел. И еще Босяк Дейвис – он тоже еврей. Еще помню Бац-бац Макси Розенблума. Конечно, я их помню – как не помнить.
– А ты знаешь, – сказал я, – что Бац-бац Макси дрался с другим евреем за титул чемпиона в полутяжелом весе?
Сам я узнал об этом лишь вчера вечером, проглядывая приложение к «Залу славы», озаглавленное «Матчи на титул чемпиона мира между евреями». Евреев оказалось больше, чем я ожидал, за этим приложением следовало еще одно: «Десять величайших еврейских боксеров Америки (список Лестера Бромберга)».
– Он бился с парнем по имени Эйби Бейн, – сказал я.
– Как же, как же. Эйби Бейн, – сказал отец, – это тот псих ненормальный из Джерси – то ли из Ньюарка, то ли из Хилсайда, словом, из наших мест. Непутевый парень. Да и все они были непутевые. Сам понимаешь: в детстве эти ребята узнали, почем фунт лиха – росли в трущобах, в безденежье, им вечно приходилось от кого-то защищаться. От христиан защищаться. Вести бои на два фронта. И они выходили на бой и потому, что такая их профессия, и потому, что они евреи. На ринге выставляли друг против друга итальянца и еврея, ирландца и еврея, и они бились, да так, чтобы уделать по первое число. Злобились друг на друга не на шутку, это играло не последнюю роль. Надо было – кровь из носу – доказать, чей верх.
Развивая мысль и дальше в этом направлении, отец вспомнил друга своего детства Чарли Раскуса – Раскус, уехав из наших мест, пошел в киллеры к верховоду ньюаркских гангстеров Орясине Цвильману.
– Чарли сызмальства был стервецом, – сказал отец.
– Это почему же? – спросил я.
– Еще в начальной школе привязал учительницу к столу.
– Да ты что?
– Ну. Его выгнали из нашей школы и определили в малокомплектную[43]43
Начальная школа индивидуального обучения.
[Закрыть], а дальше он и вовсе бог знает до чего докатился: убивал по указке Орясины. Та еще шайка-лейка, Чарли и его дружки. И все еврейские ребята – из Третьего и соседних с ним районов. Полячишки убивали бородатых евреев и, слышь, не на прежней родине, а в Третьем районе, вот еврейские ребята и сколотили свою банду, какое-то название ей дали, потом вспомню какое, и стали убивать полячишек. Своими руками убивать. Отребье, настоящее отребье. Мой отец называл их «идише бандюганы.»
– А что сталось с Чарли Раскусом?
– Его нет в живых. Умер. Своей смертью. Не такой уж был и старый. Даже мерзавцы и те умирают, – сказал отец. – Если в смерти и есть что хорошее, так это, что и сукиных детей она не минует.
В половине одиннадцатого, после того как мы узнали из новостной программы, с каким счетом сыграли «Метс», и он вроде бы отвлекся, во всяком случае на время, от мрачных мыслей, я взял волеизъявление, его и мое, – я привез их не без торжественности в старом дипломате, которым почти никогда не пользовался, – и увез обратно в Нью-Йорк: понял – нельзя сталкивать отца лицом к лицу с самой страшной из всех надвигающихся угроз. С него довольно, решил я, и уехал домой, где, не в силах заснуть, скоротал ночь, изучая пятое приложение к «Залу славы»: соотношение выигранных и проигранных матчей примерно пятидесяти евреев чемпионов мира и претендентов на титул, включая нашего джерсийца Эйби Бейна– он выиграл сорок восемь боев (тридцать один нокаутом), проиграл одиннадцать и, как ни странно, ни разу не был нокаутирован.
И тем не менее назавтра с утра пораньше, до того как отец издергается до полного изнеможения, я позвонил ему и приступил к своим маневрам: рассказал, что мой адвокат убедила меня составить волеизъявление, что она объяснила мне принципы, по которым оно действует, что я выразил желание обзавестись им и попросил, раз уж она составила документ для меня, составить такой же и для него. Сказал:
– Давай, я прочту тебе. Слушай.
Мои опасения были напрасны: реакция его оказалась совершенно неожиданной.
Ну как я мог забыть, что ему всю жизнь приходилось напоминать людям о том, о чем им решительно не хотелось помнить? Когда в детстве я по утрам в субботу ходил с ним в контору, он часто повторял:
– Нет ничего, что было бы труднее продать, чем страхование жизни. И знаешь почему? Потому, что тут клиент выигрывает лишь в одном случае – в случае своей смерти.
Отец собаку съел на договорах, связанных со смертью, имел в отличие от меня к ним привычку и, по мере того как я с расстановкой читал ему пункт за пунктом по телефону, реагировал на них так же невозмутимо, как если бы я читал ему текст стереотипного страхового полиса.
– «Способы искусственного поддержания жизни в случае надвигающейся смерти, – читал я, – от которых я отказываюсь, а именно:
а) электроимпульсная терапия и искусственный массаж сердца в случае остановки сердца».
– Угу, – буркнул он.
– «б) парентеральное кормление – это кормление через нос, – в случае, если я буду парализован или не смогу питаться естественным путем».
– Угу, так.
– «в) аппаратное дыхание, если я не смогу дышать самостоятельно».
– Угу.
Я прочел весь документ вплоть до пункта, по которому право принимать решения по медицинским вопросам, в случае его неспособности принимать их самостоятельно, передавалось нам с братом. Затем спросил:
– Что скажешь? Как это тебе?
– Перешли мне этот твой документ, я его подпишу.
Вот и все. И я почувствовал себя не сыном страховщика, а самим страховщиком, который только что продал клиенту свой первый полис, сулящий выигрыш лишь в одном случае – случае его смерти.
В мае, несколько недель спустя, когда мы с Клэр приехали вечером в пятницу пообедать с ним, главным блюдом должен был стать приготовленный Ингрид вкуснющий буйабес[44]44
Суп из разных сортов рыбы, моллюсков и т. п.; готовится с оливковым маслом, помидорами, шафраном.
[Закрыть]; отец это блюдо любил, но произнести его название не смог бы даже под страхом смерти. Для удобства он стал называть его «балабусте» – достаточно близко по звучанию и довольно остроумно, потому что на идише это высочайший комплимент «хорошей хозяйке» или «домоправительнице», и в нем заключалось и то радушие, с которым Ингрид приготовила для нас угощение, и умиротворение, и распорядительность, пришедшие с нею в дом.
Несмотря на то, что отцу теперь приходилось, чтобы не упасть, переходя из комнаты в комнату, держаться за стены и мелко-мелко семенить, присутствие Ингрид в большой мере избавило его от ощущения ущербности, отчего (вопреки моим наивным ожиданиям) он принялся еще больше наскакивать на Лил. Казалось бы, он уже выявил все ее мыслимые и немыслимые недостатки, однако, если речь шла о недостатках Лил, взгляд его, притом что он был слеп на один глаз, приобретал поистине орлиную зоркость.
– Она даже канталупу не умеет выбрать, – однажды утром сказал он мне по телефону с нескрываемой неприязнью, и оттого, что к этому времени мне уже довелось выслушать в общем и целом более чем достаточно о недочетах Лил, я ответил так:
– Послушай, выбрать канталупу – дело непростое, если вдуматься, может быть, нет ничего сложнее, канталупа – это тебе не яблоко, на яблоко только посмотришь и сразу ясно: вкусное оно или нет. Легче выбрать машину, чем канталупу, да что там, дом и то выбрать легче. Если в одном случае из десяти я приношу домой приличную канталупу – считай, мне повезло. Я обнюхиваю канталупу со всех сторон, пробую пальцем с обоих концов, затем обнюхиваю вторую, опять пробую пальцем, прежде чем остановить свой выбор, обследую таким образом восемь, девять, десять канталуп, несу канталупу домой, мы садимся обедать, разрезаем канталупу – и что же: она пресная и твердая как камень. Я тебе так скажу: никто не умеет выбирать канталупу, тут все ошибаются. Очевидно, нам просто не дано правильно выбрать канталупу. Герман, не в службу, а в дружбу, перестань цепляться к Лил: ведь если она не умеет выбрать канталупу – это не ее недостаток, это наш общий недостаток. Вот ты ее коришь, а лишь один процент из ста умеет выбрать канталупу, но и из них пятьдесят процентов, скорее всего, выбирают наобум.
– Видишь ли, – в голосе отца засквозила неуверенность: моя обстоятельность его озадачила, – что канталупа, канталупа – это так, мелочь… – однако больше мне на Лил не жаловался.
В пятницу вечером, когда мы с Клэр приехали в Элизабет пообедать с отцом, Лил, Ингрид, Сетом и Рут, общее внимание, вопреки ожиданиям, сосредоточилось не на буйабесе, а на госте, чье присутствие на обеде оказалось для меня сюрпризом. К моему удивлению, гость, сев вместе с нами за стол, сообщил, что уже пообедал дома с женой. Уж не пригласили ли его, как в средние века приглашали менестрелей или бродячих актеров, чтобы, пока мы едим, он занимал нас, точнее меня, своим рассказом.
Звали его Уолтер Германн, он был узником двух концлагерей, выжил и в 1947-м, владея лишь немецким, приехал в Ньюарк прямым ходом из Освенцима, всего двадцати двух лет от роду, тем не менее ухитрился раздобыть небольшой начальный капитал и купил на пару с партнером бакалейную лавчонку на Ченселлор-авеню неподалеку от моей школы. Затем купил дом, где помещалась его лавчонка, вслед за ним дом по соседству и так далее, и в конце концов в середине пятидесятых перед тем, как недвижимость в Ньюарке резко упала в цене, продал свои немалые владения и переключился на меха – вернулся к семейному делу: до войны у его семьи была в Германии меховая фирма – и неслыханно разбогател. Мой отец завел с ним знакомство в элизабетской «Y»; пока отец еще мог водить машину, он ездил туда раза три-четыре в неделю, и они играли в карты. Отец пригласил Уолтера познакомиться со мной, так как он писал книгу о том, что ему довелось пережить во время войны. Надо сказать, отец не первый раз сводил со мной жаждущих славы авторов. Хоть я и объяснял ему, что решительно ничем не могу помочь человеку, пишущему, скажем, о залогах недвижимости или фондах пенсионного страхования, это его отнюдь не останавливало; тогда он требовал, чтобы я дал ему рабочий телефон моих издателей Аарона Ашера или Дэвида Риффа, с которыми я дружил, и в обход меня связывался с ними напрямик. Несколько лет тому назад рукопись его приятеля о торговле недвижимостью, которую отец отправил Аарону, с успехом опубликовало издательство «Харпер энд Роу», где Аарон тогда работал. Отцу, как рекомендателю, вручили чек, и Аарон накормил нас обедом в манхэттенском ресторане. После этого, как впрочем и до этого, отцу не было удержу.
Пока мы выпивали в гостиной перед обедом – Уолтер преподнес отцу бутылку шампанского, – я вспомнил, что отец упомянул этого своего приятеля несколько недель назад, когда я рассказал ему по телефону, что мои ученики в Хантере[45]45
Хантер-колледж – одно из самых крупных учебных заведений Нью-Йорка; основан в 1870 г.
[Закрыть] закончили читать книгу Тадеуша Боровского[46]46
Тадеуш Боровский (1922–1951) – польский поэт и прозаик.
[Закрыть] «Пожалуйте в газовую камеру» об Освенциме и книгу Гитты Серени «В ту темноту»[47]47
Книга английской журналистки и историка Гитты Серени (р. 1921) о коменданте Треблинки Франце Штангле.
[Закрыть] – о Треблинке. Чему я учу в университете, где профессорствую, отец понимал довольно смутно, время от времени он справлялся, что именно я преподаю, и я пытался ему это растолковать. После того как я рассказал об этих книгах, он сказал:
– У меня в «Y» есть приятель, так вот, он был в Освенциме. Пишет книгу о себе. Поразительный человек.
– Да?
– Как знать, вдруг ты сумеешь ему помочь.
– Мне бы самому себе помочь с изданием книг, больше меня ни на что не хватает.
– Но ты бы мог ему что-то подсказать.
– Пап, ну что я могу ему подсказать? В нашем деле подсказок нет.
– А как насчет Аарона Ашера?
– Что насчет Аарона Ашера?
– Он опять перешел в другое издательство? Или работает там же?
– Там же, в «Гроув».
– Повтори-ка его номер.
– Ну а этот твой приятель, он хотя бы дописал книгу?
– Я же тебе говорил – он над ней работает.