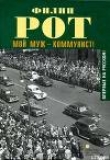Текст книги "По наследству. Подлинная история"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Больше всего меня потрясла примитивность отца. Когда он, уединившись в спальне, опрастывал ящики ее комода и шкафа, казалось, на это его толкнул инстинкт, наверное, вполне естественный в диком звере или туземце, однако вопиюще противоречащий любому из погребальных обрядов, которые цивилизованное общество выработало с целью смягчить чувство потери у людей, переживающих утрату своих близких. При всем при том было нечто чуть ли не достойное восхищения в этой беспощадной трезвой решимости немедля признать, что отныне он старик и его удел – коротать остаток дней в одиночестве, так что никакие реликвии ни в коей мере не заменят подругу из плоти и крови, с которой прожито пятьдесят пять лет. Мне показалось, он решил, не мешкая, освободить квартиру от ее вещей, похоронить и их не потому, что опасался их призрачной власти, а потому, что не считал возможным уклониться от того, страшнее чего нет.
Ни разу в жизни, насколько я знаю, он не пытался уйти от удара, каким бы сокрушительным тот ни был, и все же, как мне стало позже известно, когда мама умерла, он бежал от покойницы. Случилось это не в ресторане, где она умерла, а в больнице, где признали, что она умерла, лишь после того как врачам «скорой помощи» не удалось вернуть ее к жизни по пути из ресторана в реанимацию. В больнице носилки с ее телом поставили в отдельную палату, и когда отец – он следовал за «скорой» на своей машине – вошел в палату посмотреть на нее, видеть то, что он увидел, оказалось выше его сил, и он бежал. Прошел не один месяц, прежде чем он заставил себя об этом рассказать, а когда заставил, то рассказал не мне, не брату, а Клэр – женщине, она могла по-женски отпустить ему грех, а без этого ему было не избыть стыда.
Сам он был не способен объяснить, почему сбежал, но я задавался вопросом – не потому ли он сбежал, что до него дошло: в ее смерти есть и его вина, ведь в то утро, хотя ей это было не под силу, он принудил ее совершить долгую прогулку. Она уже некоторое время страдала жесточайшей одышкой и – от меня это утаили – стенокардией; а прошлой зимой ее долго мучил артрит, что и вовсе ее подкосило. Ту зиму она практически провела в кресле, однако в день, когда она умерла, стоял погожий май, она наконец-то выбралась из дому – размять ноги, и они с отцом прошли три, причем очень длинных, квартала до аптеки, а потом – на этом настоял отец, утверждая, что такая прогулка пойдет ей на пользу, – вернулись домой пешком. Как говорила тетя Милли – мама позвонила ей перед тем, как идти в ресторан, – к тому времени, когда они дошли до аптеки, мама уже совершенно выдохлась. «Я думала, мне не вернуться домой», – доложила она тетке, но, вместо того чтобы остановить такси или подождать автобус, они недолго передохнули на ближайшей скамейке, и отец двинул ее в обратный путь.
– Ты же знаешь своего отца, – сказала тетка. – Он сказал, что она справится.
Остаток дня мама пролежала, стараясь набраться сил, чтобы пойти на ужин. Случилось так, что примерно за час до того, как они отправились на прогулку, я по заведенному обычаю позвонил им из Англии и в шутку сказал маме: когда они с отцом приедут этим летом ко мне, мы с ней, я уверен, пройдем километра два, не меньше, по деревенской дороге, пролегающей мимо моего дома. На что она ответила:
– Как тебе сказать, сынок, два километра мне вряд ли пройти, но попытаться попытаюсь.
В первый раз за многие месяцы голос ее звучал весело, бодро, и, не исключаю, в тот день она отправилась на прогулку в надежде подготовиться к нашей летней вылазке.
К слову сказать, когда на следующий же день я вернулся в Америку и приехал прямиком из аэропорта Кеннеди в Элизабет на такси, отец встретил меня словами:
– Вот так вот, Фил, ей уже с тобой не погулять.
Он сидел в мамином шезлонге – одряхлевший, лицо изможденное, убитое. Я тогда подумал (и, как оказалось впоследствии, не ошибся): «Вот так он будет выглядеть на смертном одре». Мой брат Сэнди и его жена Хелен приехали накануне из Чикаго и, когда я добрался до Элизабета, были уже у отца. Сэнди успел сходить в похоронную контору и назначить похороны на следующий день. Перед тем как Сэнди идти в контору, отец позвонил старику-директору конторы – мама училась с ним в Элизабетской средней школе в конце первой мировой войны. Заливаясь слезами, отец сказал ему: «Хиггинс, проследи, чтобы ее обрядили как надо, проследи, чтобы ее хорошо обрядили», – а потом весь день проплакал навзрыд в том самом шезлонге, где мама устраивалась после ужина, стараясь лечь так, чтобы ее меньше мучил артрит, пока они вместе смотрят телевизор.
– Она заказала суп-пюре из моллюсков по-новоанглийски, – сказал отец, когда я, как был в пальто, опустился у шезлонга на колени и взял его за руку, – а я по-манхэттенски. Когда суп принесли, она сказала: «Что-то мне расхотелось его есть». Я сказал: «Ешь мой, давай поменяемся», но она умерла. Просто подалась вперед. Даже не упала. Чтобы никому не причинить никаких неудобств. Как всегда.
Снова и снова отец рассказывал мне, как до предела прозаично протекала одна секунда за другой перед ее гибелью, а я тем временем думал: «Что же нам делать со стариком?» Случись так, что из этой престарелой четы первым умер бы отец, а не мама, мы бы знали, как о ней позаботиться, к тому же это было бы вполне естественно: именно она была хранительницей прошлого нашей семьи, летописцем нашего детства и зрелости и, как я теперь понял, именно она, ее несуетная энергия, скрепляла семью после того, как мы с братом – а это было не один десяток лет тому назад – уехали из дома. Отец был человеком более трудным, менее обаятельным, да и менее уживчивым; он неукоснительно отвергал с порога, и, по правде говоря, ни в малой мере не задумываясь, мнения, хоть отчасти расходящиеся с предубеждениями, которыми руководствовался. И тем не менее, пока я стоял на коленях и держал его за руку, мне стало ясно, как он нуждается в нашей помощи; неясно было одно – как пробиться к нему.
Своим безумным упрямством – упрямым безумием – он едва не довел маму до нервного расстройства в ее последние годы: после того как в шестьдесят три он ушел на пенсию, ее, некогда увлеченную, самостоятельную домоправительницу, чуть не полностью подавил его мелочный, гнетущий деспотизм. Долгие годы он свято верил, что его жена – само совершенство, и все эти годы не слишком ошибался: мама была из тех рьяных дочерей еврейских иммигрантов, которые подняли домашнее хозяйство в Америке на уровень искусства. (Не вздумайте рассказывать кому-нибудь из членов нашей семьи об уборке– нам досконально известно, что такое настоящая уборка.) Ну а потом отец ушел на пенсию – он работал в одном из крупных отделений «Метрополитен лайф» в Южном Джерси, где управлял штатом из пятидесяти двух сотрудников, – и умело, четко определенные границы обязанностей каждого из них, так способствовавшие успеху брака, постепенно начали стираться – и кем: конечно же им. Ему нечем было себя занять, она была очень занята, а куда ж это годится?
– Знаешь, кто я такой? – грустно поделился он со мной, когда ему исполнилось шестьдесят пять. – Муж Бесси.
А ни по характеру, ни по жизненному опыту всего лишь мужем Бесси быть он не мог. Итак, после года-двух добровольческой службы в ист-оринджском ветеранском госпитале, в организациях «Еврейской взаимопомощи», в Красном Кресте, и поработав – вот до чего дошло – подручным у приятеля, владельца скобяной лавки, он стал начальником Бесси и на этом успокоился, однако мама – так уж сложилось – в начальнике не нуждалась, она была сама себе начальником с тех самых пор, как в 1927 году – тогда родился мой брат – основала совершенно самостоятельно высококлассную компанию по домоправлению и взращиванию детей.
В последнее мамино лето они приехали к нам в Коннектикут на уик-энд, и, когда мы с ней, оставшись одни, пили чай на кухне, она объявила, что подумывает о разводе. Услышав от мамы слово «развод», я был так же ошеломлен, как если бы она грязно выругалась. Впрочем, сокрытые от всех сложные сопряжения совместной жизни отца и матери, трудности, разочарования, преодоление кризисов и впрямь остаются тайной, притом навек, в особенности, наверное, если растешь примерным мальчиком – и одновременно примерной девочкой – в крепкой семье с налаженным бытом. Мало кто осознавал, что мы, сыночки, которых вскармливали грудью и над которыми агукали матери, столь же поднаторевшие, как моя мать, в искусстве взращивания и домоправления, росли также и примерными девочками. Весь долгий и самый восприимчивый период мужчина, которого целый день нет дома, – куда более далекая и мифическая фигура, чем вполне осязаемая женщина необычайной сноровки, крепко-накрепко привязанная – в те годы, когда я рос, – к вкусно пахнущей кухне, где власть ее неограниченна, а авторитет непререкаем.
– Мам, ну подумай сама, – сказал я, – не поздно ли разводиться? Тебе семьдесят шесть.
Но она плакала, притом навзрыд. Это тоже меня ошарашило.
– О чем бы я ни говорила, он не слушает, – сказала она. – Вечно прерывает и заводит речь о чем-то другом. А когда мы куда-нибудь идем, ведет себя и того хуже. Не дает и слова сказать. Сразу затыкает мне рот. При чужих. Совершенно со мной не считается.
– Скажи ему, чтобы он так не поступал, – посоветовал я.
– Это ничего не изменит.
– В таком случае, повтори и, если и на этот раз не подействует, встань и скажи: «Я иду домой». И уйди.
– Ну что ты, сынок, я так не могу. Нет. Я не могу так его оконфузить. На людях.
– Ты же говоришь, что он тебя конфузит. На людях.
– Это совсем другое дело. Мы с ним разные. Ему не снести такой обиды, Филип. Он сломается. Его это убьет.
Через три месяца после ее смерти, в августе 1981 года, я приехал из Коннектикута, чтобы отвезти отца в «Плазу» – жилой комплекс Еврейской федерации в Уэст-Ориндже: мы собирались посмотреть там квартиры для пенсионеров и престарелых. Поселиться в этом комплексе отцу присоветовал старинный приятель моего брата, адвокат из Нью-Джерси, член совета директоров Федерации. Он сказал, что поможет отцу получить – если тот захочет – квартиру в «Плазе» без проволочек. Обитатели «Плазы» жили отдельно в двух– и трехкомнатных собственных квартирах, но при этом в тесном общении: каждый, без исключения, вечер сходились на ужин в столовую – ужин им готовили – и имели свободный доступ во всевозможные кружки в «Y»[9]9
«Y» (Ассоциация молодых иудеев и иудеек) – еврейская неполитическая организация, объединяющая свыше двухсот местных отделений и оказывающая помощь пожилым гражданам, причем не только иудеям.
[Закрыть] по соседству. Уэст-Ориндж по-прежнему оставался одним из самых приятных ньюаркских пригородов, а «Плаза», судя по описаниям, располагалась на зеленом склоне с видом на оживленную улицу всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра и от синагоги Б'най Абрахам, которую, как и «Y», перевели из хиреющего Ньюарка, и теперь она служила старикам не только синагогой, но и культурным центром. В общем, мне показалось, что в «Плазе» отец не будет испытывать недостатка в общении, и я надеялся, что, осмотрев «Плазу», он, глядишь, и переберется туда. Если же он и дальше будет торчать один как перст в своей элизабетской квартире, то, не ровен час, в самом прямом смысле умрет от тоски. Питался он, даже когда садился за стол и ел, преимущественно вареными сосисками и консервированными бобами, и, если я звонил ему посреди дня, нередко оказывалось, что он или спит, или льет слезы.
Заехав за ним в тот день, я понял, что он сидел в одиночестве и плакал. Не исключено, что он плакал с тех самых пор, как проснулся; и не исключено, что проплакал всю ночь напролет. Он провел несколько недель у нас в Коннектикуте – сначала в июне, потом в июле, и мне показалось, что он справился с самыми острыми приступами тоски, но, оставшись в квартире один, без мамы, снова загоревал, и горе его было безутешным. Стоял прелестный августовский денек, но он сидел в комнате с опущенными шторами, не зажигая света. Я заметил, что, хотя одежда на нем чистая, одет он нелепо – можно подумать, проснувшись, он напялил на себя первое, что подвернулось под руку. Я спросил, что он ел на завтрак, и он ответил:
– Ничего не ел. Что-то ел. Не помню.
– Я привез тебе подарок. – Включил свет и показал ему пластиковый пакет. – Тебе всегда хотелось это иметь. Закрой глаза.
К моему удивлению, он послушно, как ребенок в ожидании подарка, закрыл глаза, но на лице его не появилось и тени улыбки.
– Смотри, – я вынул из пакета ерш для уборной и бутылку лизола, купленные три часа назад в коннектикутском универмаге. Купил я также и пузырек двухмиллиграммовых таблеток валиума. Мне хотелось отучить его от пятимиллиграммовых таблеток, которые я же ему и привез: после смерти мамы он мучился бессонницей. – Ну же, – сказал я. – Я научу тебя одной штуке – в твоей школе на Тринадцатой авеню тебя такому не учили.
Он прошел вслед за мной в ванную, где на проволочных плечиках сушились огромные трусы, и я показал ему, как драить унитаз.
– Если уж ты во что бы то ни стало решил обходиться без уборщицы… – начал было я, но он резко оборвал меня.
– Я что, буду платить уборщице, раз отлично справляюсь сам? Я проснулся в пять и принялся пылесосить. Когда мама умерла, я обещал, себе обещал, что здесь будет такой же порядок, как при ней. – На этих словах он снова расплакался.
В гостиной я дал ему пузырек с двухмиллиграммовыми таблетками валиума и сказал, чтобы в случае бессонницы он принимал по одной такой таблетке, а все другие спустил в унитаз. Он сразу согласился, хотя прежде становился на дыбы, даже если ему предлагали принять аспирин. Однако когда я напомнил, что в час нам надо быть в «Плазе», он заартачился. Сказал – и вполне категорично, – что ему это ни к чему.
– Какого черта, – сказал он. – Мне и здесь хорошо. У меня все хорошо.
– Неужели?
– Какого черта, Фил… Не хочу я туда ехать.
– Послушай, ты же сам понимаешь: куда это годится? Не положено так. Сделай одолжение, поступай со мной не как с родственником, а так, будто ты все еще менеджер страховой компании. Если бы к тебе в «Метрополитен» пришел человек и предложил что-то, по его мнению, полезное для компании, ты по меньшей мере выслушал бы его. Сел бы поудобнее, дал бы ему изложить свое предложение, потом обдумал бы его и сообщил, к какому решению пришел. И уж точно не сказал бы «Какого черта» и не заткнул бы ему рот, раз уж сам его пригласил. Что я тебе предлагаю: всего-навсего поехать посмотреть на «Плазу», как мы с тобой неделю назад и договорились. Это не интернат и не дом престарелых – ничего подобного, это новый жилой комплекс, люди спят и видят, как бы туда попасть, подолгу ждут своей очереди, и устроен он так, чтобы жильцам было удобно, было с кем пообщаться – с мужчинами, с женщинами, людьми своего круга. Может статься, тебе это подойдет, может статься, не подойдет, но, если ты будешь упираться, нам этого не узнать. Прошу, веди себя, как менеджер страховой компании, а не так – не стану говорить, как ты себя ведешь, – и не исключено, мы к чему-то и придем.
Мои слова не только сработали, они сработали как нельзя лучше.
– Ладно, – отец был полон решимости – прямо-таки сорвался с дивана. – Пошли.
Не припомню, чтобы хоть раз в жизни мне удалось уломать отца сделать что-то, чего он не хотел. По-моему, прежде я даже и не предпринимал попыток уломать его, понимая, насколько это несбыточно.
– Так-то лучше, – сказал я. – Только не переменил бы ты для начала носки. Они разного цвета. И я не уверен, что полосатая рубашка подходит к клетчатым брюкам. Наверное, не мешало бы переодеть либо рубашку, либо брюки.
– Господи Боже, – сказал он, оглядывая себя. – Что это со мной?
Хотя «Плаза», как и описывалось в проспекте, располагалась на красивой лужайке на верху склона с видом на Нортфилд-авеню, сам комплекс, вопреки моим ожиданиям, оказался не таким уж уютным и приветливым. Построен он был совсем недавно, содержался в образцовом порядке, однако выглядел скорее как учреждение, чем как жилой дом, – являл собою нечто среднее между спальным корпусом колледжа и нестрого охраняемой тюрьмой. Предполагалось, что мы зайдем к тамошней жилице, даме по имени Изабел Берковиц: она вызвалась показать нам «Плазу». Нам сообщили номер ее квартиры, но, так как в ведущих к «Плазе» тропках можно было запутаться, я остановил двух увлеченных разговором старушек на центральной, спускающейся к Нортфилд-авеню дорожке и спросил: не могли бы они сказать, как найти Изабел Берковиц.
– Так и моя фамилия Берковиц, – сказала одна из них.
Она говорила с идишским акцентом, и это – вкупе с платьем и манерами – делало ее куда ближе к моему деду и бабке, чем к моим родителям и их друзьям. Отца, очевидно, посетила та же мысль: он не то, что здешние старики, более того, он вообще не отсюда.
– Я Берковиц, но не та, – жизнерадостно оповестила нас она.
– Берковиц – откуда? – спросил отец.
– Как откуда? Из Ньюарка, конечно.
Я и глазом не успел моргнуть, а папа уже выяснил, что знал ее покойного мужа – тот владел Центральным канцелярским магазином на Сентрал-авеню – и что миссис Берковиц знала брата его друга Фейнера и т. д.
Дома он был угрюмым, раздражительным, по дороге в Уэст-Ориндж – замкнутым, суровым, но стоило ему встретить кого-то, кто знал его ньюаркских знакомых, вмиг повеселел, забылся – стал разговорчивым, оживленным, компанейским, то есть тем предприимчивым служащим страховой компании, который за годы работы страховым агентом и помощником менеджера перезнакомился чуть не со всеми еврейскими семьями в Ньюарке.
Забыв не только о своих горестях, но и о том, что нас сюда привело, он перечислил миссис Берковиц всех владельцев введений, граничивших с магазином ее мужа на Сентрал-веню лет сорок назад.
Я стоял, ждал, пока отец демонстрировал свою замечательную память, когда же он кончил, снова попросил старушку объяснить, как пройти к миссис Берковиц. Оказалось, что объяснить она не может. Она начала объяснять, но сбилась – ей не удавалось сосредоточиться.
– Слушайте, – сказала она после того, как безуспешно попыталась собраться с мыслями. – Голова моя садовая, лучше я покажу вам, где она живет.
Другая женщина за все время, пока они вели нас к двери в коридор, где помещалась квартира Изабел Берковиц, не произнесла ни слова, и я понял, что она перенесла инсульт. Отец тоже это заметил, и мне, хоть он и молчал, снова послышалось, как он утверждает: я не то, что здешние старики. «Все так, – думал я, – но, учитывая, что ты за старик, одиночества тебе не перенести».
Искомая миссис Берковиц оказалась – и у меня отлегло от сердца – сметливой, живой, привлекательной женщиной, к тому же она выглядела лет на десять моложе своих семидесяти. Ее двухкомнатную квартиру, правда, несколько тесноватую, заливало солнце, на стенах висели небольшие картины, которые она собирала всю жизнь. Одну из них – яркий натюрморт – написала она сама, его окружали ее вышивки в рамочках. Она, похоже, нам обрадовалась, тут же предложила выпить чего-нибудь прохладительного и, когда она минут через пять ненадолго нас оставила, отец повернулся ко мне и сказал:
– Чудо что за дамочка!
Хотя Изабел – она начала работать медсестрой в Бруклине, а закончила администратором системы государственного здравоохранения в Нью-Йорке – была чуть более светской, чем мама, но смесью доброжелательности и живости, добродушия и любезности очень напоминала маму в годы моего детства и отрочества. Наверное, из-за этого сходства отец и выпалил – мы ждали в коридоре, пока Изабел закрывала квартиру, чтобы повести нас осматривать «Плазу», – так, словно все его беды остались позади:
– До чего ж она мне нравится! Она – прелесть!
Изабел рассказала, что переехала сюда в октябре, когда «Плаза» только открылась, до сих пор все еще «акклиматизируется» и дается ей это нелегко. Уж очень здешняя жизнь непохожа на ее прежнюю. У них с покойным мужем – энергичным, пробившимся из низов человеком, чья биография не слишком отличалась от отцовской, – была в Джерси-сити просторная квартира с видом на статую Свободы. Тем не менее она от нее отказалась и переехала в «Плазу»: в последнее время стала прихварывать и решила поселиться поближе к Берковицам.
Отец ошарашил меня, сказав:
– Да, да, прекрасная семья.
До этого он не подавал виду, что знает Изабел так же, как и родственников другой миссис Берковиц. Впрочем, не исключено, что он всего-навсего старался расположить к себе женщину, к которой, судя по всему, его повлекло с такой безудержной силой, что я только диву давался.
Когда мы шли по коридору, Изабел Берковиц сказала:
– Так вы и есть Филип Рот. Я хочу вас поблагодарить: вы доставили мне столько веселых минут, – и, повернувшись к отцу, добавила: – Да уж, чувства юмора вашему сыну не занимать стать.
– Все анекдоты я позаимствовал у него, – сказал я.
– Вот как? – она улыбнулась и сказала отцу: – Герман, расскажите какой-нибудь анекдот.
Вернее подхода к нему нельзя было найти.
– Знаете этот анекдот: два еврея… А вот этот: просыпается парень поутру… А вот этот: захворал парень во Флориде…
Давным-давно я не видел его таким воодушевленным, ну а уж после смерти мамы и подавно. Он до того увлекся, выкладывая свой запас еврейских анекдотов, что практически не смотрел на те удобства, которые «Плаза» предоставляла своим жильцам. Мы прошли столовую – просторный чистый зал, схожий со школьным буфетом, подсмотрели через открытую дверь, как в кухне, где и утварь, и оборудование сверкали, грузная чернокожая женщина нарезала за длинным столом треугольничками латук для салата к обеду на несколько сот человек; перешли из «Плазы» в «Y», заглянули в комнаты для кружковых занятий, где шла карточная игра; я не терял надежды, что отец заинтересуется, хотя бы из любопытства, жизнью «Плазы» и увидит в ней, не сейчас, так в будущем, способ уйти от одиночества, но его занимала исключительно Изабел: он потчевал ее рассказами – чуть не все их я слышал не раз – о своем детстве в иммигрантском Ньюарке.
В «Y» шли занятия дневного детского лагеря, и мы заглянули в гимнастический зал – там на полу сидело человек тридцать ребятишек, а двое руководителей кружков объясняли им условия новой игры.
– Ну не прелесть ли наши еврейские ребятишки? – сказала Изабел; однако ее усилия переключить внимание отца на то, что у него под носом, успеха не возымели – на детей отец и не посмотрел, он продолжал свой рассказ о Ньюарке 1912 года.
Оторвался он от воспоминаний – и то ненадолго – лишь в конторе директора «Y», где изложил директору и его помощнику свои претензии к директору элизабетского «Y», куда регулярно ходил несколько раз в неделю по утрам: элизабетский директор никуда не годится – ни разу не пришел в оздоровительный клуб поговорить с нами, понятия не имеет, что у нас и как; словом, выложил без обиняков, что он с этим типом не в ладах:
– Да чихал я на него. Я организовал нашу группу альте кокеров[10]10
Старые засранцы (идиш).
[Закрыть] – «Ребятишки Рота», и мы обходимся без него и отлично обходимся. Пошел он куда подальше.
– Именно такой человек, как вы, нам нужен, – сказал директор, но отец пропустил этот намек мимо ушей.
Выйдя из кабинета директора, мы столкнулись в коридоре с Блейбергом, президентом общественного совета «Плазы», человеком лет семидесяти пяти, страдающим рассеянным склерозом. Изабел познакомила нас.
– Блейберг, Блейберг, я вас помню, Блейберг, – сказал ему отец. – Вы – ювелир с Грин-стрит.
У Блейберга и впрямь был ювелирный магазин на ньюаркской Грин-стрит.
– Как вам здесь живется, мистер Блейберг? – спросил я.
– Прекрасно, – сказал Блейберг.
Отец тем временем говорил:
– Ну как же, Грин-стрит. Сейчас я вам скажу, какие еще магазины были на Грин-стрит – и перечислил их все до одного.
Позже, когда мы уже сидели в машине, я предложил отцу поехать посмотреть на торговый центр – там имелись и книжный магазин, и банк, и кафе, куда, как сказала нам Изабел, жильцы «Плазы» иногда ходили обедать. Ну а потом, сказал я, можно посмотреть Б'най Абрахам.
– Чего там смотреть, – сказал отец.
– Разве ты не хочешь посмотреть синагогу? В Элизабете ты же ходишь по пятницам на вечерние службы.
– Поехали домой.
– Ну и что скажешь? – спросил я, развернулся и поехал по Нортфилд-авеню прочь от торгового центра и синагоги.
– Ничего.
– Так-таки ничего?
– Это не для меня.
– Что ж, может, ты и прав. Впрочем, ведь это лишь первое впечатление. Подождем, пока оно отстоится. Надеюсь, ты воспользуешься приглашением Изабел.
Когда мы уезжали, Изабел предложила отцу через два-три дня приехать – они сходят в «Y»: там два раза в неделю показывают фильмы.
– Попкорн беру на себя, – сказала она с чарующей улыбкой.
Тогда такая перспектива, похоже, показалась отцу соблазнительной, он записал номер ее телефона и обещал позвонить, но сейчас говорил со мной так, словно она предложила нечто несусветное:
– Ты что, ехать бог знает в какую даль, чтобы посмотреть кино?
Он выронил расписание мероприятий в «Y» на август и сентябрь, которое дал ему директор, и, когда мы приехали в Элизабет, даже не потрудился его подобрать. По правде говоря, не подобрал его и я. В квартире я поднял шторы на окнах, чтобы впустить солнце, пока он в ванной. Шум падающей в унитаз струи не мог заглушить его причитаний:
– Мама, мама, где ты, мама?
Первую зиму после того, как отец овдовел, он провел к северу от Майами-Бич в Бал-Харборе – делил со своим старым другом Биллом Вебером его квартиру в жилищном товариществе. В мои детские годы Билл и его покойная жена Лия жили неподалеку от нашей квартиры на Лесли-стрит – в Ирвингтоне[11]11
Ирвингтон – город на северо-востоке штата Нью-Джерси.
[Закрыть], прямо за ньюаркской магистралью. В начале сороковых Веберы со своим младшим сыном Герби, ровесником моего брата, снимали летом небольшой коттедж на берегу вместе с нами и еще двумя семьями – все это были друзья моих родителей еще с довоенных времен. Билл ставил масляные радиаторы и обслуживал их – пожалуй, он единственный из близких друзей нашей семьи был не продавцом, не владельцем магазина, а квалифицированным рабочим и приходил с работы в грязной спецовке. В Первую мировую войну Билл, совсем еще молодой, служил в морской пехоте, службу проходил в Гуантанамо на Кубе, играл на трубе в оркестре морских пехотинцев, теперь же, в восемьдесят с гаком, слух у него ослабел, но в остальном он ничуть не сдал, так вот, Билл утверждал, что мелодии, которые он играл, звучат у него в голове.
– Быть того не может, – обрывал его отец.
– Герман, я их слышу, слышу и сейчас, – не отступался Билл.
– Не можешь ты их слышать.
– Могу. Все равно как если бы у меня в голове играло радио.
Я прилетел из Лондона во Флориду навестить отца, мы втроем сидели в их кухоньке, ели бутерброды с копченой колбасой, которые отец приготовил нам на обед.
– Что именно ты слышишь? – спросил я.
– Сегодня? Гимн морской пехоты, – сказал он и завел: – «От чертогов Монтесумы…»[12]12
«От чертогов Монтесумы / До берегов Триполи / Мы воюем за нашу страну / Как на суше, так и на море». Автор текста неизвестен.
[Закрыть]
– Тебе это чудится, – упирался на своем отец.
– Герман, я это слышу так, как Филип сидит у нас на кухне.
К отцу за те месяцы, что он провел во Флориде, вернулись, как мне казалось, прежние энергия и задор, он поразительно помолодел, несколько лет назад ему удалили среднюю треть желудка, в результате у него вырос живот, во всем же прочем он для своего возраста выглядел отлично: подтянутый, среднего роста мужчина, чье естественное, непритязательное мужское обаяние и незанудливая добропорядочность покоряли окрестных вдовушек. В молодости мощная мускулатура его рук, груди впечатляла, верхняя часть торса свидетельствовала о былой силе, особенно теперь, когда он взбодрился. Хотя отец, случалось, и резал правду-матку и не давал никому из собеседников и слова сказать, кляня ненавистных ему республиканцев, при всем при том внешность он имел приятную, а его здравость и прямота очаровывали чуть не всех. Обладай он досугом, наклонностью к тому или необходимостью, он мог бы стать импозантным – в неброском варианте, но в тех областях, где он вел свои бои, «импозантность» не поставили бы ему в плюс, и он с незапамятных времен счел за благо удовлетвориться внешностью того типа, которая вызывала не зависть или восхищение, а доверие. К нынешнему времени волосы его, конечно же, поредели и почти сплошь поседели, а лицо, хотя морщин у него практически не было, обмякло, брылы – наша фамильная черта – отвисли, уши, похоже, чуть оттянулись. Лишь глаза остались по-настоящему красивыми, но это было заметно, только если оказаться рядом, когда он снимает очки. Тогда видно было, что они серые да еще с прозеленью; вблизи также было видно, что они добрые и безмятежные, – можно подумать, лишь их одних с 1901 года не затронула бурная деятельность этой топорной, несовершенной, домодельной динамо-машины, чья неуклонная энергия помогала отцу преодолевать все и всяческие – а сколько же их было на его пути! – препоны.
Во Флориде он пришел в себя, по всей вероятности в немалой степени потому, что Билл Вебер оказался чем-то схож с мамой – добродушный, ровного нрава, миролюбивый партнер, чьи ошибки и промахи он мог без конца искоренять. Я приехал в Бал-Харбор как раз в тот момент, когда отец учил Билла Вебера жить. Выйдя на их этаже из лифта, я увидел, что шагах в двадцати впереди меня по коридору идут отец с Биллом Вебером. Я не окликнул их, а молча пошел следом – слушал, как отец корит Билла за то, что тот бирюк бирюком.
– Пригласи ее в кино, пригласи на обед – не торчи дома из вечера в вечер.
– Не хочу я никого приглашать, Герман. Не хочу никого никуда приглашать.
– Ты ведешь себя антиобщественно.
– Раз ты так это называешь, пусть будет так.
– Ты стал бирюком.
– Пусть.
– Ничего не пусть. Нельзя сторониться людей. Тут много женщин, они томятся от одиночества. Я не говорю о женщинах с закидонами. И не все они хотят заполучить тебя навечно. Не все хотят запустить в тебя когти.
– На что мне женщины, Герман? На что я им? Мне, Герман, восемьдесят шесть.
– Ты это брось, не о том речь. А о том, чтобы с кем-то пообедать, пообщаться с людьми как человек.
– У тебя это получается, Герман. У меня – нет. Я лучше посижу дома.
– Не понимаю я тебя, Билл. Не понимаю, почему ты так противишься всему, что бы я ни предложил, – ведь я стараюсь тебе помочь.
В тот вечер, когда я приехал, четверо жильцов комплекса собирались дать концерт – они еще в начале сезона составили камерный ансамбль. Пожилой скрипач, выходец из России, глава ансамбля, учился в Вене, как сказали люди, с которыми отец познакомил меня утром в бассейне. Они же сказали, что, если я люблю музыку, мне следует прийти на концерт: он состоится после еженедельного собрания клуба встреч Галахад-холла – на него придут все ходячие жильцы Галахад-холла и кое-кто из тех, кто передвигается в инвалидных колясках и ходунках в сопровождении сиделок. У них что ни неделя то эстрадный концерт, то демонстрация слайдов, то лекция, потом угощение, и они уверены, что я хорошо проведу время.