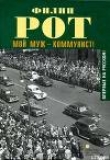Текст книги "По наследству. Подлинная история"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
– Значит, они выиграли серию.
– Да, выиграли.
– И как «Метс» удалось забить три хоумрана?
– А все Дикстра. Этот парень – это что-то. После того как Мороско выдал три хоумрана в шестнадцатом иннинге, Эрнандес вышел на горку – я только что в газете прочел, – и знаешь, что он сказал? Еще один такой запулишь – убью.
– Ну это вряд ли.
– А я бы его убил, – рассмеялся отец, и голос у него был такой бодрый, точно весной он только прикидывался, что болен, и намерен прожить еще тысячу лет.
Передышка длилась около суток. Затем опухоль мозга снова дала о себе знать.
В следующие полтора месяца ничего не случалось и не предпринималось – ни один из нас не представлял себе, что именно следует предпринять. Так как первый нейрохирург сказал, что облучение на опухоль не подействует, а второй, что шансы невелики, нам стало казаться, что вряд ли стоит брать у отца биопсию, в особенности учитывая – а я навел справки, – что процедура эта крайне болезненная и небезопасная: ведь иглу вводят вслепую. И если биопсия приведет нас к тому, чего мы и так опасались, то есть к операции, после которой не исключено, что отцу станет не лучше, а хуже, – чего ради ее делать?
Спустя несколько дней после консультации доктор Бенджамин на месяц с лишним уехал в Европу читать лекции, возвратиться он предполагал только 20 июня, и обсудить с ним свои сомнения до этого я никоим образом не мог, что еще больше усложнило наше положение. Бенджамин назвал врача, которому готов доверить биопсию, и, хотя отец еще раз съездил в Нью-Йорк к этому врачу – в тот раз его сопровождал брат: он прилетел на неделю из Чикаго побыть с отцом и ненадолго сменить меня, – все мы чувствовали, что не решимся на биопсию до возвращения доктора Бенджамина, если вообще решимся, так как накопилось слишком много вопросов, ответа на которые мы не знаем.
Отец был не способен принять решение самостоятельно. С обоими нейрохирургами он держался мужественно, но разрывался между их разноречивыми мнениями – и потерял голову. Нес какую-то бессмыслицу, потом надолго замолкал или ни с того ни с сего в таком бешенстве набрасывался на Лил, что потом сам себе поражался и кротко просил у нее прощения. Просить прощения у Лил – оно было бы и неплохо, если бы это говорило не так о раскаянии, как об упадке духа. Он твердил мне, брату, всем, что ему не нужна ни биопсия, ни операция никаким доступом – ни через затылок, ни через нёбо, а хочет он того, чего хотел с самого начала: видеть, что ест, читать газету и, как он выражался, «держаться на плаву». И чего бы им не удалить катаракту на здоровом глазу и не вернуть ему зрение? Однажды, придя к нему пообедать, я прочитал черновик его письма офтальмологу – он забыл его на столе: «Дорогой доктор Крон, я хочу снова видеть. Хочу, чтобы мой глаз привели в порядок. Вот, чего я хочу. Герман Рот».
Конечно же, пока время шло и отец, сникший, потерявшийся, болтался между небом и землей, меня не оставляла мысль: ведь доктор Мейерсон – отнюдь, как я понимал, не дурак, – предупредил нас: если ничего не предпринять, ухудшение наступит в «в сравнительно недолгом времени». Мейерсон сказал, что собирается удалить опухоль через затылок, и операция займет восемь-десять часов, Бенджамин сказал, что удалит опухоль через нёбо – оттуда, куда вводили иглу для биопсии, – и извлекать ее будут часов тринадцать-четырнадцать, отец же говорил, что его страшат оба варианта, и он и помыслить не может ни об одном из них.
– Я хочу только, чтобы мне вернули зрение. Хочу видеть.
Не в силах заснуть, я думал: «Прислушайся к нему. Прислушайся к тому, что он говорит. Он говорит, что ему нужно, – и это так просто. Он хочет, чтобы ему удалили катаракту. Он не ребенок – он восемьдесят шесть лет жил своим умом, умом особого склада, уважай его – и дай ему то, чего он хочет». Но чуть не тут же мне начинало казаться, что он не способен оценить ситуацию реально, и, пасуя перед ним, я ухожу от тяжкого выбора… так, раздираемый сомнениями, я ходил по кругу, не веря, что выигрыш соразмерен риску, связанному с хирургическим вмешательством, при этом ни на минуту не забывая: если ничего не предпринять, состояние отца может катастрофически ухудшиться в сравнительно недолгом времени.
Как-то утром после того, как брат возвратился в Чикаго, я позвонил в Палм-Бич Сэнди Кьювину, врачу и нашему дальнему родственнику. С тех пор как отец стал проводить зимы во Флориде, Кьювин по моей просьбе присматривал за его здоровьем и, если случались какие-то неполадки, давал нам разумные советы. Сэнди – двумя годами старше меня, отец троих студентов колледжа, пламенный патриот Израиля – проводил чуть не половину рабочих дней в году в иерусалимской научно-исследовательской клинике, построенной на собранные им пожертвования и названной в его честь. В последний раз, когда мне случилось побывать в Иерусалиме, я обошел клинику с работавшим там врачом. Мы с Сэнди выросли в одном районе Ньюарка, в сороковые годы учились в одной школе и, хотя со школы не виделись и встретились лишь недавно, когда отец стал зимовать во Флориде, наш ежегодный ужин в местном ресторане и дни, проведенные в его просторном доме в одной из бухточек Палм-Бич, где так хорошо дышалось, протекали дружелюбно и весело – каждого из нас радовало, что его приятель по Викахикской средней школе взлетел так высоко.
Когда я объяснил Кьювину, как обстоят дела, и описал, какие сомнения меня гложут, Сэнди сказал:
– Филип, он – старый человек, прожил долгую жизнь, опухоль росла довольно медленно. За десять или около того лет у него лишь ослаб слух в одном ухе и парализовало лицо с одной стороны. Не исключено, что головные боли вызывает опухоль, не исключено, что и ходит он неуверенно не из-за плохого зрения, а оттого, что опухоль давит на восьмой нерв. Однако пока что особо существенного вреда опухоль ему не причинила, а может быть, и не причинит.
– Однако и потеря слуха, и паралич лицевого нерва произошли за последние полгода. Что ждет нас в следующие полгода?
– Никто не знает. Может быть, ничего, – сказал он, – а может быть, и все что угодно. Если отец хочет восстановить зрение – так и надо поступить, и, даже если он потом проживет всего месяц, что ж, по крайней мере, он целый месяц проживет так, как хотел. Кто знает, вдруг ему повезет, и он проживет дольше.
– Так же и я думаю, когда не думаю иначе. Док, окажи услугу. Позвони ему, ладно? Только не проговорись, что об этом тебя попросил я. Позвони просто так, без дела, – и пусть он сам все тебе расскажет, а тогда скажи ему то же, что сказал и мне: мол, опухоль растет медленно и пусть он о ней и думать позабудет. Потому что, если его не поддержать, он вот-вот рухнет, ей-ей. Того и гляди пойдет на дно и даже барахтаться не станет – в таком он отчаянии.
Не прошло и получаса, и отец позвонил мне – решительный, бодрый: похоже, к нему вернулась былая энергия. Он снова взял судьбу в свои руки.
– Угадай, кто только что пригласил меня на свадьбу своей дочери в декабре?
– Кто?
– Сэнди Кьювин позвонил мне из Палм-Бич. И знаешь, что он сказал? Я рассказал ему про свои дела, а он и говорит: «Герман, забудь про эту опухоль. Она у тебя уже десять лет и растет так медленно, что – кто знает – ты можешь прожить еще десять лет, прежде чем она тебе серьезно навредит». Кьювин сказал: прежде чем опухоль вырастет, не исключено, что меня сведет в могилу десяток других болезней. – И чуть не с восторгом перечислил, от чего он может погибнуть: – Прежде чем меня доконает опухоль, я могу умереть от инфаркта, инсульта, рака, да что там, от сотни других болезней.
Я выдавил из себя смешок.
– Вот порадовал так порадовал.
– Кьювин говорит, чтобы я забыл об опухоли и жил себе, как живу.
– Да ну? Похоже, он дело говорит.
– Мишелл, его дочка, выходит замуж, вот, я записал: во вторник 27 декабря 1988 года. У них дома в одиннадцать тридцать. Он и тебя просил приехать на свадьбу. Со мной и с Лил.
До декабря оставалось семь месяцев. Как считать эти семь месяцев – «сравнительно недолгим временем» или нет?
– Если ты поедешь, и я поеду.
– Фил, я хочу, чтобы мне восстановили зрение. Хочу, чтобы доктор Крон удалил катаракту. Довольно, хватит чикаться с этой штукой.
5
Хорошо бы Ингрид согласилась присматривать за мной до конца
Однако через неделю после того, как Бенджамин вернулся из Европы, отец пошел на биопсию, но не потому, что решился на операцию – к этому времени мы все согласились, что делать ее не стоит, – а для того, чтобы определить: поддается ли, пусть вероятность и ничтожно мала, такого рода опухоль облучению. Я понимал: забыть об опухоли, не погрешив против совести, мы можем, только если удостоверимся, что другого способа справиться с нею, кроме скальпеля хирурга – а это для всех нас неприемлемо, нет. Мысль, что игла, которую воткнут в нёбо, может повредить что-то в мозгу, ужасала, однако Бенджамин убедил меня, что брать биопсию у отца будет доктор Перский, лучший в этой области хирург.
Управляющий отцовского дома привез отца с Лил в манхэттенскую клинику, там их ожидал я; после тягомотных бюрократических проволочек я зарегистрировал отца и проводил в палату. Ему принесли ужин; к моему удивлению, он целиком и полностью отдался еде. Потом Лил ушла, а я повел его вниз – там его принял молодой ординатор, отец рассказал ему историю своей болезни и в придачу несколько смешных баек из своего детства. Вернувшись в палату, мы достали из сумки пижаму, отец помылся, и я помог ему улечься в постель. Отец совершенно изнемог, выглядел он – одна сторона лица обвисла, на слепом глазу повязка – ужасно. Но при всем при том казался куда менее угнетенным, чем тогда, когда мы ничего не предпринимали. Его ждало новое испытание, а позволить себе пасть духом, когда тебя ждет испытание, непозволительно. И он встретил это испытание с той смесью вызова и смирения, с которой приучил себя противостоять унижениям старости.
Когда в регистратуре отцу сказали, что смотреть телевизор в палате обойдется в три с половиной доллара в день, он отказался платить. Увидев, что он лежит на кровати, вперив зрячий глаз в потолок, я сказал, что заплачу за телевизор.
– В чем дело, – сказал я. – Явлю широту души – оплачу тебе вечер с телевизором.
– Три пятьдесят за телевизор? Они спятили!
– Можно было бы посмотреть бейсбол. «Метс» против «Редс».
– За три пятьдесят – ни в жизнь! – он был неколебим. – Пошли они!
– Куда хуже лежать вот так и сходить с ума.
– И вовсе я не схожу с ума. Такой роскоши я не могу себе позволить. Шел бы ты домой.
– Сейчас всего семь. Ты бы мог посмотреть Макнейла и Лерера[33]33
Телевизионная передача «Час новостей» с Макнейлом и Лерером.
[Закрыть].
– Не беспокойся. Все хорошо. Купи что-нибудь поесть, поезжай в гостиницу, посмотри, как играют «Метс».
Усевшись около его постели, я принялся читать вечерний выпуск «Пост».
– Хочешь, прочту тебе последние новости? – спросил я.
– Нет.
– Что бы нам взять из дому приемник. Ты мог бы следить за игрой по радио.
– Не хочу я никакого радио.
Не прошло и пятнадцати минут, как он заснул; прошел час – похоже было, что он проспит всю ночь, а ведь сестра еще не дала ему снотворное, которое мы просили ординатора выписать. Его зубы лежали на тумбочке, где он их оставил. Я поместил зубы в специальную пластмассовую коробочку, предоставленную клиникой, закрыл коробочку и спрятал в ящик тумбочки. Челюсть была новая: ее сделали после того, как у отца парализовало правую щеку. Из-за обвисшей щеки дантисту стоило большого труда подогнать челюсть; всего двумя днями ранее отец – я вывел его на прогулку– рывком выхватил зубы: «Чтоб им! И на кой человеку столько зубов!» – но когда зубы оказались у него в руке, он растерялся – не знал, куда их девать. Как раз в эту минуту мы переходили Норт-Брод-стрит и вот-вот должен был загореться красный свет.
– Дай, – сказал я. – Дай их мне, – взял у него челюсти и положил в карман.
И сам себе удивился – такое удовлетворение это мне доставило. Переводя отца через дорогу, поддерживая его под руку, чтобы он не споткнулся, вступая на тротуар, я не ощущал ни брезгливости, ни отвращения, меня даже забавляло происходящее – можно подумать, нам с отцом отвели роли в комическом дуэте: при этом я играл простака при клоуне, неизменно вызывающем смех в зале плохо подогнанными протезами, – приемчик ничем не хуже носа Дуранте или глаз Эдди Кантора[34]34
Джимми Дуранте (1893–1981) – американский артист эстрады и кино по прозвищу Шнобель. Эдди Кантор (1893–1964) – американский эстрадный актер и певец; вечно вращал глазами, что было его излюбленным комическим приемом.
[Закрыть]. Взяв отцовы протезы, осклизлые, слюнявые и т. д. и засунув их в карман, я, сам того не подозревая, перешагнул пропасть физического отчуждения, которая – что, в общем-то, в порядке вещей – пролегла между нами с тех пор, как я вырос.
Я посидел еще у его постели – он, судя по всему, крепко спал – и несколько минут спустя тихо вышел из комнаты. У сестринского поста я задержался – узнать, когда его завтра отвезут в операционную. Затем из телефонной будки в конце коридора позвонил брату в Чикаго.
– Надо надеяться, мы решились на биопсию не только для того, чтобы не бездействовать, – сказал я. – У меня порой мелькает такое подозрение.
– Как он?
– Что тебе сказать, на этот раз, как впрочем и всегда, он встретит опасность лицом к лицу. Никаких отвлечений-развлечений себе не позволит. Тут берут три пятьдесят за право пользоваться телевизором в палате, так вот, он сказал бедняге регистратору – а тому и головы поднять некогда, – что это чистой воды грабеж.
Брат рассмеялся.
– Ничего не скажешь, упрямый стервец.
– Как знать, в наших обстоятельствах, может, оно и неплохо, что он такой упрямец. Я позвоню тебе завтра, когда его привезут из операционной. Его возьмут на биопсию примерно в полдень.
– Угол Первой авеню и Тридцатой улицы, – сказал я назавтра водителю. – Университетская клиника.
– А ты вышел из гостиницы с невредной бабенкой, – сказал водитель, трогаясь с места.
Перед тем как остановить такси, я простоял несколько минут у гостиницы – разговаривал с женой старого приятеля: столкнулся с ней, когда вышел из гостиницы, чтобы ехать в клинику.
– Ну и?
– Натягиваешь ее? – спросил он.
– Не понял.
– Спишь с ней?
В зеркале заднего вида отражалась пара зеленых зенок, которые буравили меня со злобой, еще более поразительной, чем его вопрос. Не задержи меня разговор у гостиницы, я бы не доверил свою жизнь этим зенкам и выскочил из машины, но мне хотелось во что бы то ни стало повидать отца перед тем, как его увезут в операционную, поэтому я сказал:
– Вообще-то нет. С ней спит мой друг. Она его жена.
– И что с того? А он спит с твоей.
– Нет, этот друг не стал бы спать с моей женой, хотя такое, как я понимаю, и случается.
Понимаю – как не понимать: такое случалось и со мной, однако в отличие от водителя я не стал открывать всех карт сразу. Нам предстоял долгий путь.
– Случается сплошь и рядом, приятель, – сказал он.
Я понимал, что сейчас не время связываться с ним, и отделался шуткой:
– Приятно поговорить с реалистом.
В его ответе явно сквозило презрение:
– Вот, значит, как это у вас называется?
Тут я впервые глянул в окно и увидел, что он свернул не туда и удаляется от центра.
– Послушай! – я напомнил ему, куда еду.
Чтобы исправить свой промах, он решил ехать на восток до магистрали ФДР[35]35
Скоростная автомагистраль в Нью-Йорке проходящая по восточному краю Манхэттена вдоль Ист-Ривер. Названа в честь Франклина Делано Рузвельта.
[Закрыть], а там рвануть на юг. Что уводило нас еще дальше от места назначения.
Из опасения не добраться до клиники к половине двенадцатого я выехал загодя, но перед въездом на магистраль образовалась пробка, и, когда такси только-только начало продвигаться к плотному потоку машин, направляющихся на юг, шел уже двенадцатый час.
– Ты врач? – спросил он, с вызовом сверля меня глазами.
– Да, – сказал я.
– От чего лечишь?
– Догадайся.
– От головы, – сказал он.
– Угадал.
– Психиатр, – сказал он.
– Точно.
– В университетской клинике.
– Нет, в Коннектикуте.
– Небось, главный врач?
– Я что, похож на главного врача?
– Да, – сказал он авторитетно.
– Нет, – сказал я, – всего лишь рядовой врач. И вполне этим доволен.
– Ушлый – не рвешься зашибить деньгу.
Я обнаружил, что изучаю его с таким интересом, словно я не случайный пассажир, а и впрямь психиатр. Шофер – туша-тушей, занимал, при том что машина была обычного размера, чуть не все переднее сиденье, головой разве только на сантиметр не доставал до верха, а руль в его руках казался грудным младенцем, младенцем, которого он душит. В зеркале видны были лишь его глаза: казалось, выпучи он их посильнее, и прикончит тебя без рук, одними глазами. От него исходили флюиды, и они настораживали даже больше, чем фраза, с которой он завел разговор, к тому же его предложение рвануть по магистрали пришлось мне не по душе и по той причине, что было ясно – и не только потому, что он чуть не в начале пути свернул не туда: он думает вовсе не о том, как бы доставить меня к месту назначения, а о чем-то куда более захватывающем.
– Знаешь что, док? – неожиданно он – не без риска для жизни – вильнул на скоростную полосу, ведущую на юг. – Мой папаня сейчас лежит в гробу с дырой на месте четырех передних зубов. И кто папане зубы, чтоб ему ни дна, ни покрышки, выбил? – я, вот кто.
– Ты его недолюбливал.
– Пройдоха он был, сам все просрал и хотел, чтоб я тоже все просрал. Беда беду за собой тянет. Подбивал моего старшего брата колотить меня на улице. Старший брат меня колотил, а папаня хоть бы раз ему укорот дал. И вот, едва мне двадцать стукнуло, я к нему подошел и как садану – зубы враз посыпались, а я и говорю: «Знаешь, за что я тебя? За то, что от Бобби меня не защищал». И на похороны его не пошел. Ну да хоронить родителей не все ходят, так ведь? – и вдруг упавшим, искательным, жалким голосом добавил: – Не я первый.
Его глаза в зеркале – в них уже не было ни жестокости, ни враждебности – смотрели на меня выжидательно.
– Что и говорить, ты не первый, – заверил я его.
– Да и маманя моя не лучше его была, – сказал он; слово «маманя» он изрыгнул так, точно это какая-то оплошно откушенная гадость. – Звонит мне, плачет, говорит – он умер, а я ей: «Валяй, плачь-надрывайся, вот уж был герой так герой». И выложил ей все, что думаю о нем, об идиоте этом, о подонке.
– Тебе, похоже, туго пришлось?
Чистой воды безумие, горевшее в его глазах, вызвало в памяти картину: отблески, отбрасываемые лезвием ножа. Но он ошибся, если рассчитывал, что я такой же шутник, как и его отец, и рвусь лечь в гроб без передних зубов. Я – психиатр и не позволяю себе никого осуждать, и он, к счастью, довольно быстро это усек. Глупым он не был, вовсе нет, но, Господи ты Боже мой, до чего же он был подозрительный. Не защитив его от Бобби, покойный отец напрочь лишил младшего сына иллюзий и превратил его в человеконенавистника.
– Угу, – горестно ответствовал он, – вот именно что туго. – Боднул головой воздух и злобно добавил: – А я взял да и выжил.
– Выжил – еще как выжил.
И тут он меня ошеломил. Я удивился бы не меньше, если бы он взял с соседнего сиденья чашку с чаем и, манерно оттопырив мизинец, деликатно отпил бы глоточек.
– Док, а душа-то болит.
– У тебя? – Не веря своим ушам, я выдал ему по полной программе все, что говорится в таких случаях. – Какого черта, о чем ты? Ты вышиб отцу зубы, отчитал мать, когда она плакала, и эта машина, она же твоя, так или не так?
– Ну да. У меня две машины.
– Две – да ты что, уж у кого-кого, а у тебя душе нечего болеть.
– Правда? – спросил меня этот злобный сукин сын.
– Я так думаю.
– Ты меня успокоил, док. Скощу-ка я с тебя доллар. С какой стати тебе платить за мой промах. – Свернув с магистрали на Тридцать Четвертую улицу, он еще больше заблагодушествовал. – Выключу-ка я счетчик и скощу тебе еще доллар.
– Как тебе будет угодно. А ты добрый.
Я засомневался: не пересаливаю ли я. Посмотрел в зеркало: вдруг он решит пришибить меня – с какой стати я сказал, что он добрый. Но нет, ему это очень даже понравилось. Ишь ты, подумал я, а этому парню не чуждо ничто человеческое, в худшем смысле этого слова.
Выскочив у больницы из такси, я – как хороший психиатр – дал ему единственный совет, который, по моему мнению, мог ему пригодиться.
– Держи хвост трубой.
– И ты тоже, док, – сказал он, и его лицо – теперь я увидел это лицо так и не повзрослевшего, раздобревшего, крепко пьющего, озверелого дитяти сорока лет от роду – расплылось в широкой, от уха до уха, улыбке, а значит, мне с ходу удалось добиться успеха на врачебном поприще. Он, как я понял, и впрямь извел отца. Он был из того первобытного племени сыновей, которые – по одной из излюбленных теорий Фрейда – спят и видят, как бы изничтожить отца, изничтожить физически, которые ненавидят и боятся его, а одолев, оказывают ему честь, пожирая его. А я из того племени, которое неспособно дать в зубы. Мы – другие, мы не можем изничтожить ни отца, ни кого бы то ни было. Мы – сыновья, которых страшит насилие, мы не в состоянии причинить боль телесную, мы не умеем бить и колотить, не в силах сокрушить даже самого что ни на есть заслуживающего того врага, хоть и мы не чужды буйства, взрывов гнева и даже жестокости. У нас, как и у людоедов, есть зубы, но служат они лишь для того, чтобы более внятно говорить. Когда мы не находим себе дела, когда нас задвигают в тень, мы раним наших отцов, не размахивая кулаками, не строя злобных козней, не прибегая к безумному, корявому насилию, а словами, мозгами, складом ума – всем тем, что так болезненно разделило нас с нашими отцами и ради чего они самоотверженно гнули спины. Поощряя нас стать такими умниками, такими ешива бухерс[36]36
Студенты ешивы, здесь: ученые (идиш).
[Закрыть], они и не подозревали, что в результате мы оставим их, одиноких, опешивших, беззащитных перед нашим бесконечным словоизвержением.
Наверное, именно боязнь опередить отца настолько, что ему меня не догнать, заставила меня в первые годы в колледже ощущать себя если не его двойником, то медиумом, воображать, что я учусь в колледже вместо него и образование получаю не только я, но и он, и от невежества избавляю и его. А выходило как раз наоборот: каждая книга, которую я прорабатывал и на полях которой делал пометы, каждый курс лекций, который прослушивал, доклад, который написал, увеличивали умственный водораздел, и он разводил нас все дальше с тех пор, как я скороспело – двенадцати лет от роду – поступил в среднюю школу, в том примерно возрасте, когда он навсегда бросил учиться, чтобы помогать родителям-иммигрантам содержать их выводок. Все так, и тем не менее мое здравомыслящее «я» не могло освободиться от чувства слиянности с ним, которое овладевало мной в классной и за письменным столом в общежитии, – пылкой, хоть и бредовой уверенности, что он каким-то образом переселился в меня и заодно со своим я оттачиваю и его ум.
Добравшись наконец до отцовской палаты, я увидел, что на тумбочке нет его вещей, открыв шкаф, не увидел там ни его одежды, ни халата, ни чемоданчика. Больше всего меня напугал вид голого матраса, с которого убрали спальные принадлежности. Я кинулся назад в холл к сестринскому посту, в голове тем временем крутилась мысль: Все копчено, все кончено, худшее его миновало, но сестра сказала – и у меня отлегло от сердца, – что несколько часов назад его увезли в операционную. Я опоздал, потому что слишком долго консультировал собственного пациента – таксиста-отцеубийцу. Отец не умер. Но что, если иглу воткнут не туда, что, если он ослепнет, что, если у него парализует и другую половину лица…
Было уже без чего-то пять, когда его перевели из реанимации в четырехместную палату, где его подключили к монитору и где круглосуточно дежурила сестра. Я просидел у его постели, пока посетителям не пришло время уходить, с изумлением следя, как его пульс обретает нормальный ритм – шестьдесят ударов в минуту. У других пациентов, приходивших в себя после операции, скакало давление, а у него держалось давление сто пятьдесят пять на семьдесят восемь. Я, конечно же, не мог расшифровать электрокардиограмму, четко прочерчивавшуюся на экране, но, по-моему, ни экстрасистол, ни аритмии она не показывала. Он по-прежнему оставался чудом из чудес, а раз так, ему не избежать ничего из того, что предначертано.
Чтобы утишить боль во рту, ему велели сосать лед. Я подавал ему лед кусочек за кусочком и снова наполнял мисочку. У него так болел рот, что он практически не мог говорить. А когда наконец-то собрался с силами, высказался коротко и ободряюще.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил я, с тех пор, как его привезли из реанимации, прошел уже час.
Он ответил – еле слышно, угрюмо, без обиняков:
– Лучше бы мне умереть.
Больше жалоб я от него не услышал.
Кровать через проход занимал хрупкий – в чем душа держится – восточного вида старик, из горла у него торчал зонд. Ему сделали операцию на кишечнике, его то и дело позывало на рвоту, и он пытался откашляться. Его дочь, миловидная миниатюрная женщина лет сорока, очень толково и самоотверженно ухаживала за отцом, не говоря ни слова всячески пеклась о нем, но, судя по всему, облегчить его страданий не могла. Лицо его оставалось бесстрастным, но нам было слышно, как через каждые несколько минут он пытается вырвать зонд: ему казалось, он задыхается.
Приехав на следующее утро в больницу, я спросил отца:
– Как ты спал?
– Плохо. Этот китаец всех будил.
Старик – он теперь сидел на стуле у кровати – пытался вырвать зонд, дочь – она уже была на посту – все так же молча хлопотала около него.
– Как рот? – спросил я отца.
Он покачал головой, давая понять, что рот страшно болит.
Сестра сказала, что врач не хочет выписывать отца сегодня, так как он еще не отошел от биопсии. К тому же он еще не мочился и, пока не помочится, отпустить его домой нельзя. Отец сказал, что оправиться ему тоже не удалось, и то и дело вскакивал и уходил в уборную – тужиться. Всякий раз я отводил его туда, а сам оставался за дверью, ждал: вдруг ему понадобится помощь. Время от времени, обихаживая своих отцов, мы с восточной женщиной переглядывались и улыбались.
Отца проведала Лил, навестил Сет с женой Рут; Сэнди и Хелен позвонили ему из Чикаго; Клэр – она вернулась из Лондона– позвонила из Коннектикута; Джонатан – откуда-то, где он колесил по делам службы; позже, когда я помогал отцу справиться, что ему плохо удавалось, с водянистым, неаппетитным обедом, появился доктор Бенджамин, разодетый в пух и прах, излучающий самоуверенность – не врач, а мечта пациента. Его сопровождал наутюженный администратор в галстуке и белой рубашке, выполнявший его указания с военной четкостью. По сравнению с ним отец, скрючившийся над подносом с обедом, в загвазданном всевозможными пятнами, кое-как завязанном на спине больничном халате, беззубый, с безвозвратно изуродованной половиной лица походил на старушку, хорошо знакомую мне старушку – на свою мать Берту Занстехер Рот; именно такой я запомнил ее в больнице незадолго до смерти. Отлично помню, как, вернувшись домой из колледжа, я стоял подле ее кровати, он кормил ее, а она бормотала что-то на идише.
Бенджамин сообщил нам результат биопсии. Опухоль исключительно редкого типа, из какого-то хрящеподобного вещества, «несколько напоминающего ноготь», сказал он отцу. Опухоль доброкачественная, но облучение на нее не действует. И предложил удалить ее хирургическим путем, в два этапа, каждый из которых займет семь-восемь часов. На первом этапе он извлечет часть опухоли через нёбо, а спустя несколько месяцев – остальную часть через затылок.
Видимо, Бенджамин не догадался отвести меня в сторону и сообщить о результатах биопсии сначала мне: у старика и без того еле-еле душа в теле, а он еще его так огорошил. Когда доктор закончил излагать свои умозаключения, отец долго не отрывал глаз от подноса, на котором стоял очередной обед: холодный бульон, йогурт, шоколадный напиток, желе, фруктовое мороженое. По его потерянному, рассредоточенному взгляду нельзя было догадаться, о чем он думает и думает о чем-либо вообще. Я же думал о ногтеобразном веществе, уже десять лет заполонявшем все пустоты его мозга, веществе, столь же жестком и твердом, как он сам, веществе, прорвавшем носовую перегородку и наподобие клыка пробившемся – упорно, беспощадно, точь-в-точь так же, как пробивался он сам, – во все ткани его лица.
Но вот наконец отец вспомнил о Бенджамине, поднял глаза и сказал:
– Что ж, доктор, по ту сторону меня дожидается немало народу, – склонился еще ниже над блюдцем, опустил ложку в желе и снова попытался что-то съесть.
Я вышел в коридор вслед за доктором и его помощником.
– Мне кажется, две такие операции ему не пережить, – сказал я.
– Ваш отец – сильный человек, – возразил доктор.
– Сильный-то он сильный, но ему восемьдесят шесть. Сколько можно.
– Опухоль в периоде риска. В течение года могут начаться серьезные осложнения.
– Какого характера?
– По всей вероятности, ему станет трудно глотать, – сказал Бенджамин, и воображение, естественно, нарисовало страшную картину, но не менее страшно было представить, каково ему отходить не от одной, а от двух восьмичасовых черепно-мозговых операций.
Доктор сказал:
– Может случиться все что угодно.
– Нам надо обдумать все как следует, – сказал я.
Мы пожали друг другу руки, но, направляясь с помощником к двери, Бенджамин обернулся и, чтобы мы не расслаблялись, напомнил:
– Мистер Рот, когда что-то случится, помочь будет невозможно.
В ответ на что я сказал:
– А может быть, уже и сейчас невозможно?
На следующее утро отцу так и не удалось помочиться, и, так как он не больше, чем любой из нас, хотел, чтобы ему поставили катетер, я посоветовал ему пойти в уборную, открыть кран и сидеть там, пока не добьется результата. Он ходил в уборную три раза и в последний раз, пробыв там минут двадцать, вышел и сказал, что все сработало. Еще бы, у него бы да не сработало.
Я помог ему снять больничную одежду, переодеться и пошел позвонить брату – сообщить, что выписываю отца из больницы и еду с ним в Коннектикут, куда мы с Клэр перебрались на лето.
– Что тебе сказать – теперь мы убедились: ничего поделать нельзя, – сказал я брату. – Об операции в два этапа не может быть и речи. Ты бы посмотрел, на что он похож сейчас, а ведь у него всего лишь взяли биопсию.
Пока я упаковывал в сумку отцовские бритвенные принадлежности, старик на кровати все так же пытался вырвать зонд, его дочь все так же молча сновала, ходила за отцом. Я цодошел к ней – попрощаться.
– Вашему отцу лучше? – спросила она; по-английски она говорила с сильным акцентом, понимал я ее с трудом.
– Сейчас – да, – ответил я.
– Ваш отец – он мужественный, – сказала она.
– Ваш тоже, – сказал я. – Что и говорить, старость – не радость.
Она улыбнулась, пожала мне руку – не исключено, что смысла моих слов она не поняла.
Когда мы вышли из больницы и я медленно-медленно повел его через парковку к машине, он сказал – ну совсем как ребенок, который согласился принять горькое лекарство и требует за это поблажки: