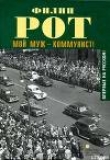Текст книги "По наследству. Подлинная история"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
– Кто это? – спросил я, но в ответ в трубке снова закатились бешеным хохотом. Я повесил трубку, так и не поняв: то ли кто-то по ошибке набрал не тот номер, то ли наш номер намеренно набрал какой-то изверг, изучавший колонки некрологов в местной газете (там этим утром появилось сообщение о маминой смерти), а потом развлекавшийся, звоня по ночам семьям умерших. Когда – и минуты не прошло – телефон снова зазвонил, на радиочасах засветились цифры 11.30, и я понял, что наш номер набрали вовсе не по ошибке. В трубке снова раздался злобный смех – так смеется тот, кто одержал верх над врагом, так садистски ликует тот, кто упивается местью.
Положив трубку, я вскочил, кинулся в гостиную – успел сорвать с крючка отводную трубку до того, как телефон зазвонит в третий раз. И оставил ее лежать так до утра, а в шесть встал и прокрался в гостиную – положить трубку на место, чтобы отец не полюбопытствовал, почему я ее снял. Я был в ванной, когда – в семь часов – телефон зазвонил снова. Трубку снял отец. Выйдя из ванной, я осведомился, кто это звонит в такую рань, отец угрюмо буркнул: «Никто», но и так было ясно, кто.
– Кто это? – повторил я, и на этот раз он рассказал про безумный хохот, который и я слышал.
– Не иначе какой-то псих, – сказал я, умолчав о ночных звонках.
– Это Уилкинс, – ответил он.
– Кто такой Уилкинс?
– Один тип, живет напротив.
– Откуда ты знаешь, что это он?
– Знаю, и все тут.
– За что он на тебя взъелся? – спросил я.
– Сволочь он, фашист. Ненавидит евреев. Живет один. Никто с ним не якшается. Один как перст. Дурак. Любит только мистера Рыгуна, его кикимору Нэнси да рыгунову скверную рожу. Обклеил прачечную с пола до потолка плакатами с его рожей. Нашу, между прочим, прачечную. Никого не спрашивает, приходит, клеит – и вся недолга.
– Ну и ты сказал ему, чтобы он больше не клеил.
– Как увидел плакаты, сказал, чтобы он и думать не смел их клеить. Так назавтра он еще больше наклеил. Я, как их увидел, все посрывал. И позвонил ему. Говорю: прачечная, она не для плакатов предназначена. Не для политической пропаганды. А для того, чтобы в ней тихо-мирно стирать свои вещички.
– Что еще ты ему сказал?
– Выложил, что думаю о мистере Рыгуне. Рассказал – вдруг он не знает, – сколько евреям пришлось вынести за последние две тысячи лет.
– А ты уверен, что звонит он?
– Он, Уилкинс, кто же еще. Но я его прижму, – сказал отец скорее себе, чем мне. – И еще как прижму.
– Пап, да не нервничай ты: похоже, его и так уже прижали. Ты же знаешь, человек, который смеется над чужим горем, будет покаран. Забудь про него. Пора собираться – у нас сегодня трудный день.
Мы похоронили маму в полдень, примерно в час отец начал опрастывать шкаф и комод в ее спальне, в половине одиннадцатого мы снова лежали в двуспальной кровати, а в половине двенадцатого, когда отец уже заснул, а у меня сна не было ни в одном глазу, и я думал, что станется с отцом и где теперь мама, зазвонил телефон. Едва подняв трубку, я услышал хохот. Долго слушал, плотно прижимая трубку к уху.
На том конце все не вешали трубку – продолжали заливаться хохотом, и я, прикрыв трубку рукой, чтобы не разбудить отца, прошипел:
– Уилкинс, еще раз напакостишь, всего один раз – жди меня у своей двери, я приду с топором. А топор у меня большой, Уилкинс, и я знаю, где ты живешь. Я вышибу твою дверь, доберусь до тебя и разрублю напополам, как бревно. Пса у тебя, случаем, нет? Так вот, пса твоего я пущу на колбасу, Уилкинс. А потом тем же топором буду заталкивать его тебе и в задницу, и в пасть до тех пор, пока нельзя будет отличить, где ты, а где твой Фиделька. Позвонишь отцу еще раз, всего один раз – хоть днем, хоть ночью, – и тебе не сносить башки, ты, чокнутый, злобный, гребаный псих…
Сердце мое перекачивало кровь с такой силой, что хватило бы на десятерых, пижама моя намокла, хоть выжимай – можно подумать, меня всю ночь била лихорадка, – а на другом конце провода молчали.
В спальне, где гарнитур красного дерева уже не сверкал полировкой, как в те дни, когда хозяйство вела мама, и где на покрывавшем его слое пыли вполне можно было расписаться, отец показал мне металлическую коробку – она лежала в верхнем ящике комода: в ней хранились его завещание, страховки, сберегательные книжки. Там же он держал списки своих банковских сертификатов и муниципальных облигаций.
– Здесь мои документы, – сказал он. – А здесь ключи от моего сейфа в банке.
– Понятно, – сказал я.
– Я последовал твоему совету, – сказал он. – Сделал общий сберегательный счет с Сэнди.
Отец вынул свои сберкнижки, числом четыре, и показал мне: теперь под его именем стояло и имя брата как владельца счета. Перелистывая сберкнижки, я увидел, что у него набралось примерно пятьдесят тысяч долларов и еще тридцать тысяч в банковских и муниципальных облигациях – их он тоже завещал брату.
– Страховку на десять тысяч долларов я оставляю тебе, – сказал он. – Помню, ты этого не хотел, но поступить иначе я не мог – не мог я ничего тебе не оставить.
– Отлично, – сказал я.
Когда я посетил отца во Флориде, года через два-три после маминой смерти, встал вопрос о его завещании, и я сказал, чтобы он оставил все деньги Сэнди, а тот распределит их, как сочтет нужным, между своими двумя сыновьями и собой. Я сказал, что в деньгах не нуждаюсь, и, если деньги разделить на двоих, максимум на троих, для Сета и Джонатана это составит ощутимую разницу. Я говорил вполне искренне, вслед за этим написал отцу письмо, в котором подтвердил свои слова, и с тех пор о его завещании и не вспоминал.
Но теперь смерть отца ощутимо приблизилась, и, когда он сообщил мне, что согласно моему желанию существенно урезал мои права по отношению к другим наследникам, это подействовало на меня совершенно неожиданно: я почувствовал, что отец меня отринул, и хотя он обделил меня в завещании по моей же просьбе, сознания моей отверженности это не умаляло. Я сделал щедрый жест, как я полагал, вполне под лад независимости и самостоятельности, которой фигурял с тех пор, как вышел из детского возраста. Нельзя не признать также, что это была весьма характерная для меня попытка занять позицию нравственного превосходства в семье, заявить, что и на возрасте, в пятьдесят с гаком, для меня, как и в те годы, когда я учился в колледже и в аспирантуре, а позже был начинающим писателем, материальные соображения большого значения не имеют, но теперь чувствовал, что наивен, глуп и пришиблен – пришиблен своим поступком.
Как ни прискорбно, когда я читал, стоя рядом с отцом, его завещание, мне открылось, что я хочу свою долю финансовых накоплений, которые вопреки всем препонам сумел собрать за жизнь мой нравный, несгибаемый отец. Хочу, потому что это его деньги, а я его сын и имею право на свою долю, хочу, потому что они – кусок, пусть и не в буквальном смысле, плоти этого работяги, что-то вроде овеществления всего того, что он смог преодолеть или осилить. Того, что причиталось мне, того, что он хотел мне отказать, что должно было отойти ко мне по обычаю и традиции, и что бы мне не попридержать язык и не мешать естественному ходу событий?
Я что, думал, я их не заслуживаю? Я что, считал моего брата и его детей более достойными преемниками: уж не оттого ли, что брат подарил ему внуков, а раз так, он более правомерный наследник, чем бездетный сын? Не тот ли я младший брат, который отступился от своих прав ради старшего оттого лишь, что тот явился на свет первым? Или, наоборот, не тот ли я младший брат, которого не покидало ощущение, что он и так слишком посягнул на привилегии старшего брата? Что породило побудивший меня отказаться от прав наследства порыв и почему этот порыв легко возобладал над ожиданиями, которые – слишком поздно я это обнаружил – сыну должно иметь?
Впрочем, такое со мной случалось уже не раз: я не допускал, чтобы мое поведение определяли традиции, и тел своей дорогой, а в итоге обнаруживалось, что стремление неуклонно следовать нравственному императиву находится в противоречии с моими чувствами, в основе своей куда более традиционными.
В тот день на прогулке, пока я медленно-премедленно обводил отца вокруг квартала, я не смог сказать ему, хотя мне и очень хотелось и хотя признание ошибки основательно смирило бы мою гордыню, что был бы рад, если бы он перераспределил наследство и вернул мне ту долю состояния, которую первоначально завещал. Во-первых, потому что несколько лет назад брат поставил свою подпись под сбергательной книжкой, чтобы иметь возможность распоряжаться общим счетом, знал об изменениях в завещании, а тридцать и даже сорок тысяч долларов, на мой взгляд, не стоили того, чтобы развязать семейную свару или породить ядовитые чувства, как правило, неизменно связанные с наследственными распоряжениями. Ну и гордость – если хотите, гордыню – тоже не скинешь со счета. Короче говоря, примерно по тем же причинам, которые, по всей видимости, побудили меня сначала попросить отца оставить деньги другим членам семьи, теперь я не мог заставить себя взять свою просьбу назад.
Вот и думайте: учимся ли мы на своих ошибках.
«Пусть так, – думал я. – За то, чтобы – в который раз – понять, что ты, как за тобою водится, опять поднялся на ходули и свалял дурака, таких денег, пожалуй что, и не жалко».
Впрочем, если предъявить права на мою долю этих денег слишком поздно – или слишком трудно, – я хочу получить что-то взамен и знаю что. Но тут обнаружилось, что даже этого я попросить не могу. Во всяком случае, так вот прямо не могу. Самодостаточный до крайности! Самостоятельный до предела! Сын, вечно демонстрирующий свою независимость. Кому-кому, а мне ничего не нужно.
– Расскажи о дедовой бритвенной кружке, – сказал я. – Я рассматривал ее в ванной. Где была его парикмахерская? Ты помнишь?
– Помню, как не помнить. На Бэнк-стрит. За площадью Уоллеса, на углу, там еще раньше была немецкая больница. Когда я был совсем маленький, мы ходили в парикмахерскую на Бэнк-стрит – меня стригли, а отца брили. На кружке стояла надпись «С. Рот», ну и эта, как ее, дата, и отец держал кружку в парикмахерской.
– Как она к тебе перешла?
– Как перешла? Дельный вопрос. Дай-ка вспомнить. Да нет, она ко мне не перешла. Дело было не так. Я взял ее у Эда, моего брата. Когда мы переехали с Ратжерс-стрит на Хантердонстрит, папа перенес кружку в парикмахерскую на углу Джонсон-авеню и Эйвон-авеню, после смерти папы ее взял Эд, ну а после смерти Эда – я. По-моему, больше никакого нследства я не получил. Да и ее я получил не по наследству. А просто взял.
– Тебе хотелось ее иметь, – сказал я.
– Хотелось, – прыснул он. – С самого раннего детства.
– Знаешь что? – сказал я. – Мне тоже.
Он улыбнулся той половиной рта, которую не сковало параличом.
– Помнишь, когда мы с мамой приехали к тебе в Рим погостить, ты повел меня в парикмахерскую побриться.
– Верно. На виа Джулиа, в крохотную парикмахерскую с тесным зальчиком. Пожалуй, лучшего времени за весь тот год у меня не было, – сказал я, вспомнив, какие супружеские баталии велись изо дня в день в квартирешке на виа ди Сант-Элиджио, за углом от виа Джулиа, где я на редкость несчастливо обитал со своей на редкость несчастливой женой и где мы перебивались на мою Гуггенхаймовскую стипендию в три тысячи двести долларов. – Днем, кончив работать, я шел на угол – бриться. Парикмахера звали Гуильельмо. Говорил Гуильельмо исключительно о Кэриле Чессмане[24]24
Кэрил Чессман (1921–1960) – известный преступник, о суде над которым много писала пресса. Казнен в 1960 г.
[Закрыть]. Он гордился своим знанием английского. Когда я входил, он неизменно приветствовал меня: «С днем рождения вас, маэстро, Четвертое июля[25]25
День независимости, основной государственный праздник США.
[Закрыть]». Горячие полотенца, пышная кисточка для бритья, опасная бритва, а под конец массаж с гаммамелисом – и за все про все пятнадцать центов, 1960 год, – сказал я. – Ты тогда был всего года на два старше, чем я теперь.
– Я ходил бриться с Биллом Эйзенстадтом, да упокоится он с миром. Помнишь Билла?
– А то нет. И Билла, и Лил, и их сына Хауи.
– В парикмахерскую на площади Клинтона, за углом средней школы. Бритье обходилось в четвертак. Только Билл мог отыскать парикмахерскую, где бритье обходилось в четвертак.
После Билла Эйзенстадта он вызвал призраки Эйба Блоха, Макса Фельда, Сэма Кэя и Дж. М. Коэна – культовых фигур моего раннего детства, страховых агентов, работавших с ним в «Метрополитен», – по пятницам они вечерами играли в безик у нас на кухне, вместе с ними, их женами и детьми мы выезжали на пикники в День поминовения[26]26
Официальный нерабочий день в память о погибших во всех войнах США.
[Закрыть] в резервацию Саут-Маунтин – это были пешие воины, с которыми он собирал взносы, обходя от двери к двери дома «цветных дебиторов» в бесписьменных ньюаркских районах, домой они возвращались затемно в одежде, насквозь пропитавшейся прогорклым запахом растительного масла.
– Попадались такие цветные семьи, – это отец рассказывал мне сейчас, – которые выплачивали взносы и двадцать, и тридцать лет после того, как застрахованный член семьи умер. По три цента в неделю. Вот какие взносы мы собирали.
– Как получалось, что они выплачивали взносы и после смерти?
– Они не сообщали об этом агентам. Кто-то из семьи умирал, но об этом не упоминали. Раз страховой агент приходит – значит, надо платить.
– Уму непостижимо, – сказал я, хотя, конечно же, далеко не в первый раз слышал его рассказы о жутковатых вечерах, когда он собирал гроши у беднейших ньюаркских бедняков, рассказы, скопившиеся за тридцать восемь лет его работы в «Метрополитен» с Биллом, Эйбом, Сэмом и Дж. М. Коэном: все они, как он не раз напоминал мне, давно уже умерли.
Да и о тех друзьях – а их осталось немного, – которые были еще живы, он тоже ничего хорошего сообщить не мог.
– Луи Чеслер в больнице, писает кровью. Ида Зингер почти совсем ничего не видит. У Мильтона Зингера отказали ноги – передвигается только в инвалидном кресле. Турро, помнишь Дика Турро, у бедняги Дика рак. Билл Вебер, когда я ему звоню, не помнит, кто я: «Герман, Герман, какой еще Герман? Не помню никакого Германа». Сейчас он живет у Фрэнки, но Фрэнки говорит, что им придется поместить его в дом престарелых.
Так отцу удалось отвлечься от опухоли – чтобы не говорить о ней, он рассказывал об умерших и умирающих друзьях, а также о тех, для кого смерть была бы избавлением.
На следующий день я отправился в Элизабет – отвезти отца в ньюаркскую университетскую клинику на Спрингфельд-авеню: ему предстояло проконсультироваться об операции с нейрохирургом доктором Мейерсоном. Стоило мне спросить, как лучше проехать к кабинету Мейерсона, и они с Лил сцепились. В конце концов выяснилось, что Лил объясняет, как добраться до кабинета Мейерсона в Милберне, куда она ездила с отцом на первую консультацию, он же, как доехать до кабинета Мейерсона в клинике, где, о чем Лил не знала, и должна была состояться вторая консультация. В машине отец приложил все старания, чтобы взаимное раздражение не улеглось и после того, как недоразумение выяснилось.
Утихомирился он, только когда я свернул с Элизабет-авеню и покатил по заброшенным улицам чернокожего Ньюарка к Берген-стрит. Там, где в годы моего детства шла оживленная торговля, где отоваривался средний класс пониже рангом этого преимущественно еврейского района, теперь стояли сильно обгоревшие, заколоченные или обрушившиеся дома. На улицах не было ни души, если не считать чернокожих парней, явно безработных, – во всяком случае, они кучковались на углах улиц и, по всей видимости, били баклуши. Да, такие сцены не могли развеять нас по пути на консультацию с нейрохирургом. И тем не менее, пока мы ехали к больнице, отец не думал, что его там ждет, а вспоминал, кто где жил и работал в пору его детства, еще до Первой мировой войны, на этих улицах, где евреи-иммигранты и их семьи из кожи вон лезли, чтобы выжить и добиться успеха.
– Здесь жил Тибор. Венгр, по всей видимости. Он сшил мне выходной костюм и перекоротил брюки. Так я на выпускной вечер и не попал.
– Из-за того, что брюки были коротки? – спросил я.
– Весь костюм никуда не годился. А здесь жила семья Ала Шорра. Господи ты Боже мой, их дом еще стоит. Помнишь Ала?
– Еще бы. Ала с этим его голосом забыть нельзя.
– Ну да, он же всегда хрипел. Голос у него был скрипучий, низкий. С самого детства. Ала выгнали из класса. Он перешел в мой класс, и я сделал его казначеем, казначеем класса. А я был президентом. К окончанию школы у нас остались деньги, и мы отправились в центр – спустить их.
– Понятно, – сказал я. – Остались деньги. Когда парни, нацепив маски и прихватив пистолеты, шли на дело в банк, они, как правило, так и говорили кассиру. Говорили: «Извини, у тебя случаем деньги не остались?»
Этой репликой мне удалось рассеять его, ну самую малость.
– Так вот, – сказал отец, – Ал был парень что надо. И действовал он не пистолетом, а юмором. Всего добивался юмором. Работал со мной, пока его не уволили. Я привлек его к страховому делу. На работу Ала всегда устраивал я. Но он крал деньги и говорил: «Слышь, – говорит, – слышь, Герман, они опять сели мне на хвост, опять полиция села мне на хвост». – «Ну что ж, – говорю, – вот тебе пять долларов, сходи в Нью-Йорке в парилку». Даю ему пять долларов, и он едет в Нью-Йорк. А когда вернулся, погасил свой долг компании, и я устроил его на работу к Луи Чеслеру. Продавцом. И говорю: хоть раз украдешь у Луи, говорю, и я тебя пристрелю. Работал он и у Шубертов в Ньюарке. В театре. И что придумал – подбирал разорванные пополам билеты. Склеивал, клал обратно в кассу, а деньги забирал себе. Выплачивать за них пришлось его матери. Тысячи две-три – я знаю. Его выгнали из класса – вот как мы подружились. В первый свой день в восьмом классе он осмотрел классную комнату, знаешь, что такое пишка? – прервав рассказ, ни с того ни с сего спросил он.
– Еще бы я не знал. Ящик для пожертвований. Где, по-твоему, я вырос, в Монтане?
– Ну так вот. Ал осмотрелся и говорит учительнице, а голос у него трубный: «Если тут покрасят стены, я положу десять центов в пшику». Учительница не знала, что такое пишка, ну и выставила его из класса. Так он перешел в мой класс, и я сразу понял, что он из себя представляет, и сделал его казначеем. Ну а я был президентом. В школе на Тринадцатой авеню. Бог ты мой, а вот и она, моя школа.
Мейерсон – Дэвид Крон заверил меня, что он считается одним из лучших нейрохирургов Джерси, – невидный, рыхлый мужчина слегка за сорок, с мягкими манерами, с ходу располагал к себе. Сев за стол, он обратил взгляд на меня и спросил, какие вопросы я хотел бы ему задать. Я указал на отца: он сидел донельзя мрачный в кресле между Лил – доктор именовал ее «миссис Рот» – и старшей медсестрой – нам сказали, что она обычно присутствует на предоперационных консультациях.
– Вопросы хочет задать мой отец, – сказал я. – Ну же, папа. Спрашивай доктора обо всем, что хочешь узнать.
Я велел отцу записать вопросы касательно операции, которыми он закидывал меня последние несколько дней, и взять этот список с собой на консультацию. Отец вывел карандашом вопросы безыскусным размашистым почерком не слишком грамотного человека, все существительные написал с большой буквы, но всё, за исключением одного-двух слов, правильно. Перед отъездом он показал мне список, и я подумал: «Я хочу этот список. Списка и бритвенной кружки с меня хватит».
Отец вынул из кармана разлинованный лист бумаги и расправил на колене.
– Вопрос первый, – начал он. – В чем заключается операция? – и вскинул глаза на Мейерсона. – Простите, доктор, но я полный невежда.
Мейерсон завел руку за спину и достал с полки, на одном конце которой были небрежно свалены медицинские книги, раскрашенный пластмассовый муляжик мозга и черепа. Поворачивая его так и сяк и тыча карандашом, он объяснял, где находится опухоль и где она сдавливает мозг. Показал, где произведет на задней стенке черепа разрез, через который извлечет опухоль.
– Мы слегка приподнимем мозг вот здесь вот и удалим то, что под ним наросло.
Услышав, что он «приподнимет» мозг отца, я испытал шок. Я не верил, что такая процедура может пройти для мозга бесследно. И, насколько мне известно, так оно и было.
– Какой инструмент вы для этого используете? – спросил отец. – Производства «Дженерал электрик» или «Блэк энд Деккер»[27]27
Компании по производству электротехнического оборудования, хозяйственных товаров и т. д.
[Закрыть]?
Отец казался таким дряхлым и подавленным, что его язвительность – свидетельство неподдельного мужества – меня поразила.
Ответ доктора свидетельствовал – в свою очередь – о его неподдельном хладнокровии.
– Инструмент выпускают хирургические фирмы.
– Второй вопрос. Опухоль вырастет снова?
– В конечном счете это не исключено, – сказал Мейерсон. Теперь и в его голосе сквозила язвительность, впрочем, еле заметная. – Может быть, лет через десять-пятнадцать нам придется повторить операцию.
На это отец ответствовал неспешным кивком.
– Третий вопрос, – сказал он, снова сверившись со списком. – Операция очень болезненная?
– Нет, не очень, – сказал Мейерсон. – Но послеоперационный период крайне тяжелый. У вас поднимется температура. Вы ослабеете.
Сестра Мейерсона, худощавая живая дама средних лет, в обычной городской одежде, такая же приятная и обходительная, как Мейерсон, сочувственно положила руку на руку отца и сказала:
– Мы постараемся привести вас в порядок как можно скорее – дней через пять-шесть вы уже будете сидеть.
В ответ отец лишь буркнул:
– Господи ты Боже мой! – Пять, а то и шесть дней он не сможет поднять голову с подушки – вот когда он понял, что его ждет, если не понял до этого. Но виду не подал, перешел к четвертому вопросу. – Сколько длится операция?
– От восьми до десяти часов, – ответил Мейерсон.
Отец не дрогнул, чего нельзя сказать обо мне. От восьми до десяти часов, затем от пяти до шести дней, и что с ним станется после этого? А после нищего детства и оборванной учебы, после того, как потерпел крах его обувной магазин и магазин замороженных продуктов, после тех невероятных усилий, с какими он пробился в менеджеры «Метрополитен» при их-то процентной норме для евреев, после того, как многие из тех, кого он любил, – его братья Моррис, Чарли и Мильтон в двадцатые-тридцатые годы, племянница Джанетт и племянник Дэвид в ранней молодости, любимая невестка Этель в сороковые годы, – умерли до времени, после всего, что он пережил и после чего выжил, не ожесточившись, не сломавшись, не отчаявшись, еще и операция на восемь-десять часов, не чересчур ли?
Должен же быть предел?
Ответ был – да; безусловно – да; тысячу раз – да, это уж слишком. На вопрос: «Должен же быть предел?» – ответ был: предела нет.
– Большая часть времени, – объяснил Мейерсон, – уйдет на то, чтобы добраться до опухоли. Дальше все зависит от того, какого характера опухоль. В этом месте девяносто пять-девяносто восемь процентов опухолей доброкачественные. И, как правило, кровоточат не сильно. Если все же из-за характера опухоли кровотечение будет сильным, операция затянется.
А мой несгибаемый отец – никогда еще он не вызывал у меня такого восхищения – продолжал:
– Пятый вопрос. После операции мне придется учиться ходить заново?
– Да, – сказал Мейерсон.
И тут-то, а ведь мне казалось: я ясно представляю себе, что нас ожидает, я понял, что ужас этот до конца не осознал, – куда там.
– Да, – сказал Мейерсон. – Это не исключено.
У отца в списке осталось еще пять вопросов, но даже ему с лихвой хватило того, что мы узнали. Отец сунул список обратно в карман, посмотрел на Мейерсона в упор и сказал:
– Да, я-таки имею проблему.
– Таки имеете, – подтвердил Мейерсон.
На этот раз мы ехали по пришедшему в разруху Ньюарку в молчании. Отец уже задал все возможные вопросы, исчерпал воспоминания детства, усовершенствовать Лил у него и то не было сил: мы думали лишь о фразах, которыми отец с Мейерсоном обменялись на прощание, и больше ни о чем думать не могли. Мейерсон согласился, что нам следует проконсультироваться с еще одним нейрохирургом, хотя не сомневался, что второй врач подтвердит его выводы, и мы решимся делать операцию в университетской клинике, поэтому посоветовал нам не медлить, а ориентировочно выбрать первый же свободный день в его расписании. День этот пришелся на седьмую годовщину смерти моей матери.
Когда мы приехали, Лил прошла в кухоньку – разогреть на обед банку кэмбелловского супа[28]28
Суповые концентраты фирмы «Кэмбелл».
[Закрыть]. Отец пошел вслед за ней – достать тарелки и накрыть на стол в столовой, я сидел в гостиной, пытаясь представить, как это Мейерсон сможет приподнять мозг отца, не повредив его. «Должен же быть какой-то способ», – думал я.
Я услышал, как отец говорит: «Возьми банку снизу», – судя по всему, Лил открывала банку консервным ножом, прикрепленным к стене около раковины.
– Я что – не умею открыть банку супа? – сказала она.
– Ты держишь ее неправильно.
– Герман, оставь меня в покое. Я держу ее правильно.
– Сказано же тебе, и почему бы не делать так, как сказано? Ты держишь ее неправильно. Возьми ее снизу.
А в гостиной я изо всех сил сдерживался, чтобы не крикнуть: «Идиот, ты на пороге смерти, да пусть ее открывает банку, как хочет», – и в то же время говорил себе: «Оно конечно. Как открыть банку супа. О чем же еще сейчас думать? Что, кроме этого, имеет значение? Что, как не это, помогло ему продержаться восемьдесят шесть лет и что, как не это, скорее всего, поможет продержаться и теперь. Возьми банку снизу, Лил, он говорит дело».
И опять он раскипятился – на этот раз из-за того, так или не так Лил разогревает суп. Накрыв стол на троих, он вернулся в кухоньку – торчал около плиты у нее над душой. Она твердила, что суп еще не разогрелся, он твердил, что давным-давно разогрелся: целый день что ли нужно разогревать банку овощного супа? И так повторилось раза четыре, пока терпение отца, если только к нему применимо это слово, не лопнуло и он, схватив кастрюлю, оставил Лил у плиты ни с чем, ринулся в столовую, разлил суп по тарелкам, по столу, на салфетки. Зрение у него было плохое, и, надо надеяться, он не видел, какую грязь развел.
Суп был холодный. Но ни я, ни Лил не упомянули об этом. Сам же он, скорее всего, ничего не заметил.
Посреди этого безмолвного обеда он, как бы походя, сказал: «Дело идет к концу», – продолжая тем не менее отправлять суп ложка за ложкой в съехавший на сторону рот, пока не опустошил тарелку и не изукрасил рубашку пятнами – можно подумать, он ее разрисовывал супом.
Когда я собрался ехать в Нью-Йорк, он удалился в спальню и принес оттуда сверток. Обернутый в два бумажных пакета, обвязанный лентами скотча, перекрученными как нити ДНК. Упаковка выдавала его авторство, да и руку его я узнал – на верхнем пакете маркером кривыми заглавными буквами было надписано «От отца сыну».
– Держи, – сказал он. – Увези домой.
Внизу, в машине, я сорвал упаковку – в свертке была бритвенная кружка деда.