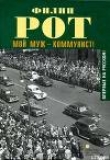Текст книги "По наследству. Подлинная история"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Лил до ухода на пенсию, на что, никак того не желая, решилась под натиском отца, работала в конторе по поставке автозапчастей, владельцем которой по воле случая оказался мой друг детства Ленни Лонофф – его семья жила через дорогу от нас, когда мы с ним учились в начальной школе. Лил переехала в дом, где жил отец, вскоре после смерти мужа и жила там с одним из двоих своих пасынков, Кенни, чья финансовая хватка была, по мнению отца, не на уровне. Отцу не нравилось, как Кенни ведет дела, не нравилось ему также и как Ленни Лонофф управляет своей конторой. Когда отец излагал Лил свои претензии, она вместо того, чтобы оборвать его, сказать, что он ничего в этом не смыслит или чтобы он оставил свои соображения при себе, безропотно слушала его, и эта ее кротость, насколько я понимаю, и пленила отца куда больше, чем рубенсовская пышность форм – в ней он вскоре стал видеть следствие обжорства, которому Лил продолжала предаваться, хоть он и пилил ее за каждое блюдо, за каждый кусок. Еда была единственной местью Лил, и, как и в случае с опухолью, отец, сколько бы ни ярился, ничего не мог тут поделать.
Он не мог понять, что такие, как у него, самооограничение и железная самодисциплина – нечто из ряда вон выходящее и далеко не всем даны. Он полагал, что раз они есть у человека с его изъянами и ограниченными возможностями, значит, есть и у всех. Ведь тут нужна только сила воли – можно подумать, сила воли растет на деревьях. Он неуклонно исполнял свой долг перед теми, за кого чувствовал ответственность, и оттого, вероятно, кидался искоренять их – с его точки зрения – недостатки так же безоглядно, как кидался помогать им в их – иногда ошибочно понимаемых им – нуждах. И так как человек он был властный и к тому же в самой его сердцевине таилось чистопородное, допотопное невежество, он даже не представлял, до чего бессмысленны, докучны, а временами и жестоки его наставления. А скажи ему об этом, он стал бы уверять, что лошадь можно привести к водопою и заставить пить – достаточно цукать и цукать ее, пока она не опомнится и не начнет пить. (Цукать – идишизм, в данном случае он означает – приставать, заставлять, донимать предостережениями, наставлениями и просьбами, иными словами, проедать плешь.)
Как-то, когда они с Лил уехали в декабре в Уэст-Палм-Бич, отец отправил оттуда письмо моему брату, исписал лист из блокнота с обеих сторон своим старательным почерком. Сэнди предостерег его: хорошо бы во Флориде, когда они с Лил останутся одни, ради мира в доме поменьше выговаривать ей, и прежде всего за ее склонность плотно поесть. Хотелось бы также, присовокупил Сэнди, чтобы отец был по-снисходительнее и к Джонатану, младшему сыну Сэнди, он в ту пору только начал зарабатывать по-настоящему, стал торговым представителем фирмы «Кодак», и отец каждую без исключения неделю звонил ему, писал письма и в них, не зная, как водится, пощады, наставлял Джонатана не сорить деньгами, а откладывать их.
Дорогой Сэнди
Я так думаю есть два типа филасофии. Есть люди участливые и люди безучастные. Есть люди деятельные и валынщики, которые ничего не делают и никому не помогают.
Я вернулся с работы, почувствовал себя скверно, вы с Филом были тогда еще маленькие. Мама готовила обед. Я не стал обедать, а прошел в гастиную. Уже через час приехал доктор Вейсс – его вызвала мама. Так развевались события, доктор спросил, что со мной. Я объяснил. У меня болело за грудиной, он меня осмотрел и сказал, что не находит ничего серьезного. После чего спросил, чем я злоупотребляю. Я сказал, что много курю, а больше ничего лишнего себе не позволяю. Доктор Вейсс сказал: а что если курить не двадцать четыре, а три сигареты в день. Я сказал: а почему бы вовсе не бросить курить и спустя неделю у меня перестало болеть сердце, а курить я бросил полностью. Мама не осталась безучастной, доктор Вейсс посоветовал, я прислушался. В этом мире есть много советчиков, а также людей небезучастных и деятельных, ну и людей прислушивающихся. В жизни и так полно опасностей, а люди еще позволяют себе бог знает что: много курят, пьют, принимают наркотики, а кое-кто и объедается. А ведь от всего от этого можно заболеть, если не вовсе умереть.
Ты хотел иметь дом. Я тут же достал деньги. Почему? Да потому что я не остался безучастным. Филу потребовалось оперировать грыжу. Я повез его к доктору, и его оперировали. То же и с мамой, а ведь она проболела до этого двадцать семь лет. Почему, да потому что я не был безучастным и бездеятельным. Ее родители волновались – как не волноваться, – но я чувствовал боль их обоих, как свою, и я не валынил. Я говорю Джонатану, я цукаю его. Я повторяю самые разные избитые выражения такие, как «Денежки любят счет», «Береги денежки про черный день» (а когда он говорит: еще неизвестно придет ли он твой черный день, я говорю: от черного дня никто не застрахован), и не раз говорю, и не два, а говорю и говорю – или цукаю, а почему: потому что он не может взять себя в руки, все равно как запойный пьяница или наркоман. Почему я не перестаю цукать? Я понимаю, что он не знает, как от меня отвязаться, но я вмешиваюсь: мне не все равно, что будет с людьми, мне небезразличными, и я стараюсь их исправить, пусть даже они и упрямятся и не желают быть десциплинированными (дисцеплинированными?), и я сам тут не исключение. У меня не всегда спокойна совесть, но я адолеваю дурные мысли. Мне не безразлично, что с ними будет, и я забочусь о них по-своему.
Извини, что пишу коряво и с ошибками. Я и всегда не очень хорошо писал, а теперь пишу еще хуже. Глаза у меня уже не те.
Твой Цукарь, Неграмотей
с любовью,
папа.
Чтобы вести войну за здоровье
Близких людей – не жалею крови!
– Вы что, поссорились с Лил? – спросил я, когда, войдя в квартиру, увидел, что он один.
– Она все равно где-то пропадает, так в чем разница? Бегает туда, бегает сюда. Когда она болела, я с ней нянькался, не отходил ни на шаг. Ну ее. Пусть ее. Мне и без нее хорошо. Мне никто не нужен.
– Не хотелось бы лезть не в свое дело, – сказал я, – и все же, стоит ли ссориться в такое время?
– Я ни с кем не ссорюсь, – сказал он. – И никогда не ссорился. А если я что ей и говорю, так для ее же пользы. Не хочет меня слушать – скатертью дорога.
– Послушай, надень-ка свитер, туфли, я позвоню Лил и, если она захочет к нам присоединиться, пойдем погуляем. Погода прекрасная, что тол icy торчать взаперти в темной комнате, и все такое прочее.
– Мне хорошо взаперти.
И тут я произнес три слова – ничего подобного я за всю свою жизнь ему не говорил.
– Делай, как велено, – сказал я. – Надень свитер и туфли.
И они, эти три слова, сработали. Мне было пятьдесят пять, ему без малого восемьдесят семь, на дворе стоял 1988 год: «Делай, как велено», – сказал я, и он повиновался. Одна эпоха кончилась, настала другая.
Он пошел к шкафу, вынул ярко-красный свитер, белые кроссовки, я тем временем позвонил Лил и спросил: не хочет ли она погулять с нами.
– Ваш отец пойдет гулять? – спросила она. – Я вас верно поняла?
– Да. Спускайтесь, присоединяйтесь к нам.
– Я ему предложила: погуляем, тебе пойдет на пользу, и что – он меня чуть не убил. Не хочу ругать его, Филип, но что есть, то есть. Он слушает только вас.
Я засмеялся.
– Долго это не протянется.
– Спускаюсь, – сказала она.
Мы втроем прошли три квартала старых многоквартирных домов и новых домов жилых товариществ – они выросли там, где некогда высились последние элизабетские особняки затейливой викторианской архитектуры, – до аптеки. Той же дорогой, которая подорвала мамины силы в день ее смерти. Лил поддерживала его под одну руку, я – под другую, он ходил неуверенно: у него ослабло зрение. Всего несколько месяцев назад он терпеливо ждал, когда на зрячем глазу созреет катаракта, и ее наконец можно будет удалить. Теперь же вместо того, чтобы дожидаться, когда несложная операция вернет ему зрение, а с ней – в чем он не сомневался – и его неизменную независимость, он обдумывал: решиться ли ему на черепно-мозговую операцию, которая может оказаться смертельной.
На прогулке он предался воспоминаниям, то и дело перескакивая с одного на другое.
– Память у меня уже ни к черту, – объяснил он.
Но это было не совсем так. События он излагал непоследовательно и далеко не всегда четко, но за логическим ходом его воспоминаний было трудно уследить и в лучшие времена. При всем при том он без труда вспоминал имена людей, умерших двадцать, тридцать, сорок лет назад, помнил также и где они жили, и кто с кем состоял в родстве, и что они сказали ему или он им по тому или иному, отнюдь не обязательно примечательному, поводу.
По линии отцовской матери мы принадлежали к разветвленной семье, объединившейся к 1939 году, к началу войны в Европе, в семейную ассоциацию. В годы моего детства в ассоциации состояло примерно восемьдесят семей из Ньюарка, включая окрестности, и примерно семьдесят семей из Бостона с окрестностями. Ассоциация ежегодно устраивала семейный слет и летнюю вылазку за город, ежеквартально выпускала семейную газету; имелась у нее и семейная песня, и семейная печать, и семейная почтовая бумага; ежегодно каждому члену семьи посылался реестр с именами и адресами каждого члена ассоциации; фонд «Удачный день» помогал больным и оправляющимся после болезни, образовательный фонд помогал детям членов клана оплачивать обучение в колледже. В 1943-м Германа Рота избрали президентом ассоциации – пятым по счету и вторым из его братьев. Первым своим вице-президентом он сделал Гарольда Чабана из Роксбери (штат Массачусетс). Гарольд был сыном Макса Чабана и Иды Флашнер и приходился племянником Сэму Флашнеру– Сэм первым из наших приехал в Америку. Вторым вице-президентом отец сделал Германа Гольдстайна из Нью-Йорка. Гольдстайн – шляпник, как и Сендер Рот, – любил играть в карты с Лейбовицем, а женился на Берте, той племяннице, что приехала в 1913-м со своей сестрой Силией с прежней родины и поселилась в семье отца на Ратжерс-стрит. Помощником казначея он сделал свою жену Бесс, мою маму, помощником секретаря – свою невестку Бердин, жену Берни, помощником историографа – свою младшую сестру Бетти… Все это он сообщил нам с Лил, пока мы прохаживались по Норт-Брод-стрит.
– Наша ассоциация, – рассказывал он, – в ту пору была одной из самых больших и мощных ассоциаций такого рода в Штатах.
Точно так же он в моем детстве оповещал меня, что «Метрополитен лайф» – «крупнейшая финансовая компания в мире». Словом, может, мы люди и не выдающиеся, но связи у нас ого-го какие.
Вдруг ни с того ни с сего он сказал:
– Когда мы с мамой переехали сюда из Ньюарка, в этой части Элизабета жили одни евреи. Не когда она была девочкой, тогда нет, конечно же нет. Тогда тут жили ирландцы. Все как один католики. Теперь их тут не увидеть. Теперь тут испанцы, корейцы, китайцы, черные. Америка что ни день меняется.
– Твоя правда, – сказал я. – Мой друг называет Четырнадцатую улицу в Манхэттене Пятой авеню Третьего мира.
– Когда отец продал наш дом на Ратжерс-стрит, он продал его итальянской семье.
– Вот как? И сколько он за него выручил? В каком это было году?
– Я родился в 1901-м, на Ратжерс-стрит родители переехали в 1902-м, прожили мы там четырнадцать лет, значит, дом продали в 1916-м. Шесть тысяч долларов – вот сколько отец за него получил. Итальянцы заплатили ему монетами по пять, десять центов и четвертаками. Мы целую неделю их пересчитывали.
На подходе к Салем-авеню он указал на жилой дом на углу.
– Вот тут жила Милли.
Я это знал – как не знать: Милли, ее муж Джо Комиссар и моя двоюродная сестра Энн переехали сюда много лет назад, когда я еще учился в колледже. Милли, одна из двух маминых младших сестер, умерла семидесяти восьми лет, всего несколько месяцев назад, и, показывая мне ее дом, отец показывал не место, где она жила, а место, где она – та, которой уже нет, – уже не живет. Ее и Джо похоронили по одну сторону от мамы, участок, предназначенный отцу, был по другую сторону. Вот где теперь жила Милли.
– Отец, – сказал он, когда мы подошли к аптеке, к которой мама совершила последнюю долгую прогулку в жизни, – отец задал трепку моему старшему брату Эду: тот хотел жениться на беспутной женщине. Ничего другого ему не оставалось.
Дядя Эд был боксер, невероятно вспыльчивый, в детстве он брал меня с собой на футбол. Тяжелые кулаки, перебитый нос, грубый, строптивый нрав – все это привлекало меня, я был к нему привязан, но через час-два, к концу нашей вылазки, неизменно радовался, что он отец сестренки Флоренс, а не мой.
– Ты никогда мне этого не рассказывал, – сказал я. – Так дед задал ему трепку?
– А что ему еще оставалось? Так он его уберег. Уберег от этой женщины.
– Сколько лет было Эду?
– Двадцать три года.
В первый раз я услышал эту историю лет в шестнадцать – я тогда заканчивал среднюю школу. Не помню, к чему отец ее рассказал, помню только, что рассказал он ее за обедом, я возмутился, не дожидаясь конца обеда, выскочил из-за стола и, выбегая из комнаты, услышал, как он завершил ее: «Теперь что – теперь никакого удержу ни на кого нет». Мама пришла ко мне в комнату – уговаривала вернуться к столу, съесть десерт; умоляла простить папу, если его слова меня чем-то обидели: «Прошу тебя, сынок, прости его ради меня. Папа же не получил образования…» Но я был как кремень – отказался вернуться и доглотать свое порошковое желе за одним столом с человеком, который считает, что удержать мужчину двадцати трех лет, пусть даже такого дубинноголового, как мой дядя Эд, от любви к женщине, задав ему трепку, – дело достохвальное.
Отец, безусловно, запамятовал этот случай, запамятовал его и я вплоть до той минуты, тридцать девять лет спустя, когда, бог весть почему, ему взбрело в голову снова рассказать мне эту историю.
На этот раз его рассказ меня не возмутил. По правде говоря, на этот раз не кто иной, как я, сказал философически:
– Да уж, теперь никакого удержу на них нет.
– Вот именно. Мой брат Берни, да упокоится он с миром, знаешь, что он мне ответил, когда я ему сказал, чтобы он не женился на Бердин Блох? Ну и что, прав я был или не прав – они прожили вместе двадцать лет, родили двоих прекрасных детей, и чем дело кончилось: бракоразводным процессом, из-за которого перессорилась вся семья. Но когда я предостерег его против Бердин, когда сказал ему: «Берни, по виду она тебе в матери годится – оно тебе надо?», знаешь, что сказал он мне, мне, старшему брату, а ведь я хотел ему добра: «Не лезь не в свое дело». Мы с ним потом почти что год не разговаривали.
– Когда же это было? – спросил я.
– Когда – дай бог памяти – в 1927-м. Я женился на маме в феврале, а Берни на Бердин в июле.
– Я и не знал, что вы женились в один год, – сказал я.
Мы возвращались назад той же дорогой. Отец на некоторое время примолк. Потом так, словно после долгих и мучительных раздумий его осенило, как решить сложнейшую проблему, сказал:
– Да… да…
– Что да? – спросил я.
– А я прожил долгую жизнь.
– Ты же занимался страхованием, статистику знаешь. По статистике – ты в очень почтенной возрастной группе.
– Где эта опухоль? – спросил он во второй раз за два дня.
– Перед мозговым стволом. В основании черепа.
– Тебе показали снимки?
Мне не хотелось, чтобы он думал, будто мы много чего делаем за его спиной, без его ведома, и я солгал.
– Даже если бы и показали, что я в них понимаю? – сказал я. – Слушай, запомни одно – опухоль операбельная.
Впрочем, именно об этом он не мог забыть и именно это его больше всего и страшило.
– Если мы решимся на операцию, доктор Мейерсон извлечет опухоль, какое-то время уйдет на поправку, ну а дальше ты сможешь жить по-прежнему.
– А славно было бы прожить еще год-два, – сказал он.
– Проживешь, – сказал я.
Когда в воскресенье утром я снова приехал к нему, у него уже стоял наготове набор рюмок для хереса: он требовал, чтобы я увез их с собой, – все они по отдельности были упакованы в воскресную «Стар-леджер» за прошлую неделю и кое-как втиснуты в ботиночную коробку. Этими рюмками ни разу не пользовались, сказал отец, ему они ни к чему, а нам с Клэр пригодятся в нашем деревенском доме, и он хочет их нам отдать.
Всякий раз, после маминой смерти, приезжая к нам в Коннектикут погостить, отец прихватывал с собой что-то в бумажном ли, пластиковом ли пакете, в клетчатом ли чемоданчике и не выпускал из рук все три часа, пока местный водитель, которого мы посылали за ним, вез его к нам из Элизабета. Как правило (рюмки для хереса – исключение), отец привозил какой-то подарок ему и маме от Клэр или от меня, и теперь, много лет спустя, возвращал их так, словно ему их дали на время или на хранение.
– Вот эти салфетки.
– Какие еще салфетки?
– Из Ирландии.
– Ирландии?
Значит, я подарил их ему в 60-м году, когда получил Гуггенхаймовскую стипендию. Мы с моей тогдашней женой остановились по пути домой в Ирландии – решили побродить по Дублину Джойса.
– А вот и скатерть, – добавил он. – Из Испании.
1971-й. Барселона Гауди[20]20
Антонио Гауди (1852–1926) – великий испанский архитектор.
[Закрыть].
Или:
– А вот соломенные подставки. По-моему, мама, если и пользовалась ими, так раза два, не больше. У нее они были парадные, для гостей.
– А вот столовые ножи.
И:
– А вот ваза.
И:
– Вот кофейные чашки.
Поначалу я возражал, втолковывал ему:
– Но они же твои. Мы же подарили их тебе, – на что он чаще всего отвечал, даже не подозревая, что ответ его звучит обидно:
– На кой они мне ляд? Посмотри на эти часы. Отличные часы – нам их кто-то подарил. Небось, дорогущие. На черта они мне сдались?
Часы эти обошлись мне в 1973 году, в Венгрии, сотни в две долларов. Маленькие фарфоровые часы с цветочным орнаментом в мамином вкусе я купил ей в подарок однажды весной в Будапеште в антикварном магазинчике, возвращаясь домой после поездки к друзьям в Прагу. И я, ни слова не говоря, забрал их. Постепенно я забрал назад все, каждый раз поражаясь, что ему не были дороги ни как память, ни хотя бы как ценность, эти вещи – материальные свидетельства любви самых близких ему людей. Странно, думал я, что эти подарки – пустой звук для человека, над которым семейные обязательства имеют такую власть, впрочем, по всей вероятности, и ничуть не странно: ну могла ли неодолимая сила кровных уз воплощаться в каких-то сувенирах? Один за другим я принимал обратно свои подарки, точь-в-точь как бывалый служащий отдела возврата большого универмага, и все же задавался вопросом: не думал ли он, заворачивая подарки в старые газеты и запихивая их в коробки из-под всего на свете, что благодаря этому после его похорон нам не придется ломать голову, как распорядиться его пожитками. Он мог быть трезвым до беспощадности, но я не зря был его сыном, я тоже мог быть трезвым – и еще каким!
На этот раз я не взял назад подарки, как обычно не говоря ни слова, а напомнил, что пока еще живу в нью-йоркской гостинице, не знаю, когда выберусь в Коннектикут, и лучше бы ему оставить рюмки у себя.
– Забери их, – не отступался он. – Я хочу от них избавиться.
– Пап, – сказал я и поставил коробку на буфет, где, как я предполагал, рюмки и хранились, – эти рюмки – не самая большая из наших забот.
Но пока он мотался по квартире, думая, от чего бы еще избавиться, отыскивал рюмки, заворачивал их в газету, отыскивал ботиночную коробку – его день, пусть ненадолго, обретал цель, и он, пусть ненамного, меньше ощущал горечь страшных потерь. А теперь ему оставалось одно – снова трястись от страха. И я вдруг пожалел, что помешал ему поступить по-своему и не забрал эти треклятые рюмки в гостиницу. Впрочем, я и сам дошел.
– Я всю жизнь так поступал, – сказал он и с жалким видом забился на свое привычное место в угол дивана.
– Как так?
– Опрометчиво.
До сих пор я не замечал в нем склонности к самокритике и подумал: а хорошо ли это? В восемьдесят шесть лет, да еще при огромной опухоли мозга, лучше не снимать шор, которые помогали ему всю жизнь тащить, ни на что не отвлекаясь, ношу и дальше.
– На твоем месте я бы не беспокоился, – сказал я. – Пусть ты и поступаешь опрометчиво, но не всегда. Бывает, ты поступаешь и осмотрительно, и осторожно. В тебе много чего намешано. Как и во всех.
Но его что-то тяготило, и мои слова его не утешили.
– О чем ты думаешь? – спросил я.
– Я отдал свои филактерии. Избавился от них.
– Почему?
– Они занимали место в ящике.
Филактерии – две кожаные коробочки с библейскими изречениями внутри – ортодоксальные евреи каждый день поутру прикрепляют тонкими ремешками: одну на лоб, другую на левую руку для молитвы. Раньше, когда папа был загруженным сверх головы страховым агентом, он мало связывал свое еврейство с обрядовой стороной религии, и, как и большинство наших соседей, американских отцов первого поколения, посещал синагогу лишь по Великим праздникам, ну и как плакальщик, если того требовали обстоятельства. Да и дома никаких обрядов не соблюдал. Однако после выхода отца на пенсию родители, в последние десять лет жизни мамы особенно, посещали службы, как правило, по вечерам в пятницу, и, хоть он и не накладывал филактерии – так далеко дело не зашло, иудаизм его стал более связан с синагогой, службами и раввином, чем всю остальную жизнь, за исключением детства.
Синагога находилась метрах в ста в узеньком проулке, ответвлявшемся от Норт-Брод-стрит, в старом доме, который арендовала небольшая община местного старичья, с трудом наскребавшая деньги на ее содержание. Как ни странно, кантор был даже не еврей, а болгарин, скорее всего потому, что нанять никого другого им было не по карману; всю неделю он работал в нью-йоркской аукционной фирме, а по субботам пел для крохотного сообщества элизабетских евреев. После службы он иногда баловал их – пел песенки из «Йентл» и «Скрипача на крыше»[21]21
«Йентл» (1983) – фильм Барбры Стрейзанд, в котором она играла главную роль. «Скрипач на крыше» (1964) – мюзикл по рассказам Шолом-Алейхема на музыку Джерри Бока.
[Закрыть]. Отцу нравился низкий баритон болгарина, он приятельствовал с ним; высоко ставил он и студента ешивы[22]22
Ешива – еврейское религиозное высшее учебное заведение.
[Закрыть], двадцатитрехлетнего юнца, приезжавшего из Нью-Йорка по уик-эндам вести службы, – отец уважительно обращался к нему «ребе» и почитал его мудрецом.
Как ни скромны были проявления отцовской тяги к религиозной обрядности в старости, порождало их отнюдь не ханжество или желание соблюсти приличия; регулярное посещение синагоги, по всей видимости, давало ему утешение, сообщало его долгой жизни чувство нераздельности, единения, по его словам, с отцом и матерью, вот отчего его «избавление» от филактерий, даже при том, что он имел обыкновение не хранить, а выбрасывать дорогие как память вещи, ставило в тупик. А так как иудаизм стал для него теперь чем-то вроде связующего звена между одиночеством старости и напряженной, густонаселенной жизнью, оставшейся, в сущности, в прошлом, я без труда мог представить, что он не только не освобождается от филактерий, а, напротив, от одного их созерцания проникается древней магической силой.
Впрочем, такая сцена: старик задумчиво гладит давно заброшенные филактерии – была бы и впрямь не чем иным, как сентиментальным китчем, еврейской пародией на «Земляничную поляну»[23]23
«Земляничная поляна» (1957) – фильм Ингмара Бергмана, в основе которого – мотив возврата человека к своему прошлому.
[Закрыть]. Способ, каким отец избавился от филактерий, говорил о воображении куда более дерзновенном и непостижимом, порожденном собственной символической мифологией, не менее причудливой, чем беккетовская или гоголевская.
– Кому ты их отдал?
– Кому? Никому.
– Ты их выбросил? На помойку?
– Нет, конечно же нет.
– Отдал в синагогу? – я не знал, что делают с филактериями за ненадобностью или непригодностью, но полагал, что существуют какие-то правила, предусмотренные на этот счет синагогой.
– Тебе случалось бывать в «Y»? – спросил он.
– Разумеется.
– Когда я еще водил машину, я ездил туда по утрам три-четыре раза в неделю плавать, трепаться, смотреть, как играют в карты…
– Ну и?
– Так вот туда я и пошел. В «Y»… Филактерии положил в бумажный пакет. В раздевалке никого не было. Я оставил их там… В одном из шкафчиков.
Поведал он мне все это, запинаясь; похоже, глядя из сегодняшнего дня на разработанный им не вполне обычный план избавления от филактерий, он испытывал смятение, поэтому следующий вопрос я задал ему чуть погодя.
– Мне интересно, – наконец решился я. – Как так случилось, что ты не пошел к раввину? Не попросил его забрать их?
Он пожал плечами, и я понял, что он не хотел посвящать раввина в свой план: опасался, какое мнение составится у этого двадцатитрехлетнего юнца, которого он так почитал, о еврее, желающем избавиться от филактерий. А что, если я и тут ошибся? Может быть, он и думать не думал о раввине – потому-то он и пожал плечами; может быть, его вдруг осенило, что в этом укромном месте, где еврейские мужчины расхаживают нагишом, не стесняясь друг друга, он может оставить филактерии безбоязненно: понимал, что там с ними не случится ничего плохого, там над ними никто не надругается, там их не осквернят, и – как знать, – а вдруг именно там, среди этих, таких привычных, еврейских животов и членов, они освятятся вновь. Не исключено, что он вовсе не совестился юнца, которому еще только предстояло стать раввином, просто раздевалка в местной «Y» была ближе раввинических наставлений в синагоге к той сути иудаизма, которой он жил, – вот что означал его поступок, и поэтому для него было крайне неестественно отнести филактерии раввину, пусть даже раввину стукнуло бы сто лет и у него была бы борода до пупа. Да, раздевалка в «Y», где в сугубо мужском обществе мужчины, знающие назубок все складки и выемки своих изношенных, старых, оплывших тел, болтали, разоблачались, пускали газы, похвалялись, рассказывали скоромные анекдоты и когда-никогда совершали сделки – вот где был их храм, вот где они оставались евреями.
Я не спросил, почему он не отдал филактерии мне. Не спросил, почему он всучивал мне эти бесконечные салфетки и скатерти, вместо того чтобы отдать филактерии. Я бы не стал в них молиться, но я благоговейно хранил бы их, а после его смерти и подавно. Но откуда ему было знать? Он, наверное, думал, что я поднял бы его на смех за одно только предложение отдать филактерии мне, и сорок лет назад оказался бы прав.
Не спросил потому, что, поступи он так, мы оба вернулись бы к тому слюнявому сценарию, от которого мне, похоже, никак не отвязаться. Как ни парадоксально, но что касается его филактерий, так это я тяготел к затасканно-сентиментальным вариантам, его же поступок свидетельствовал о достоинстве подлинно самобытного таланта, подвигнутого стихийным порывом чувств, который поднимает до уровня ритуала даже самые дурацкие действия.
– Что ж, – сказал я, поняв, что больше он ничего не добавит, – то-то удивился один из твоих дружков, вернувшись после бассейна. Не иначе как счел, что свершилось чудо. Оставил на нижней полке шкафчика сабо, а они – на тебе – обернулись филактериями. Чем не доказательство не только бытия Бога, но и бытия Бога в высшей степени тороватого.
Ни тени улыбки не промелькнуло на его лице – может быть потому, что мои слова до него не дошли, а может быть, как раз наоборот.
– Нет, – ответил он на полном серьезе. – В раздевалке не было ни души.
– И когда же ты их туда отнес?
– В ноябре. Дня за два до отъезда во Флориду.
Вот значит что… скорее всего он думал так: «Если я умру во Флориде, если не вернусь оттуда… нельзя, никак нельзя, чтобы филактерии очутились на помойке».
– Тогда, тридцатого ноября, мы улетели в Уэст-Палм. Я сам донес свой багаж до такси – так хорошо себя чувствовал. А на следующее утро, первое мое утро во Флориде, проснулся – и вот что со мной приключилось во сне. – И он снова подпер обвисшую щеку кончиками пальцев в надежде: а вдруг на этот раз щека расправится. – Я посмотрелся в зеркало, увидел свое лицо и понял: к прежней жизни возврата нет. Иди сюда, – сказал он. – Иди в спальню.
Я прошел за ним по коридору из гостиной в спальню мимо увеличенных фотографий моих племянников – их снимали четверть века назад, когда они, еще детьми, проводили каникулы на Файр-Айленде. Почему отцу не пришло в голову передать филактерии Сету или Джонатану, понять несложно, труднее понять, почему он не отдал их мне. Мои племянники, выросшие во внерелигиозном этносе, не имевшие понятия об иудаизме, евреями были лишь номинально; мой отец, как и мама, обожал их, беспокоился о них, восхищался ими, щедро оделял их деньгами и советами, слушать которые они не очень-то хотели, во всяком случае в таком количестве, но ему было ясно, что они знать не знали, что такое филактерии, и тем более не хотели бы их иметь.
Что же касается моего брата, то отец, скорее всего, думал, что Сэнди так же, как и я, такому дару рад не будет, хотя, по моим предположениям, Сэнди этот сувенир мог бы растрогать не по причине его религиозной сущности, а как овеществленное свидетельство нашего прошлого, предмет, на его и на моей памяти долгие годы лежавший в ящике буфета аккуратнейшим образом сложенный, в бархатном мешочке, в квартире, где мы с ним выросли. Однако наш отец – надо его знать – никогда бы этого не понял, вот уж нет. Он, как и все мы, понимал только то, что понимал, зато уж потом стоял на этом насмерть.
Теперь, стоило мне только войти в отцову спальню, и я неизменно вспоминал ту ночь после маминой смерти, когда, прилетев из Лондона, делил с ним их двуспальную кровать. Сэнди и Хелен уехали ночевать в загородный дом Сэнди в Энглвуд-Клифс, где пока что жили Сет и Джонатан, оба уже работали; дом этот Сэнди собирался вскоре продать: он теперь работал в Чикаго, куда и переселился.
В мае 1981-го, в семьдесят девять лет, отец был отменно здоров и на редкость бодр, однако через сутки после того, как мама упала замертво в рыбном ресторане, он выглядел ничуть не лучше, чем сейчас, когда его обезобразила опухоль. В ту первую ночь, когда мы спали с ним в одной кровати, я перед сном дал ему пять миллиграммов валиума со стаканом теплого молока; отец терпеть не мог транквилизаторов и снотворных – сурово осуждал тех, кто прибегал к ним вместо того, чтобы, по его примеру, полагаться на силу воли, однако в ту ночь и еще несколько недель потом, он, после того как я сказал, что валиум поможет ему заснуть, безропотно принимал валиум (хотя позже для очистки совести предпочитал именовать валиум драмамайном). Мы по очереди сходили в ванную, потом, уже в пижамах, улеглись бок о бок в постель, где две ночи назад он спал с мамой: другой кровати в квартире не было. Выключив свет, я взял его за руку и держал так, как держат руку ребенка, боящегося темноты. Отец минуту-две рыдал, затем раздалось прерывистое, тяжелое дыхание – он крепко заснул, и я повернулся на бок: мне и самому надо было отдохнуть.
Но и полчаса спустя – я-то валиума не принял – я лежал без сна, и тут на тумбочке с моей стороны кровати зазвонил телефон. Я схватил трубку: испугался, что разбудят отца, и услышал на другом конце провода хохот.