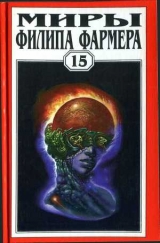
Текст книги "Миры Филипа Фармера. Том 15. Рассказы"
Автор книги: Филип Хосе Фармер
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Полицейские получают срочный вызов на площадь перед Центром народного искусства – там драка между местными подростками и чужаками из Вествуда грозит перейти в побоище. Из таверны выходит Бенедиктина. Несмотря на полученные несколько ударов по плечам и животу, хороший пинок в зад и увесистую пощечину, у нее не заметно никаких признаков выкидыша.
Чиб наполовину с грустью, наполовину с радостью смотрит ей вслед. Ему горько от того, что этому ребенку будет отказано в праве на жизнь. Теперь он понимает, что выступал против абортов отчасти потому, что отождествляет себя с эмбрионом; он знает то, что, по мнению Деда, ему неизвестно. Он понимает, что его появление на свет было случайностью – счастливой или несчастной. Если бы обстоятельства сложились иначе, он бы не родился. Мысль о небытии – ни живописи, ни друзей, ни смеха, ни надежды, ни любви – приводит его в ужас. Мать, постоянно пьяная и не думавшая о контрацепции, сделала множество абортов, и он мог оказаться одним из них.
Глядя, как Бенедиктина удаляется с величественным видом (несмотря на изорванную одежду), он не может понять, что вообще в ней нашел. Жить с ней, даже при наличии ребенка, было бы не таким уж большим удовольствием.
В устланное надеждой гнездо рта Снова влетает любовь и садится,
Распускает перья, воркуя, слепит их светом,
А потом улетает прочь и при этом гадит,
Как всегда поступают птицы,
Чтобы сила отдачи помогла им взлететь.
Омар Руник
Чиб возвращается домой, но по-прежнему так и не может попасть в свою комнату. Он идет в кладовую. Картина на семь восьмых готова, но еще не закончена, потому что она ему не нравится. Он забирает ее и несет к Рунику, дом которого расположен в той же грозди. Сам Руник – в Центре, но он всегда, уходя, оставляет дверь открытой. У него есть все для живописи, и Чиб принимается заканчивать картину, работая куда старательнее и увереннее, чем тогда, когда начинал ее писать. Потом он выходит из дома Руника, неся огромное овальное полотно над головой.
Он шагает мимо пьедесталов, под их изогнутыми ветвями с яйцевидными жилищами на концах. Он обходит несколько маленьких, заросших травой парков, проходит под домами и через десять минут уже приближается к сердцу Беверли-Хиллз. И здесь быстрый Чиб видит, что
В ПОЛУДЕННОМ СОЛНЦЕ ТРИ ДАМЫ
сидят в каноэ, медленно скользящем по озеру. Марьям-бинт-Юсуф, ее мать и тетка, рассеянно держа удочки, глядят на разноцветные флаги, оркестры и шумную толпу перед Центром народного искусства. Полицейские уже разогнали дравшихся подростков и теперь стоят повсюду, чтобы больше никто не вздумал ничего устроить.
Все три женщины одеты в темные, глухие платья фундаменталистской секты магометан-ваххабитов. Лица у них не закрыты: сейчас даже ваххабиты этого не требуют. На их братьях-египтянах, гуляющих по берегу, одежда современная – бесстыдная и греховная. Тем не менее дамы на них глазеют.
Их мужчины стоят на краю толпы. Заросшие бородами и наряженные наподобие шейхов в фидошоу «Иностранный легион», они бормочут гортанные проклятья и злобно шипят при виде того, как возмутительно здешние женщины выставляют напоказ свое тело. Тем не менее они на них глазеют.
Эта небольшая компания прибыла сюда из зоологических заповедников Абиссинии, где их задержали за браконьерство. Тамошние власти предложили им выбрать любое из трех наказаний. Или заключение в реабилитационном центре, где их будут держать до тех пор, пока они не исправятся, даже если на это уйдет вся их оставшаяся жизнь. Или эмиграцию в мегаполис Хайфа, в Израиле. Или эмиграцию в Беверли-Хиллз.
Что, жить среди проклятых израильских евреев? Они долго плевались и выбрали Беверли-Хиллз. Увы, Аллах посмеялся над ними! Теперь их окружают Финкелстайны, Эпплбаумы, Зигели, Вайнтраубы и прочие неверные потомки Исаака. Хуже того, в Беверли-Хиллз нет мечети. Они либо отправляются каждый день за сорок километров на 16-й уровень, где мечеть есть, либо совершают намаз в частных домах.
Чиб поспешно подходит к облицованной пластиком кромке озера, кладет на землю свою картину и низко кланяется, сорвав с головы несколько помятую шляпу. Марьям улыбается ему, но спутницы тут же делают ей замечание, и улыбка исчезает с ее лица.
– Ya kelb! Ya ibn kelb! – кричат на него обе.
Чиб усмехается, машет им шляпой и говорит:
– И я тоже очень рад, прекрасные дамы! Вы напоминаете мне трех граций!
Потом он выкрикивает:
–Я люблю тебя, Марьям! Я люблю тебя! Ты для меня – как роза Шарона! Прекрасная, волоокая, девственная! Оплот невинности и силы, ты полна жажды материнства и беспредельной преданности единственному по-настоящему любимому! Я люблю тебя, ты для меня луч света на черном небосводе с мертвыми звездами! Я взываю к тебе через бездну!
Марьям понимает всемирный английский, но ветер относит его голос в сторону. Она жеманно улыбается, и Чиб на мгновение испытывает чувство невольного отвращения, вспышку гнева, словно она в чем-то предала его. Но он преодолевает свои чувства и кричит:
– Я приглашаю тебя на выставку! Вы с матерью и тетей будете моими гостями. Ты увидишь мои картины, мою душу, и поймешь, что за человек собирается увезти тебя на своем Пегасе, голубка моя!
Нет ничего смешнее словесных излияний молодого влюбленного поэта. Сплошные нелепые преувеличения. Мне смешно. Но в то же время я тронут. Как бы я ни был стар, я помню свои первые влюбленности, жаркое пламя, потоки слов, одетых в молнии и окрыленных болью. Милые красотки, почти все вы умерли, а остальные увяли. Я посылаю вам воздушный поцелуй.
Дед
Мать Марьям встает в лодке во весь рост. На мгновение она поворачивается к Чибу боком, и он может видеть, какой хищный профиль будет у Марьям в ее годы. Сейчас у Марьям лишь слегка орлиный нос – «изгиб любовной сабли», как назвал его Чиб. Немного крупный, но прекрасный. Однако ее мать похожа на грязного старого орла. А тетка на орла не похожа, зато в ее лице есть что-то верблюжье.
Чиб отгоняет от себя эти нелестные, даже предательские сравнения. Но он не может отогнать трех бородатых и неумытых мужчин в развевающихся одеждах, которые окружили его. Чиб улыбаясь говорит:
– Что-то я не помню, чтобы я вас подзывал.
Они смотрят на него непонимающим взглядом: беглый лос-анджелесский английский для них полная абракадабра. Абу – общее прозвище любого египтянина в Беверли-Хиллз – хриплым голосом выкрикивает проклятье, такое древнее, что оно было известно жителям Мекки еще до Магомета. Он сжимает кулак. Другой араб делает шаг к картине и заносит ногу, словно хочет ударить по ней.
В этот момент мать Марьям обнаруживает, что стоять в полный рост в лодке не менее опасно, чем на спине верблюда. Даже опаснее, потому что ни одна из трех женщин не умеет плавать.
Не умеет плавать и пожилой араб, напавший на Чиба, который отступает в сторону и пинком ноги в зад сталкивает его в озеро. Один из арабов помоложе бросается на Чиба, другой принимается топтать картину. Услышав крики трех женщин и увидев, что те свалились в воду, оба застывают на месте, а потом кидаются к кромке озера. Чиб, упершись им в спины руками, сталкивает в воду и их. Полицейский слышит вопли всех шестерых, барахтающихся в озере, и подбегает к Чибу. Чиба охватывает тревога, потому что Марьям с трудом держится на воде. Ее ужас непритворен.
Чиб не понимает одного: почему все они так себя ведут. Ведь они должны доставать ногами дно – воды здесь всего по шею. Несмотря на это, похоже, что Марьям собирается утонуть. Другие тоже, но они его не интересуют. Он должен броситься в воду и спасти Марьям. Но если он это сделает, придется где-то добывать сухую одежду к открытию выставки.
Эта мысль вызывает у него громкий смех, который становится еще громче, когда он видит, что полицейский вошел в воду и направляется к женщинам. Он берет свою картину и, продолжая смеяться, уходит. К Центру он подходит уже совсем успокоившись.
«Как же это получилось, что дед оказался настолько прав? Как он ухитрился так хорошо меня понять? Неужели я так ветрен, так слаб? Нет, я слишком много раз испытывал слишком сильную любовь. Что же мне делать, если больше всего я люблю Прекрасное, а красотки, в которых я влюбляюсь, недостаточно прекрасны? Мои глаза слишком требовательны, они подавляют порывы моего сердца».
ИЗБИЕНИЕ НАИВНЫХ
Вестибюль (один из двенадцати), куда входит Чиб, проектировал Дед Виннеган. Сначала входящий попадает в длинную изогнутую трубу, на стенах которой под разными углами установлены зеркала. В конце этого коридора он видит треугольную дверь. Она выглядит слишком маленькой: кажется, будто в нее может войти самое большее девятилетний ребенок. Человек направляется к этой двери, и у него возникает иллюзия, будто он поднимается вверх по стене. К тому времени как он дойдет до конца трубы, у него создается твердое убеждение, что он стоит на потолке.
Но по мере приближения к двери она становится все больше и в конце концов оказывается огромной. Комментаторы высказывали догадку, что такой вход задуман архитектором как символическое изображение ворот, ведущих в мир искусства. Чтобы попасть в страну эстетических чудес, человек должен встать на голову.
Огромное помещение, куда человек попадает, войдя в дверь, сначала кажется ему вывернутым наизнанку или перевернутым вверх ногами. У него еще сильнее начинает кружиться голова. Дальняя стена представляется ему ближней, пока он наконец не сориентируется. Некоторые так и не могут с этим освоиться и выбегают наружу, боясь обморока или непреодолимого приступа тошноты.
Справа от входа стоит вешалка с надписью: «ПОВЕСЬТЕ ГОЛОВУ ЗДЕСЬ». Двойной каламбур, изобретенный Дедом, чьи шутки всегда чересчур замысловаты для большинства людей. Но если Дед выходит за рамки хорошего вкуса на словах, то его праправнук хватает через край в своих картинах. Здесь представлены тридцать последних его произведений, в том числе заключительные три из его «Собачьей серии»: «Созвездие Гончих Псов», «Пессимизм» и «Пес смердящий». Рескинзон и его ученики утверждают, что они тошнотворны. Лускус и его приверженцы хвалят их, но осторожно. Лускус велел им подождать с восторгами, пока он не переговорит с молодым Виннеганом. Фидорепортеры наперебой снимают и интервьюируют и тех и других в надежде вызвать скандал.
Главный зал здания представляет собой колоссальное полушарие с ярко освещенным потолком, на котором каждые девять минут сменяются все цвета спектра. Пол выложен квадратами, как огромная шахматная доска, и в центре каждого поля – лицо какого-нибудь выдающегося представителя той или иной области искусства: Микеланджело, Моцарта, Бальзака, Зевксиса, Бетховена, Ли Бо, Твена, Достоевского, Фармисто, Мбузи, Купеля, Кришнагурти и так далее. Десять полей оставлены пустыми, чтобы будущие поколения могли добавить сюда своих кандидатов на бессмертие.
Нижняя часть стены расписана фресками, изображающими важные события из жизни этих деятелей искусства. У изогнутой стены – девять эстрад, каждая отдана какой-то одной музе. Над каждой стоит на кронштейне гигантская статуя ее богини-покровительницы. Они обнажены и отличаются роскошными формами: огромные груди, широкие бедра, крепкие ноги, словно скульптор представлял их себе в виде богинь Матери-Земли, а не утонченных интеллектуалок.
Лица их, в сущности, копируют спокойные, безмятежные головы классических греческих статуй, но рты и глаза имеют какое-то странное выражение. Губы улыбаются, но кажется, что они готовы в любой момент сложиться в злобную гримасу. В глазах таится угроза. «НЕ СМЕЙ МЕНЯ ПРЕДАТЬ, – говорят они, – А НЕ ТО... »
Каждая эстрада перекрыта прозрачным пластиковым полушарием с особыми акустическими свойствами, благодаря которым звуки, идущие с эстрады, слышны только тем, кто стоит под ним.
Чиб проталкивается через шумную толпу к эстраде, посвященной Полигимнии – музе, в компетенцию которой входит и живопись. Он минует эстраду, где Бенедиктина изливает свинцовую тяжесть, лежащую у нее на сердце, превращая ее в алхимическое золото нот. Она замечает Чиба и ухитряется бросить на него злобный взгляд, продолжая улыбаться слушателям. Чиб делает вид, что ее не видит, но отмечает, что она переменила одежду, изорванную в таверне. Еще он видит множество полицейских, расставленных по всему зданию. Толпа как будто настроена мирно. Больше того, она выглядит счастливой, хотя и немного шумной. Но полиция знает, как обманчиво такое впечатление. Достаточно одной искры...
Чиб проходит мимо эстрады, посвященной Каллиопе, – на ней импровизирует Омар Руник. Он подходит к эстраде Полигимнии, кивает Рексу Лускусу, который приветственно машет ему рукой, и устанавливает на эстраде свою картину. Она называется «Избиение невинных» (подзаголовок: «Собака на сене»).
На картине изображен хлев.
Это пещера с причудливыми сталактитами. Свет, с трудом пробивающийся в пещеру, – любимый Чибом красный. Он пронизывает все предметы и, удвоив силу, выбивается наружу острыми, изломанными лучами. Глядя на картину с разных точек зрения, чтобы рассмотреть ее всю, зритель видит множество уровней света, перед ним мелькают мимолетные образы, скрытые внутри фигур первого плана.
В глубине пещеры стоят в стойлах коровы, овцы и лошади. Некоторые из них с ужасом смотрят на Марию и ее дитя. Другие хотят что-то сказать – очевидно, пытаются предостеречь Марию. Чиб воспользовался легендой, согласно которой в ночь рождения Христа животные в хлеву могли разговаривать между собой.
В углу сидит Иосиф, изможденный пожилой человек, такой сутулый, словно у него вообще нет хребта. На голове у него рога, но каждый рог окружен нимбом, так что все правильно.
Мария стоит спиной к охапке соломы, на которой должно лежать дитя. Из люка в полу пещеры протягивается мужская рука, которая кладет на солому огромное яйцо. Человек, которому принадлежит рука, находится в пещере, расположенной под первой пещерой. Он в современной одежде, выглядит нетрезвым и, подобно Иосифу, сутул, словно какое-то беспозвоночное. Позади него отвратительно толстая женщина, очень похожая на мать Чиба, держит ребенка, которого мужчина только что передал ей, перед тем как подложить вместо него на солому яйцо.
У ребенка изысканно прекрасное лицо, он весь залит белым сиянием своего нимба. Женщина сняла нимб у него с головы и острым краем разделывает ребенка на части, словно мясную тушу.
Чиб прекрасно знает анатомию, потому что, готовя кандидатскую диссертацию по искусству в Университете Беверли-Хиллз, множество раз вскрывал трупы. Тело ребенка не выглядит неестественно удлиненным, как многие из фигур Чиба. Оно более чем фотографично – кажется, что это настоящий живой ребенок. Через большую кровавую рану наружу вываливаются его внутренности.
У зрителя сжимается сердце, словно это не картина, а настоящее дитя, изрезанное и выпотрошенное, которое они обнаружили у себя на пороге, выходя из дома.
Скорлупа яйца полупрозрачна. В его мутном желтке плавает отвратительный крохотный дьявол с рогами, копытами и хвостом. Его расплывчатые черты напоминают одновременно Генри Форда и Дядю Сэма. А если рассматривать его с разных точек зрения, перед глазами появляются лица и других людей, внесших свой вклад в создание современного общества.
За окном теснятся дикие звери, пришедшие на поклонение, но оставшиеся, чтобы беззвучно реветь от ужаса. Впереди всех – те животные, которые истреблены человеком или остались только в зоопарках и заповедниках: дронт, голубой кит, странствующий голубь, квагга, горилла, орангутан, полярный медведь, кугуар, лев, тигр, медведь гризли, калифорнийский кондор, кенгуру, вомбат, носорог, белоголовый орел. Позади них стоят другие звери, а на пригорке виднеются темные силуэты притаившихся там тасманийского аборигена и гаитянского индейца.
– Каково ваше квалифицированное мнение об этом довольно оригинальном произведении, доктор Лускус? – спрашивает фидорепортер.
Лускус с улыбкой отвечает:
– Квалифицированное мнение будет у меня через несколько минут. Может быть, вам лучше будет сначала поговорить с доктором Рескинзоном. Он, кажется, вынес свое суждение сразу. Знаете, есть пословица про дурней и ангелов?
Фидокамера запечатлевает багровое от возмущения лицо Рескинзона и его яростные вопли.
– И это дерьмо сейчас разносится по всему миру, – громко замечает Чиб.
– Это оскорбление! Плевок в лицо! Пластиковая навозная куча! Пощечина искусству и пинок в зад человечеству! Оскорбление! Оскорбление!
– А почему это такое уж оскорбление, доктор Рескинзон? – спрашивает фидорепортер. – Потому что высмеивает христианскую веру, и панаморитскую тоже? Но мне так не кажется. Мне кажется, Виннеган пытается показать, что люди извратили христианство, а может быть, и все религии, все идеалы, в угоду собственной алчности и тяге к самоуничтожению, что человек по своей сути – убийца и извратитель. По крайней мере у меня это вызывает такие мысли, хотя, конечно, я не специалист, и...
– Предоставьте анализ критикам, молодой человек! – отрезает Рескинзон. – У вас есть две кандидатские степени – по психиатрии и по искусству? У вас есть правительственная лицензия критика? Виннеган лишен какого бы то ни было таланта, не говоря уж о гении, о котором разглагольствуют разные болваны, мороча голову сами себе. Это позорище Беверли-Хиллз демонстрирует нам здесь свой хлам – попросту какую-то мешанину, привлекающую внимание исключительно новой техникой живописи, которую мог бы изобрести любой электронщик. Меня приводит в ярость, что с помощью обыкновенного трюка, самого тривиального новшества можно одурачить не только определенную часть публики, но и высокообразованных, уполномоченных федеральным правительством критиков, например присутствующего здесь доктора Лускуса. Впрочем, всегда есть ученые ослы, которые издают такое громогласное, напыщенное и невразумительное ржание, что...
– А правда ли, – спрашивает фидорепортер, – что многих художников, которых мы сегодня называем великими, Ван Гога например, критики того времени отвергали или не замечали? И...
Фидорепортер, прекрасно умеющий подзадоривать людей, чтобы доставить удовольствие зрителям, делает паузу. Рескинзон весь раздувается, его голова становится похожа на аневризму, которая вот-вот лопнет.
– Я вам не какой-нибудь невежда! – вопит он. – Не моя вина, что в прошлом тоже были такие же Лускусы! Я знаю, о чем говорю! Виннеган – всего лишь микрометеорит на небосводе Искусства, который в подметки не годится великим светилам живописи. Его репутация раздута известной кликой, чтобы наслаждаться отраженными лучами его славы, – это гиены, которые кусают руку того, кто их кормит, словно бешеные собаки...
– Вам не кажется, что у вас несколько путаные метафоры? – спрашивает фидорепортер.
Лускус нежно берет Чиба за руку и отводит его в сторону, подальше от камеры.
– Чиб, дорогой мой, – воркующим голосом начинает он, – пора объясниться. Ты знаешь, как я тебя люблю, и не только как художника. Ты не можешь больше противостоять волнам глубокой взаимной симпатии, которые омывают нас обоих. Боже, если бы ты знал, как я мечтал о тебе, о моем восхитительном богоподобном Чибе...
– Если вы думаете, что я скажу «да» только потому, что в вашей воле создать или уничтожить мою репутацию, дать или не дать мне грант, то вы ошибаетесь, – говорит Чиб, вырывая руку.
Единственный глаз Лускуса сверлит его свирепым взглядом.
– Неужели я тебе противен? Ведь не из моральных же соображений...
– Дело в принципе, – отвечает Чиб. – Даже если бы я был в вас влюблен, чего на самом деле нет, я бы вам не отдался. Я хочу, чтобы меня ценили по моим делам, и только по ним. А если подумать, то мне наплевать, ценят меня или нет. Я не желаю выслушивать ни похвалы, ни ругань, ни от вас, ни от кого угодно. Смотрите, шакалы, на мои картины и обсуждайте их друг с другом. Только не надейтесь, что я соглашусь с вашими убогими мнениями.
ХОРОШИЙ КРИТИК – ЭТО МЕРТВЫЙ КРИТИК
Омар Руник сошел со своей эстрады и уже стоит перед картинами Чиба. Положив руку на обнаженную левую половину груди, где вытатуирован портрет Германа Мелвилла (почетное место на другой половине занимает Гомер), он принимается что-то громко выкрикивать. Его черные глаза похожи на дверцы топки, выбитые взрывом. Как случалось и раньше, при виде картин Чиба его охватывает вдохновение.
Зовите меня Ахав, а не Измаил, —
Это я загарпунил Левиафана.
Я, рожденный от человека вольный осленок.
Внимайте мне! Я все уже видел!
Душа моя – словно вино в заткнутом наглухо мехе.
Я как море с дверями, но двери никак не открыть.
Берегитесь! Мех вот-вот лопнет, и двери рассыплются в щепки.
«Ты Нимврод», – говорю я другу своему Чибу.
И вот настал час, когда Бог возвещает:
«Если так он способен начать,
То не будет предела мощи его.
Протрубив в свои громогласные трубы
Под стеной, ограждающей Небеса,
Он потребует в жены Луну, а в заложницы Деву
И еще свою долю в доходах
Вавилонской Великой Блудницы».
– Остановите этого сукина сына! – кричит распорядитель Фестиваля. – Он устроит здесь мятеж, как в прошлом году!
Полицейские подтягиваются ближе. Чиб наблюдает за Лускусом, который беседует с фидорепортером. Ему не слышно, что говорит Лускус, но он уверен, что это не комплименты в его адрес.
Мелвилл писал обо мне до того, как я появился на свет.
Я тот, кто хочет познать и осмыслить весь мир,
Но познать его так, как понравится мне самому.
Я Ахав, тот, кто силой своей сокрушит
Все преграды, что ставят Время, Пространство и Смерть,
И швырнет свой сияющий огненный факел Мирозданию в самое чрево,
Потревожив в собственном логове
То, что таится там, – сокровенную Вещь В Себе,
Далекую, равнодушную и неведомую.
Распорядитель делает знаки полицейским, чтобы те увели Руника. Рескинзон все еще что-то выкрикивает, хотя камеры направлены на Руника и Лускуса. Одну из Молодых Редисок – Хьюгу Уэллс-Эрб Хайнстербери, писательницу – научную фантастку, всю трясет – так действуют на нее голос Руника и жажда мести. Она подбирается к фидорепортеру из «Тайма». Это не журнал «Тайм», который давно уже исчез вместе со всеми остальными журналами, а информационное агентство, поддерживаемое правительством. «Руки прочь» – такова политика Дяди Сэма: он обеспечивает информационные агентства всем необходимым и в то же время позволяет их руководителям проводить свою собственную линию. Так соединяются государственная поддержка и свобода слова. И все прекрасно – по крайней мере теоретически.
«Тайм» возродил некоторые свои изначальные традиции. Например, что истину и объективность нужно всегда приносить в жертву остроумию, а научную фантастику – ставить на место. «Тайм» высмеял все до единого произведения Хайнстербери, и теперь она намерена лично посчитаться за обиды, причиненные несправедливыми критическими нападками.
«Quid nunc? Cui bono? [22]
Время? Пространство? Материя? Случайность?
Что будет, когда мы умрем – Преисподняя? Или Нирвана?
А если ничто – так о нем и нечего думать.
Пусть грохочут философии пушки —
Все равно их снаряды не рвутся.
Пусть взлетают на воздух теологии арсеналы —
Под них подложил заряд саботажник-Разум.
Зовите меня ефремлянином[23], ибо не смог
На переправе Господней я произнести
Шипящий звук, открывающий путь.
Да, не могу я сказать «шибболет»,
Зато я могу сказать: «А пошли вы все! »
Хьюга Уэллс-Эрб Хайнстербери лягает репортера из «Тайма» между ног. Тот вскидывает руки, выпускает фидокамеру, величиной и формой напоминающую футбольный мяч, и она падает на голову какого-то юноши. Это один из Молодых Редисок – Людвиг Эвтерп Мальцарт. Он зол на критиков, которые только что обругали его новую тональную поэму, и упавшая на голову камера – та последняя капля горючего, которой не хватало, чтобы его ярость разгорелась неудержимым пламенем. Он изо всех сил бьет главного музыкального критика в толстое брюхо.
Раздается крик боли, но это кричит не репортер их «Тайма», а Хьюга. Ее босая нога натолкнулась на жесткую пластиковую броню, которой защищает свои половые части репортер из «Таймса», не раз подвергавшийся подобным нападениям. Хьюга скачет на одной ноге, держа в руках ушибленную ступню, и налетает на какую-то девушку. Все валятся, как кегли, и кто-то падает на репортера из «Тайма», нагнувшегося, чтобы поднять камеру.
– А-а-а-а! – визжит Хьюга, срывает с репортера из «Тайма» шлем, вскакивает на него верхом и колотит по голове передней частью камеры. В камере нет таких деталей, которые могли бы сломаться от удара, и она продолжает работать, показывая миллиардам зрителей весьма занятные, хотя и вызывающие некоторое головокружение картинки. Часть поля зрения залита кровью, но ее не так уж много, и зрители не остаются в обиде. А потом они видят еще один новаторский кадр – камера снова крутясь взлетает в воздух.
Это полицейский ткнул Хьюгу в спину электрошоковой дубинкой, заставив ее застыть на месте, и камера вылетает у нее из рук, описывая широкую дугу. Очередной любовник Хьюги сцепляется с полицейским, они катаются по полу. Мальчишка из Вествуда хватает дубинку и развлекается, тыча ею в зад всем окружающим, пока кто-то из местных не сбивает его с ног.
– Беспорядки – опиум для народа, – ворчит начальник полиции. Он поднимает по тревоге все подразделения и связывается с начальником полиции Вествуда, у которого, впрочем, тоже хлопот полон рот.
Руник, колотя себя в грудь, декламирует нараспев:
Я существую, сэр! Не говорите мне,
Как вы сказали Крейну, будто это
Вас не обязывает ни к чему.
Я человек. И я неповторим.
Ваш Хлеб причастия я выкинул в окно,
В Вино мочился, пробку вынул я
Из дна Ковчега, Древо на дрова
Срубил; и попадись мне Дух Святой,
Ему я палец тут же суну в зад.
Но знаю я, что все это не значит
Совсем, ну ровным счетом ничего.
Что ничего – всего лишь ничего.
Что есть – то есть, а чего нет – так нет,
А роза это роза это роза[24].
Сейчас мы здесь, а скоро нас не будет,
И это все, что нам дано узнать!
Рескинзон видит приближающегося к нему Чиба и с воплем бросается в бегство. Чиб хватает свое полотно «Пессимизм» и колотит им Рескинзона по голове. Лускус в ужасе пытается его остановить – не ради спасения Рескинзона, а потому, что может пострадать картина. Чиб оборачивается и бьет Лускуса краем картины в живот.
Земля качается, как тонущий корабль,
Киль треснул под напором экскрементов,
Что льются и с небес, и из глубин, —
Тех, что излил по щедрости своей
Господь, когда услышал крик Ахава:
«Дерьмо! Дерьмо! »
Мне грустно думать: вот вам Человек,
А вот его конец. Но не спешите!
На гребне вала – три старинных мачты.
Голландец то Летучий! И Ахав
Уже стоит на палубе его.
Смеяться можешь, Рок! Глумитесь, Норны!
Ахав я, это значит – Человек!
И пусть я не могу проделать брешь
В стене, что окружает То, Что Видим,
Не допуская нас к Тому, Что Есть, —
Я все же буду в эту стену биться.
И мы с моей командой не сдадимся,
Пусть под ногами палуба трещит,
Пусть мы утонем, чтобы тут же слиться
С потопом экскрементов.
Мгновение, которое навечно
Запечатлеется в глазах Творца:
Ахав стоит на фоне Ориона,
Воздев кулак, а в нем – кровавый фаллос,
Стоит, как гордый Зевс с своим трофеем,
С мужским оружьем Кроноса-отца.
И тут же он, со всей его командой,
И с кораблем катится кувырком
За край Земли.
И, слышал я, они еще доныне
Летят, летят, летят все вниз, и
В
н
и
з
и
в
н
и
З.
Чиб на секунду превращается в содрогающуюся массу боли от прикосновения электродубинки полицейского. Как только к нему возвращается сознание, он слышит, как из приемника, спрятанного у него в шляпе, звучит голос Деда:
– Чиб, скорее сюда! Акципитер ворвался в дом и ломится ко мне в дверь!
Чиб вскакивает и с боем прорывается сквозь толпу к выходу. Запыхавшись, он подбегает к своему дому и видит, что дверь в комнату Деда открыта. В коридоре стоят налоговые полицейские и техники-электронщики. Чиб врывается в комнату Деда. Посреди комнаты стоит Акципитер, бледный и дрожащий. Трясущийся камень. Увидев Чиба, он пятится назад:
– Я не виноват. Я обязан был взломать дверь. Только так я мог убедиться... Я не виноват, я к нему не прикасался.
У Чиба перехватывает горло. Он не может произнести ни слова. Опустившись на колени, он берет Деда за руку. На синих губах Деда застыла слабая улыбка. Он наконец-то отделался от Акципитера раз и навсегда. В руке у него последняя страница его рукописи:
«ЧЕРЕЗ БАЛАКЛАВЫ НЕНАВИСТИ ОНИ ПРОРЫВАЮТСЯ К БОГУ
На протяжении большей части своей жизни я видел лишь немногих истинно верующих и подавляющее большинство поистине равнодушных. Но дух времени меняется. В сердцах множества юношей и девушек вновь возродилась – не любовь к Богу, а сильнейшая антипатия к Нему. Это глубоко трогает и утешает меня. Юнцы вроде моего внука и Руника выкрикивают богохульства и тем воздают Ему поклонение. Будь они неверующими, они бы о Нем не думали. Теперь я немного верю в будущее».
В ПОИСКАХ ИКСА ПО ТУ СТОРОНУ СТИКСА
Чиб и Мать, оба в черном, спускаются в метро на уровень 13-Б. Стены просторной станции светятся изнутри. Проезд на метро бесплатный. Чиб сообщает билетному фидоавтомату, куда он направляется, и за стеной включается белковый компьютер размером с человеческий мозг. Из щели выползает билет с закодированной надписью. Чиб берет билет и идет на перрон, обширный и выгнутый дугой. Он сует билет в щель и получает другой билет. Механический голос читает вслух то, что написано на билете, на всемирном и лос-анджелесском английском – на случай, если они не умеют читать.
Одна за другой стремительно подъезжают и тормозят гондолы. Они без колес и удерживаются на весу переменным гравитонным полем. Секции перрона скользят назад, освобождая место для гондолы. Пассажиры входят в предназначенные для них кабины. Кабины приходят в движение, потом их двери автоматически открываются, и пассажиры переходят в гондолу. Усевшись, они некоторое время ждут, пока над ними не сомкнется защитная сеть. Убранные в шасси стены поднимаются и соединяются вверху, образуя сводчатый потолок.
Автоматически управляемые, под бдительным надзором многократно; продублированных на всякий случай белковых компьютеров, гондолы ждут, когда освободится путь. Получив команду на отправление, они медленно выползают в туннель и там останавливаются снова. Тройная перепроверка занимает несколько микросекунд, потом команда подтверждается, и гондолы быстро исчезают в туннеле.
Ш-ш-ш-у-у-у! Ш-ш-ш-у-у-у! Мимо проносятся другие гондолы. Туннель светится желтым светом, словно заполненный ионизированным газом. Гондола быстро набирает скорость. Сначала ее еще обгоняют, но она несется все быстрее, и вскоре ее уже не догнать. Впереди мерцает округленная корма передней гондолы – добыча, которую им не настигнуть, пока та не замедлит ход, останавливаясь у предназначенного ей перрона.








