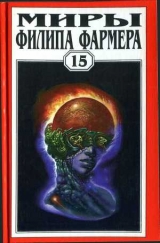
Текст книги "Миры Филипа Фармера. Том 15. Рассказы"
Автор книги: Филип Хосе Фармер
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Вопрос: В чем она чувствует себя беспомощной?
Ответ: Ты, Джонс, ее слабое место.
Почему?
Потому что он – человек. Он может везде ходить, он может думать. И чего доброго, набраться смелости и выступить против нее. И даже, чего доброго, одолеть ее.
«Кит» далеко не такая храбрая и сильная, как делает вид. Ей приходится играть на его собственной слабости, на его страхе перед темнотой и ограниченностью пространства, перед чудовищным весом воды, предположительно угрожавшей раздавить его. Именно на его страх она и рассчитывала, заставляя его покорно исправлять повреждения, а затем вернуться, как какая-нибудь овца, в свой загон. А возможно, подумал он, на убой. Он теперь очень сомневался, что она доставит его на базовый корабль.
Не исключено, что она пробудет в открытом море с год, а то и больше, пока не найдет достаточно мишеней, по которым можно выпустить все ее сорок торпед. И все это время ей придется кормить его и обеспечивать воздухом. Но для этого она была слишком мала, да и для груза предусматривалось совсем немного места.
Камера, в которой он лежал, скорее всего предназначена для временного содержания пленников, которых можно допросить. Очевидно, ее используют также и как каюту для того или иного шпиона или диверсанта, который темной ночью высаживается на американский берег. «Кит» лгала ему с самого начала.
Ирония заключалась в том, что, понуждая его исправить повреждения, она, только чтобы уговорить его заняться ремонтом, была вынуждена прибегнуть к этому злополучному изъяну в его характере. Однако, поступив так, она тем самым заставила его преодолеть свою слабость. Она сделала его сильным.
Впервые с того времени как он расстался с женой, он по-настоящему улыбнулся.
В это мгновение его фонарь высветил пистолет-распылитель там, где он положил его. Его глаза сузились. «Кит» была права в своих опасениях. В сущности, она была машиной со свойственными машинам ограниченными возможностями, а он – человеком. Перед ним возникло решение проблемы, как поразить врага.
Джонс услышал ее голос, эхом разносившийся по коридорам. Голос спрашивал, куда он подевался, и угрожал пустить газ, если он сейчас же не отзовется.
– Я иду, «Кит», – крикнул он. В одной руке он держал отвертку, которую взял из шкафчика, другая сжимала пистолет-распылитель.
Двумя днями позже патрульный самолет морской авиации обнаружил подлодку, которая беспомощно лежала на поверхности. Бдительный наблюдатель заметил человека, стоявшего на гладкой палубе и размахивавшего белой рубашкой. Самолет не стал сбрасывать бомбы, но, произведя тщательный разведывательный облет, сел на воду и подобрал человека. Им оказался американец со славным американским именем Джонс.
На обратном пути в Гавайи он рассказал свою историю по радио. После приземления Джонсу пришлось делать официальный отчет, где он повторил все, но уже с большими подробностями. В ответ на вопрос, заданный ему морским офицером, он сказал: «Да, я воспользовался случаем. Я был уверен, что она – простите, робот – обманывал меня. Если бы мы действительно застряли носом в иле, я бы тут же заметил, что камера и коридор имеют уклон. Более того, вода поступала внутрь не постоянно, как должна была бы, если бы корпус лодки находился под огромным давлением. Все верно, вода заплескивалась сквозь трещину, но только через определенные интервалы. Не нужно было особой догадливости, чтобы понять: мы находимся на поверхности и каждый раз, когда волна ударяет в борт, в трещину попадает вода.
Успех затеи «Кит» зависел от того, замечу я это или нет, и буду ли столь ошеломлен предполагаемым положением, в котором мы очутились, что безропотно исправлю все повреждения и затем на полусогнутых приползу обратно в камеру».
Именно так я бы и поступил, подумал он строго, если бы не та минута, когда мне пришлось окончательно решить: мужчина я или трус.
Я до сих пор боюсь темноты и замкнутого пространства, но этот страх я научился побеждать. «Кит» не думала, что мне это удастся. Но для полной уверенности она сказала мне, что мы находимся на дне моря. Она не хотела, чтобы мне стало известно: ее рулевое устройство заклинило в таком положении, что она всплыла на поверхность и стала легкой добычей для первого же встречного американского корабля. Она считала, что если я узнаю об этом, то, чего доброго, могу набраться смелости и взбунтоваться. К своему несчастью, она считала меня круглым дураком. Или слишком полагалась на мой страх, сводящий на нет мои умственные способности. И ведь она почти угадала.
– Слушайте, а что вы делали с пистолетом-распылителем? – поинтересовался капитан-лейтенант.
– Первым делом я задержал дыхание и побежал в камеру, где был пленником. Я нашел отдушину, из которой поступал газ, и выстрелил в нее цементом-герметиком. Таким образом, отдушину я заткнул. Потом я вернулся к шкафчику, разобрался там в чертежах и нашел по ним «мозг» «Кит».
Мне хватило одной минуты, чтобы отключить ее от «тела».
Он широко улыбнулся:
– От этого она не замолчала. «Кит» поносила меня самыми последними словами, не для ушей леди. Но, поскольку ругалась она на языке врага, я не понял ни слова. Смешно, правда, что она, подобно человеку, в минуту ярости и полного краха обратилась к родному языку?
– Да, и что потом?
– Я активизировал схемы, и они открыли палубный люк и впустили наружный воздух.
– И при этом вы не знали наверняка – что хлынет внутрь – воздух или вода?
Он кивнул:
– Все верно. – Он не добавил, что стоял там ни жив ни мертв и трясся, пока ждал.
– Молодец, – произнес капитан-лейтенант с восхищенной улыбкой, от которой Джонсу стало тепло. До него впервые дошло, что он все-таки совершил нечто героическое. – Можете идти. Мы позвоним вам, если захотим послушать еще. И, прежде чем вы уйдете, скажите: нет ли у вас какого желания?
– Да, – сказал он, оглядываясь вокруг. – Где тут у вас телефон? Я бы хотел позвонить жене.
МОНОЛОГ
Monolog
Copyright © 1973 by Philip Jose Farmer
Перед вами ужасная сказочка про странное рождение. Впервые ее можно было прочитать в 1973 году в антологии, озаглавленной «Добрый демон», которая посвящалась детям с необычными талантами и наклонностями. Название этой книги дало мне идею написания рассказа, который я бы озаглавил «Ужасный демон». Возможно, когда-нибудь я и напишу такой рассказ.
Она так мечтала, чтобы я заболел.
И вот я болен. Что-то внутри разрастается и пожирает меня. Я не могу рассказать ей об этом, но она и сама все видит. Смотрит на мой растущий горб, да, мне кажется, что это горб, хотя я не могу нагнуться и увидеть, так ли это. Но это что-то во мне. И я вижу, как она смотрит на горб.
Боли пока нет. Интересно, когда появляется боль при раке? А я даже не смогу закричать. Можно попытаться рассказать ей, но звуки и слова путаются, и их трудно разобрать. А кричать я боюсь. Кажется, что крик застрянет в горле. Но если начнется боль...
Разве я могу не болеть? Ей не нравится, когда я здоров. Я рос и вырос большим и сильным, пошел в школу, получил хорошее образование, очень хорошее, был замечательным футболистом и работал путевым обходчиком. Да, все было прекрасно. Но маме все это не нравилось.
«Деточка, ты растешь слишком быстро, ты и так уже слишком большой. Где тот малыш, который так жадно припадал к моей груди? Которого я баюкала на руках, чтобы он поскорее заснул? Мой маленький мальчик сидел у меня на коленях, а я пела колыбельные песни, пока его головка не склонялась к моему плечу, и он засыпал, как ангелочек. Такой сладенький, прелестный, нежный и курчавый, такой милый и любимый. Где же он теперь? »
Что я могу сказать тебе, мама? Я смотрю в окно и каждый день вижу одно и то же, лишь зима, весна, лето и осень сменяют друг друга. Мама, листья вырастают, они появляются из почек, таких мягких и нежных. Но почки для того и существуют, чтобы превратиться в зеленые листья. Если почка не станет листом, она умрет. И вот, как и полагается, распускается лист. Приходит и уходит лето, наступает пора листопада, и умирающий, пожелтевший или покрасневший, лист наиболее прекрасен. А когда он опадает, то гниет и удобряет почву. Или служит пищей или жилищем для насекомых. Или еще для кого-нибудь.
Разве дерево ненавидит лист за то, что он не остается почкой навсегда? Конечно, нет, мама. Так почему же ты ненавидишь меня? Да-да, ненавидишь, хотя у тебя не хватит смелости признаться в этом. Ты ненавидишь меня с тех самых пор, когда я уже не смог все время оставаться с тобой. Но мне же надо было идти в школу, мама. Я не мог навсегда остаться младенцем, и в конце концов мне пришлось пойти в детский сад, хотя тебе и удалось оттянуть этот момент на год. Но взрослые и врать-то толком не умеют, и я тогда уже знал, чувствовал каким-то детским чутьем, что ты начинаешь ненавидеть меня. Но я не был до конца уверен в этом, пока не пошел в первый класс. Твоя ужасающая ненависть вскипала, и ни улыбка, ни поцелуи, ни голос не могли скрыть ее. Твой голос становился все более безжалостным и суровым, пока не сорвался. Даже голос не выдержал такой лавины ненависти.
Ты любила меня только тогда, когда я был совсем еще маленьким, я даже не хотел расти и взрослеть, потому что знал – только маленького меня ты любишь. Но не мог же я остаться младенцем навсегда, даже ради твоей любви. Весь мир был в моем распоряжении, и мне хотелось быть наравне с мальчишками и девчонками, с которыми я ходил в школу. А для этого, мама, мне приходилось расти вместе с ними. И не существовало другого пути.
И я рос, мама, становился больше, а ты меньше. Я имею в виду, физически. Относительно говоря, конечно же. Хотя в общем, ты не стала ни на дюйм меньше с тех пор, как родила меня. И в определенном смысле не изменились ни ты, ни я. Ведь как и прежде, как и в день моего рождения, – ты моя мама, а я – твой сын. Хотя некоторые, да и я сам, иногда в этом сомневаются.
Но все меняется, мама. В том числе наши отношения. Ведь даже если что-то отказывается расти, оно сгибается, свертывается, скручивается, как бараний рог или клык кабана. Оно изворачивается и вонзается в плоть, а затем в ту же кость, из которой выросло. И этот рог, этот клык возвращается обратно, возвращается, мама, чтобы умереть, а быть может, чтобы убить.
Но я не умираю, мама. Хотя, с одной стороны, это так. Но с другой стороны – нет. Мама, но разве это что-то меняет? Где ты, мама? А, вот ты где. Только что вышла из церкви. Где, несомненно, молилась, глядя на Пресвятую Богородицу с младенцем. Молилась в глубине души, чтобы ты и я не менялись, как не меняются камни и деревья, и чтобы не вырастал маленький сынок у тебя на руках. Ты просила Господа, чтобы оба мы не изменялись, как деревья и камни.
И мне уже не на что надеяться, мама, твое желание уже исполнилось. Я неподвижен, как дерево или камень, и все, что я еще могу, – это моргать и время от времени пытаться разговаривать. И ты усадила меня у окна, подперев подушками, чтобы я видел улицу и одни и те же перемены, происходящие за окном, и тебя, идущую в магазин или к священнику.
Внешне я неподвижный и неменяющийся. Но что-то случилось во мне около года назад, но я не мог сказать тебе об этом. А если бы и смог, что бы я сказал, кроме как «позвони врачу»?
Все продолжает меняться, мама. Нечто, где-то в глубине, меняется постоянно. Словно тролли, которые добывают алмазы в недрах гор. В горах моего сознания. Нет, моей души. И тела тоже, мама. Да и какая разница между моей душой и телом? Я не знаю. Душа может быть телом, а тело – душой. Но я знаю, что, когда растет одно из них, растет и другое. Иногда.
И что-то во мне растет и растет, мама. Я лежу здесь, живая мумия, склеп собственного разума. Конец мой близок. Я слышал, как ты говорила об этом, разговаривая сама с собой. Мои ноги и руки становятся все тоньше. Щеки совсем впали, и от этого глаза кажутся все больше. Кости начинают просвечивать сквозь плоть. Я слышал, ты говорила так, мама. Говорила не доктору шепотом в соседней комнате. А улыбаясь, мне в лицо.
Мой живот растет и растет, вот ты и говоришь о моей смерти. Это раковая опухоль пожирает мое тело, как ты, моя любимая мамочка, поглотила мою душу. Только в последнее время появились боли. Я пытался рассказать тебе о них, о том, как иногда мне бывает больно.
Поздно ночью, когда не слышно твоего храпа и шума проезжающих машин, я слышу, мама, как оно растет. Тихо-тихо. Оно шевелится, шуршит, почавкивает. Это чавкает рак, пережевывая меня.
«Прекрасно», – говоришь ты.
Нет? Ты так не говоришь? Но это сквозит в каждом твоем действии. Ты наблюдаешь, как растет опухоль, и не вызываешь врача, и будет уже слишком поздно, когда тебе придется сделать это, когда ты уже не сможешь откладывать, обманывать свой слух и зрение, кричащие о том, что во мне происходит. Слишком поздно.
Но ты будешь рада, мама, правда ведь? Рада, потому что большой, грязный, бородатый, воняющий табаком и пивом, тот, кто не должен был меняться, но изменился, – умер. О да, сейчас-то я не грязный и от меня не несет сигаретами или пивом. Уже не несет. Я не могу курить, если ты не зажжешь сигарету для меня, а ты не сделаешь этого. И я не могу выпить пива, если ты не поднесешь его мне, а ты и это не сделаешь. Я терпел изнуряющие боли без слова жалобы. Хотя иногда, глядя мне в глаза, ты должна была понять. Но ты не слишком часто заглядывала мне в глаза, да? Ведь это налитые кровью глаза мужчины, а не ясные голубые глаза ребенка.
Но теперь я больше не грязный и не бородатый, да? Ты купаешь меня каждый день. И еще ни разу не забыла сделать это. И бреешь ты меня тоже каждый день, пробегаешь пальцами по лицу и улыбаешься. Ты ведь помнишь, когда моя кожа была еще мягче, правда?
Хотя ты недолго улыбаешься. Закрываешь глаза и представляешь, что я еще маленький, а когда возвращаешься в реальность, то ненавидишь меня.
Я слышу, как хлопнула дверь внизу, мама. А теперь я слышу скрип ступенек. Ты поднимешься и спросишь, как я себя чувствую. Зная, что я не могу разговаривать, а могу только лепетать как новорожденный. Слова, такие ясные в мыслях, получаются перепутанными, искрошенными – целая салатница неразборчивого лепета. Отвратительного детского лепета, потому что ребенок лепечет, учась говорить, и рано или поздно он заговорит. А я лепечу, потому что забыл, как говорить, и никогда уже не вспомню.
А сейчас я слышу, как скрипит пол под твоими ногами. Я слышу, как ты мурлыкаешь колыбельную, которую обычно напевала мне, когда я был маленьким. Мне кажется я слышу эту мелодию. Дверь закрыта, а ты поешь так тихо. Наверное, я слышал эту песенку так часто, что чувствую ее даже когда не слышу.
А теперь, ох, мама, оно пошевелилось во мне! Оно уже уничтожило почти все мое тело и перемещается в пустое место, мама!
А сейчас, сейчас, наверное, это конец. Господи, я говорил, что хочу умереть. Я говорил об этом столько лет. С тех пор как пошел в школу. Я повторял это. Раз мама не любит меня, я умру. И хотел умереть. И вот я умираю, и мне страшно.
Я напуган до смерти! Неплохо звучит. Становится все темнее и темнее. И я ускользаю куда-то, как эта штука во мне скользит из одного места в другое. Груз смерти перемещается по трюму, когда корабль переворачивается... о чем это я? Я ускользаю все ниже и ниже. Неужели это она? Смерть? Вниз, вниз! Становлюсь меньше, меньше?
По крайней мере... я ошибался. Я говорил, что боли нет. Но вот она появляется. Она пожирает. Рвет когтями. Становится больше. Или ближе. Нет, это я приближаюсь к ней. Господи, это сводит с ума. Когда две вещи подбираются друг к другу, обе становятся ближе. Как больно. Хорошо, что я не вижу. Хорошо, что темно. Достаточно слышать смерть, а видеть ее...
Нет. Я слышу маму. Она спускается в холл. Сейчас она у двери. Я не могу говорить и не могу сказать то, о чем всегда думал. А стала бы она слушать, если бы я мог сказать? Нет. А поняла бы она меня, не выслушав? Мама, не позволяй мне умереть или хоть скажи мне, скажи...
Ах вот ты где, мама. Хотела закричать, но не смогла. Что-то заморозило твой голос, как и мой. Ты упала. Я иду, мама. Встаю с кровати. Слабый, но ходить могу. Мам, не лежи на полу. Изумленная. Неподвижная. Это у меня паралич, а не у тебя.
Нет, нет у меня паралича, не у этого меня. Мама! Я иду! Моя другая сущность! Я выхожу из собственного тела! Я выбрался! Я проломал выход, продираясь наружу, мама. Я чуть не умер там внутри. В темноте, тесноте и сырости, мама. Там я ускользал, и повсюду была боль – снаружи и внутри. Жуткая боль, мама! И страх, безумный страх, не мог выбраться, мой живот сейчас взорвется... Что? Что я говорю? Мама! Все кружится и ускользает, вместе со мной!
Мамуля, я не хотел пугать тебя. Я не виноват, что весь в крови. Мама! Искупай же своего милого мальчика в ванночке. Навсегда, ма, навсегда!
Твой малыш вернулся! Твой маленький ангелочек с тобой, мам. Смой с меня старую дурную кровь.
Кровь! Слезы тут не помогут, мама.
В моей кроватке лежит мертвый человек, ма, а вместо живота у него кровавое месиво.

ПОЛИТРОПИЧЕСКИЕ ПАРАМИФЫ
НА КОРОЛЕВСКОМ ЖАЛОВАНЬЕ
ПРОЛОГ: ООГЕНЕЗ ПТИЧЬЕГО ГОРОДА
Oogenesis of the Bird City
Copyright © 1970 by Philip Jose Farmer
Президент США сидел за столом мэра Верхнего Центрального Лос-Анджелеса (уровень 1-й). О том, где сидеть мэру, особо заботиться не пришлось. Его кабинет оказался бы заполнен до отказа только в том случае, если бы в город вдруг съехался весь электорат.
В огромном зале собрались главы правительственных департаментов и начальники отделов, сенаторы, губернаторы штатов , магнаты индустрии и просвещения, председатели профсоюзов и президенты объединений ГОПов. Почти все они смотрели на телеэкраны, занимавшие часть изогнутой стены.
В огромное окно позади президента не смотрел никто, хотя через него открывался вид на полгорода. В голубом небе над зданием мэрии виднелось лишь несколько пушистых облаков. Летнее солнце только что миновало зенит, но с океана тянуло прохладным ветерком, и температура нигде в городе, не поднималась выше 23 градусов. Из 200 000 приезжих по меньшей мере треть толпилась вокруг гидов. Почти все ручные телекамеры репортеров, размером с футбольный мяч, были в эти минуты направлены на одного человека.
Ведущий от правительства:
– Леди и джентльмены, вы только что познакомились с большей частью этого города и теперь знаете о нем почти столько же, сколько узнали бы, сидя дома у телевизора. Вы видели все, кроме интерьеров этих домов, кроме внутреннего устройства этих ваших будущих жилищ. Вы поражены тем, что выстроили здесь Дядя Сэм и штат Калифорния, – этой Утопией, этим Изумрудным Городом из страны Оз, в котором каждый из вас чувствует себя Волшебником...
Придирчивая зрительница (массивная чернокожая женщина, магистр педагогики по специальности «электронное обучение в начальной школе»):
– Эти дома больше похожи на те яйца, которыми Дороти напугала короля Нома!
Ведущий (ухитрившись злобно взглянуть на нее, в то же время сохранив на лице улыбку):
– Мадам, вы выступаете, словно какой-нибудь вражеский агент! Вам бы надо вместо свидетельства о бедности выдать свидетельство о вредности!
Зрительница (надувшись):
– Я на вас в суд подам за публичное оскорбление и насмешки! »
Ведущий (окинув взглядом ее слоноподобную тушу):
– Подавайте, подавайте. Ничего удивительного, что у вас все мысли о яйцах, – вы сами на яйцо похожи!
Толпа рассмеялась. Президент недовольно засопел и что-то сказал в маленький круглый микрофон, пристегнутый к запястью. Какой-то человек среди толпы, услышав слова президента в наушниках, произнес что-то в свой микрофон, но ведущий отмахнулся с таким видом, словно хотел сказать: «Это моя передача! А кому не нравится, может пойти и утопиться в озере! »
Ведущий:
– Люди, вы видели искусственное озеро в центре города, окруженное общественными и другими зданиями. Вы видели Центр народного искусства, Народный рекреационный центр, больницу, университет, научно-исследовательский центр и ПАНДОРу – Публичный автоматизированный народный даровой общедоступный распределитель. Вы были восхищены и поражены сказочной страной бесплатных благ, которые предлагают вам Дядя Сэм и штат Калифорния. Здесь вы в изобилии найдете и товары первой необходимости, и предметы роскоши, потому что, как вы знаете из передач федерального телевидения, «Роскошь – это необходимость». Если вам чего-то захотелось – что бы это ни было, – приходите в ПАНДОРу, нажмите кнопку-другую, и – р-раз! – вы так богаты, как вам и не снилось!
Зрительница:
– Когда люди открыли ящик Пандоры, все беды мира вылетели наружу, и тогда...
Ведущий:
– Не перебивайте меня, мадам! Время у нас строго ограничено...
Зрительница:
– Это почему? Куда нам спешить?
Ведущий:
– Сказал бы я вам, мадам, куда вам спешить.
Зрительница:
– Но...
Ведущий:
– Никаких «но», мадам! Лучше сядьте на диету.
Зрительница (изо всех сил стараясь сдерживаться):
– Не смейте переходить на личности, нахал! Ну да, я не какая-нибудь там пигалица, и с правой бью так, что не поздоровится, имейте это в виду. Так вот, ящик Пандоры...
Ведущий отпустил непристойную шутку, вызвав хохот толпы. Зрительница что-то кричала, но за шумом ее не было слышно.
Президент беспокойно заерзал на стуле. Кингбрук, 82-летний сенатор от штата Нью-Йорк, громко крякнул и сказал:
– Чего только они не позволяют себе теперь на телевидении. Просто безобразие...
Некоторые экраны на стенах кабинета показывали отдельные части города. На одном Верхний Центральный Лос-Анджелес был виден с вертолета, летевшего вдоль берега океана. С такого расстояния камера смогла охватить все гигантское сооружение, включая сотню саморегулирующихся цилиндров-подпорок, на которых стоял гигантский пластиковый куб, и телескопические шахты лифтов, свисающие из-под его днища. Внизу, в тени куба, виднелся центр старого города, а вокруг – зазубренные контуры остальной части Лос-Анджелеса и примыкающих к нему городов.
Президент ткнул сигаретой в сторону этого экрана и сказал:
– Взгляните на двадцать четвертый экран, джентльмены. Внизу – темное прошлое. Жалкий муравейник, раздираемый распрями. А над ним – светлое будущее. Шанс, предоставляемый каждому, чтобы в полной мере реализовать свой человеческий потенциал.
Ведущий:
– Прежде чем мы с вами войдем в этот дом, который внутри точно такой же, как и любое другое жилище...
Зрительница:
– Это черт знает что, а не жилище. Они и снаружи все одинаковые.
Ведущий:
– Мадам, не будите во мне зверя. Так вот, люди, вы заметили, что все здания, и общественные, и частные, устроены наподобие яиц. Эта футуристическая конструкция была избрана потому, что, согласно самым последним теориям, форму яйца имеет сама Вселенная. Никаких углов, одни только кривые, бесконечность, заключенная в конечное пространство, понимаете?
Зрительница:
– Не понимаю!
Ведущий:
– Попробуйте скинуть немного жира, мадам, и тогда сможете угнаться за всеми остальными. Яйцевидная форма создает ощущение беспредельного пространства и в то же время уюта и безопасности. Когда вы войдете внутрь...
Каждый дом представлял собой большое гладкое белое яйцо из пластика, которое покоилось на толстой подпорке в виде усеченного конуса в 18, 28 метра над поверхностью города. (Для пожилых зрителей, так и не сумевших привыкнуть к новой системе мер, комментатор за кадром пояснил, что 18, 28 метра – это 60 футов. ) По обе стороны конуса шли лестничные клетки, каждая из которых заканчивалась у горизонтального люка в нижней части яйца. Люки открывались автоматически, позволяя войти в дом. У основания конуса тоже была дверь, а в нем – лифт для больных, калек и, как выразился ведущий, «просто лентяев, ведь каждому гарантировано право быть лентяем». Внутри полого основания располагались также несколько электрических тележек для разъездов по городу.
Президент увидел, как нахмурился при виде этих тележек Кирсон, автомобильный магнат из Детройта. Десять лет назад автомобильная индустрия окончательно отказалась от двигателей внутреннего сгорания и перешла к выпуску автомобилей на электрической и ядерной тяге, а теперь Кирсон увидел, что и они обречены. Президент отметил про себя, что позже надо будет его успокоить и приободрить.
Ведущий:
– «Разнообразие в единообразии», люди! Вы много слышали про это по федеральному телевидению, и прекрасный пример – дома, которые вы видите. Эту даму беспокоит, что все они выглядят одинаково, – так вот, каждый владелец дома может раскрасить его снаружи по собственному вкусу. Все дозволено – от репродукций Рембрандта до психоделических галлюцинаций или непристойных картинок, если у вас на это хватит духу. У нас полная свобода, включая свободу слова...
Зрительница:
– Будет похоже на корзинку с пасхальными яйцами.
Ведущий:
– Вот это верно, мадам, а Дядя Сэм – настоящий большой пасхальный кулич!
Ведущий повел группу зрителей внутрь дома, и на экранах появились сначала центральный открытый атриум, потом кухня и десять комнат, чтобы всем было видно, какое богатство приобретут будущие обитатели дома задаром.
– Задаром! – проворчал сенатор Кингбрук. – Да с налогоплательщиков на это сдирают не три, а тридцать три шкуры! Это их пот и кровь!
– В будущем необходимости в этом не будет, я вам потом все объясню, – мягко сказал президент.
– Не надо нам ничего объяснять, – сказал Кингбрук. – Все мы прекрасно знаем про экономику изобилия, которая сменит экономику дефицита. И про ваши планы переходного периода – вы называете его ПРЭ, «прогрессивно-регрессивная экономика», но я бы назвал это иначе – шизофренический бред при белой горячке!
Президент с улыбкой заметил:
– У вас еще будет возможность высказаться, сенатор.
Мужчины и женщины, сидевшие в кабинете, некоторое время молчали, глядя, как ведущий расхваливает прелести и достоинства дома с его звуконепроницаемыми стенами, бассейном посреди открытого атриума, мастерской со всевозможным оборудованием, кладовой, спальнями-гостиными, телевизорами в каждой комнате, убирающейся надувной мебелью, кондиционером, библиотекой микрофильмов и прочим.
Зазывала от правительства:
– Это просто сказка! Куда лучше, чем какая-нибудь трущоба на поверхности земли, где не дает покоя шум и кишат крысы!
Ведущий (цитируя лозунг федерального телевидения):
– «Будьте счастливы и свободны, как птицы в небе! » Вот почему все называют это Птичьим городом, а его обитателей – •вольными птицами! Все – на высшем уровне! И каждый свободно получает все задаром!
Зрительница:
– Кроме свободы жить где пожелаешь и в таком доме, в каком захочется!
Ведущий:
– Мадам, если вы не миллионерша, то вам не по карману иметь такой дом на земле, который хоть чем-то отличался бы от всех остальных. И к тому же вам пришлось бы постоянно бояться поджога. Вам все не по вкусу, мадам, – вы будете ворчать, даже если для того, чтобы вас повесить, петлю сделают из самой новехонькой веревки!
Группа зрителей вышла из дома, и ведущий обратил их внимание на то, что, хотя они и в трех сотнях метров над землей, здесь повсюду деревья и трава – целые маленькие парки. А если кто-то захочет поудить рыбу или покататься на лодке, то к его услугам озеро – оно в том квартале, где все муниципальные учреждения.
Зазывала:
– Вот это жизнь!
Ведущий:
– Купол над городом точь-в-точь похож на небо, которое снаружи. Вместо солнца – его электронное изображение, и оно движется по небу точно так же, как настоящее. Только вам не придется беспокоиться, что станет слишком холодно, или слишком жарко, или пойдет дождь. У нас тут есть даже птицы.
Зрительница:
– А как насчет ласточек? Вот придет весна, и как они попадут сюда без пропуска?
Ведущий:
– Мадам, вы просто нахалка! Почему бы вам не...
Президент встал из-за стола. Лицо Кингбрука, иссеченное морщинами, рытвинами и складками, свидетельствовавшими о глубокой старости, сейчас побагровело от гнева и напоминало раскаленную лаву на склоне вулкана сразу после извержения. Раскаты его баса давили на барабанные перепонки сидевших в кабинете, словно они оказались в барокамере.
– Отважный новый концлагерь, джентльмены! Пятьдесят миллиардов долларов на то, чтобы построить жилище для пятидесяти тысяч человек! Великий банкротополис будущего! А на то, чтобы расселить по таким разукрашенным курятникам население только этого штата, понадобится, по моим расчетам, триллион!
– Нет, если мы введем в действие ПРЭ, – возразил президент. Он поднял руку, чтобы стало тихо, и продолжал: – Я бы хотел послушать Гилдмена, джентльмены. Потом мы сможем посовещаться.
Сенатор от штата Миссисипи Бокамп пробормотал:
– Триллион долларов! Хватило бы на пропитание, кров и образование для всего населения моего штата в течение двадцати лет!
Президент дал знак выключить все экраны, кроме канала федерального телевидения. Каждая частная телекомпания вела свой репортаж, но важнее всего было то, что скажет федеральный комментатор. Он задавал тон, ему подражали – пусть и неохотно – комментаторы остальных телекомпаний. На них было оказано немалое давление, вплоть до прямых угроз, и никто не решался выступить против президента напрямик. Но если средства массовой информации еще можно было удержать в каких-то рамках, то свободу слова отдельных граждан никто не ограничивал: ведь обществу нужен предохранительный клапан. Время от времени тот или иной гражданин получал возможность высказаться по телевидению или по радио. И лихие кавалерийские наскоки на президента следовали один за другим со всех сторон. Его осыпали бранью, называли ультрареакционером, выродком-либералом, коммунистом, фашистом, гиеной, свиньей, пуританином, извращенцем, Гитлером и так далее, а его чучела торжественно сжигали столько раз, что один предприимчивый чучельщик заработал на них целое маленькое состояние – впрочем, из-за налогов оно стало еще меньше.
«Моя Голгофа, – подумал президент. – Дозволяются любые нападки. И все нападки опровергаются. Я человек, про меня можно говорить все. Даже обвинять в фанатизме. Я знаю: то, что я делаю, – правильно; во всяком случае, это единственное, что можно сделать. Когда появляются в Небе Четыре Всадника на четырех конях, такому кавалерийскому наезду может противостоять только человек, не знающий сомнений».
По комнате прокатился голос – это был Великий Гилдмен, как он называл себя сам. Главный комментатор федерального телевидения, начальник отдела в аппарате правительства, кандидат наук по средствам массовой информации, служащий 90-го разряда, непревзойденный оратор, заряженный высоковольтной энергией, человек, которому, как говорили, ничего не стоило бы убедить Господа Бога оставить Адама и Еву в раю.








