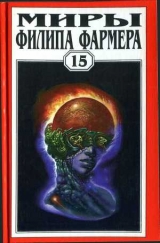
Текст книги "Миры Филипа Фармера. Том 15. Рассказы"
Автор книги: Филип Хосе Фармер
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
– Inter caecos regnat luscus, – говорит он всякий раз, когда его об этом спрашивают, и нередко, когда его не спрашивают. – Перевожу: «Среди слепых одноглазый – король». Вот почему я сменил имя на Рекс Лускус, что означает «Король Одноглазый».
Ходит слух, всячески поддерживаемый Лускусом, будто он даст вставить себе искусственный белковый глаз только тогда, когда увидит работы художника настолько великого, чтобы ради него стоило обзавестись стереоскопическим зрением. Поговаривают также, что он сделает это в недалеком будущем, ибо открыл Чибиабоса Эльгреко Виннегана.
Лускус жадно (он не может без наречий) разглядывает курчавый пушок на теле Чиба и близлежащие части. Чиб при виде его наливается – но не вожделением, а гневом.
Лускус вкрадчиво говорит:
– Милый, я только хотел убедиться, что ты уже встал и занимаешься сегодняшним невероятно важным делом. Ты обязан быть готов к показу, просто обязан! Но сейчас, увидев тебя, я вспомнил, что еще ничего не ел. Позавтракаем вместе?
– А что будем есть? – спрашивает Чиб и, не дожидаясь ответа, говорит: – Нет. У меня сегодня слишком много дел. Сезам, закройся!
На экране меркнет лицо Рекса Лускуса, очень напоминающее козлиную морду, или, как он предпочитает говорить, лик Пана: Фавн от искусства. Он даже сделал себе заостренные уши. Просто блеск.
– Бэ-э-э! – блеет Чиб, глядя на исчезающее изображение. – Бэ-э! Шарлатан! Не стану я лизать тебе задницу, Лускус, и тебе не дам. Даже если останусь без гранта!
Телефон звонит снова. На экране появляется смуглое лицо Руссо Красного Ястреба. Нос у него орлиный, а глаза – как осколки черного стекла. На его широком лбу – красная повязка, прямые черные волосы падают на плечи. Он в куртке из буйволовой кожи, на шее бисерное ожерелье. На вид он похож на индейца из прерий, хотя и Сидящий Бык, и Бешеный Конь[9], и любой другой носатый индейский вождь в два счета вышибли бы его из своего племени. Дело не в антисемитизме – просто они не стали бы терпеть воина, который весь покрывается сыпью, стоит ему только близко подойти к коню.
Родился он Джулиусом Эпплбаумом, а когда наступил День Переименования, превратился в Руссо Красного Ястреба. Сейчас он только что вернулся из леса, где приобщался к первобытности, и теперь наслаждается ненавистными благами этой порочной цивилизации.
– Как дела, Чиб? Ребята спрашивают, когда ты появишься.
– У вас? Я еще не завтракал, и мне нужно сделать множество дел, чтобы подготовиться к показу. Увидимся в полдень!
– Ты много потерял, что не был вчера вечером. Какие-то вонючие египтяне вздумали пощупать девиц, ну, мы им и устроили салям-алейкум.
Руссо исчезает, словно последний из могикан.
Чиб только успевает подумать о завтраке, как звонит внутренний телефон.
– Сезам, откройся!
Он видит на экране гостиную. В воздухе клубится дым, такой густой и плотный, что кондиционер не может с ним справиться. В дальнем конце овальной комнаты спят на лежаке его маленький сводный брат и сводная сестра. Наигравшись в «ма-му и ее приятеля», невинные крошки уснули с приоткрытыми ротиками, прекрасные, какими могут быть только спящие дети. У каждого между закрытых глаз – по немигающему оку, словно у циклопа.
– Правда, они очаровательны? – говорит Мать. – Малютки слишком устали, чтобы добраться к себе.
Посреди комнаты стоит круглый стол. Вокруг него – престарелые рыцари и дамы, готовые отправиться в странствие на поиски туза, короля, дамы и валета. Вместо доспехов они облачены в бесчисленные слои жира. Щеки у Матери свисают вниз, словно знамена в безветренный день. Ее необъятные груди расползлись по столу, они колышутся, сотрясаемые волнами ряби.
– Безобразные китообразные, – говорит он вслух, глядя на жирные лица, гигантские груди, массивные крупы. Они удивленно поднимают брови. Что там болтает этот полоумный гений?
– А правда, что твой сынок – умственно отсталый? – спрашивает один из приятелей Матери, и все со смехом прихлебывают пиво. Анджела Нинон, не желая пропустить эту сдачу и сообразив, что Мать все равно скоро включит автоматы мокрой уборки, писает под себя. Все разражаются хохотом, а Вильгельм Завоеватель говорит:
– Начинаю.
– А я уже кончаю, – отзывается Мать, и все покатываются со смеху.
Чибу хочется заплакать. Но он не плачет, хотя ему с детства внушали, что можно плакать всякий раз, когда только захочется.
«... От этого становится легче на душе, и потом посмотрите на викингов – какие были мужчины, а плакали, словно дети, всякий раз, как только им хотелось».
202-й канал, популярная программа «Идеальная Мать»
Он не плачет, потому что у него такое чувство, словно он вспоминает Мать, которую очень любил, но которой нет в живых, которая умерла много лет назад. Его Мать давно уже погребена под оползнем мяса и жира. У него была замечательная Мать, когда ему было шестнадцать.
А потом она его отлучила.
«У КОГО ХОРОШО СОСУТ, ТЕ ВСЕГДА ХОРОШО РАСТУТ».
Из стихотворения Эдгара А. Гриста, 88-й канал
– Сынок, мне это не доставляет особого удовольствия. Я делаю это только потому, что люблю тебя.
А потом – жир, жир, жир! Где она теперь? Погрузилась в бездну сала. Все толще, все глубже.
– Сынок, ты бы мог хоть повозиться со мной время от времени.
– Ты же меня отлучила, Мать. И правильно сделала, я уже большой. Только теперь не рассчитывай, что мне захочется заняться этим снова.
– Ты меня больше не любишь!
– Что на завтрак? – спрашивает Чиб.
– Мне пришла хорошая карта, Чибби, – отвечает Мать. – Ты давно говоришь, что уже большой. Хоть раз можешь сам приготовить себе завтрак?
– Зачем ты мне позвонила?
– Я забыла, в котором часу открывается твоя выставка. Хочу успеть вздремнуть перед тем, как отправляться.
– В 14. 30, но тебе идти необязательно.
Накрашенные зеленой помадой губы раскрываются, как гнойная рана. Она чешет пальцем подрумяненный сосок.
– Нет, я хочу там быть. Не могу же я не присутствовать на триумфе своего собственного сына. Как ты думаешь, дадут тебе грант?
– Если не дадут, не миновать нам Египта.
– Вонючие арабы! – заявляет Вильгельм Завоеватель.
– Это решает Бюро, а не арабы, – возражает Чиб. – Арабы переехали сюда по той же причине, по которой нам придется переезжать туда.
«Кто мог бы подумать, что Беверли-Хиллз станет гнездом антисемитизма? »
Из неопубликованной рукописи Деда
– Я не хочу ехать в Египет! – плаксивым голосом говорит Мать. – Ты должен получить этот грант, Чибби. Я не хочу уезжать из этой грозди. Я здесь родилась и выросла – ну, на десятом уровне, но это все равно, и когда я переехала сюда, все мои друзья переехали тоже. Я не поеду!
– Не плачь, Мать, – говорит Чиб с невольным сочувствием. – Не плачь. Ты же знаешь, правительство не может тебя заставить. Не имеет права.
– Захочешь, чтобы тебе и дальше перепадали лакомые кусочки, – поедешь, – говорит Завоеватель. – Если Чиб не получит грант. А я бы на его месте не так уж и старался. Он же не виноват, что с Дядей Сэмом не поторгуешься. У тебя есть твое королевское жалованье и еще то, что получает Чиб, когда продает свои картины. Только тебе этого мало. Ты тратишь деньги быстрее, чем получаешь.
Мать с воплем ярости кидается на него. Чиб выключает фидо. Черт с ним, с завтраком – можно будет поесть попозже. Картина, которую он представляет на Фестиваль, должна быть готова к полудню. Он нажимает на панель, стены пустой комнаты раскрываются сразу в нескольких местах, и из них появляются принадлежности для живописи, словно дар от каких-то электронных богов. Зевксис[10] повредился бы в рассудке, а Ван Гога бросило бы в дрожь, если бы они увидели полотно, палитру и кисть, какими пользуется Чиб.
Процесс создания картины начинается с того, что художник сгибает и скручивает каждую из многих тысяч проволочек, расположенных на разной глубине, придавая им нужную форму. Проволочки так тонки, что их видно только в лупу, и манипулировать ими приходится с помощью крохотных щипчиков. Поэтому, приступая к работе над картиной, он надевает специальные очки и берет длинный и тонкий, как паутинка, инструмент. После сотен часов кропотливых, терпеливых усилий (любви) : все проволочки оказываются размещенными так, как надо.
Чиб снимает очки, чтобы окинуть картину взглядом. Потом берет краскораспылитель и принимается окрашивать проволочки в нужные цвета и оттенки. Через несколько минут краска высыхает. Тогда Чиб подключает к картине электрические провода, нажимает кнопку, и по проволочкам начинает течь слабый ток. Под слоем краски они раскаляются и, словно лилипутские предохранители, сгорают в облачках голубоватого дыма.
В результате получается трехмерное сооружение из полых внутри трубочек твердой краски, лежащих в несколько слоев под поверхностью картины. Трубочки разного диаметра, но все такие тонкие, что, если поворачивать картину под разными углами, свет сквозь стенки их проникает внутрь. Некоторые трубочки представляют собой просто отражатели, усиливаюшие свет, чтобы было лучше видно скрытое внутри изображение.
Когда картину выставляют, ее устанавливают на вращающийся пьедестал, который поворачивает ее на 12 градусов туда и обратно.
Квакает фидо. Чиб, выругавшись про себя, думает, что надо будет, пожалуй, его отключить. Хорошо хоть, что это не внутренний телефон, не Мать с ее истерикой. Пока не она. Но она скоро позвонит, если опять проиграется в покер.
– Сезам, откройся!
НЫНЕ, О ГУСИ, ВОСПОЙТЕ ХВАЛУ ДЯДЕ СЭМУ
«Через двадцать лет после того, как я сбежал с двадцатью миллиардами долларов, а потом считался умершим от сердечного приступа, на мой след снова напал Фалько Акципитер. Тот самый сыщик из Налоговой полиции, который, поступая на работу, взял себе имя “Ястребиный Сокол” [11] . Какая самовлюбленность! Однако он зорок и беспощаден, как хищная птица, и я содрогнулся бы, не будь я слишком стар, чтобы бояться людей. Кто снял с него путы и колпачок? Как он умудрился взять след, который давно простыл? [11]
Из «Конфиденциальных семяизвержений» Деда
Лицом Акципитер похож на чрезмерно подозрительного сапсана, который, паря в небе, старается смотреть сразу во все стороны и даже заглядывает самому себе в задний проход – не притаилась ли там утка. Каждый взгляд его светло-голубых глаз напоминает нож, до поры спрятанный в рукаве и швыряемый в цель неожиданным взмахом руки. Он пристально разглядывает все окружающее с шерлокхолмсовским вниманием к мелким, но многозначительным подробностям. Его голова поворачивается то вправо, то влево, уши то и дело настораживаются, ноздри раздуваются и вздрагивают – не человек, а какой-то радар, сонар и аромадар в одно и то же время.
– Мистер Виннеган, простите, что звоню так рано. Я не поднял вас с постели?
– Вы же видите, что нет! – огрызается Чиб. —Можете не представляться, я вас знаю. Вы следите за мной вот уже три дня.
Акципитер не краснеет. В совершенстве владея собой, он позволяет себе краснеть только в глубине души, так, что никто этого не видит.
– Если вы меня знаете, то вы, может быть, скажете мне, зачем я звоню?
– Неужели я похож на такого идиота?
– Мистер Виннеган, я хотел бы поговорить с вами о вашем прапрадеде.
– Его нет в живых уже двадцать пять лет! – кричит Чиб. – Забудьте про него. И оставьте меня в покое. Не пытайтесь по-лучить ордер на обыск. Ни один судья не выдаст вам ордера. Дом человека – его нелепость... я хотел сказать – его крепость.
Он вспоминает про Мать: ну и денек будет, если только не смотаться отсюда как можно скорее. Но сначала нужно закончить картину.
– Исчезните, Акципитер, – говорит Чиб. – Я думаю, не пожаловаться ли мне на вас куда следует. Уверен, что в этой вашей дурацкой шляпе спрятана фидокамера.
Лицо Акципитера неподвижно и невозмутимо, как алебастровое изваяние бога-сокола Гора. Возможно, и случается, что у него пучит живот, но если и так, то газы он выпускает беззвучно.
– Очень хорошо, мистер Виннеган. Но так просто вы от Меня не отделаетесь. В конце концов...
– Исчезните!
Внутренний телефон издает троекратный свист. Три раза – значит, это Дед.
– Я подслушал, – звучит 120-летний голос, глухой и гулкий, как эхо, доносящееся из могилы фараона. – Хочу повидаться с тобой, пока ты не ушел. Если, конечно, ты можешь уделить старцу несколько минут.
– Сколько угодно, Дед, – отвечает Чиб, думая о том, как сильно он любит старика. – Тебе принести какой-нибудь еды?
– Да, и пищи для ума тоже.
Ну и денек. Dies Irae[12].
Gotterdammerung[13] Армагеддон. Все навалилось сразу. Или пан, или пропал. Или пройдет, или не пройдет. А тут все эти звонки, и наверняка будут еще. Чем кончится этот день?
«ТАБЛЕТКА СОЛНЦА ПАДАЕТ В ВОСПАЛЕННОЕ ГОРЛО НОЧИ».
Из Омара Руника
Чиб идет к выпуклой двери, которая откатывается в щель внутри стены. Центральную часть дома занимает овальная общая гостиная. В правой ближней ее четверти находится кухня, отгороженная складными ширмами шестиметровой высоты, которые Чиб расписал сценами из египетских гробниц – чересчур тонкий намек на современную пищу. Семь стройных колонн , окружающие гостиную, отделяют ее от коридора. Между колоннами – тоже высокие складные ширмы, которые Чиб расписал, когда увлекался мифологией американских индейцев.
Коридор тоже имеет форму овала; в него выходят все комнаты дома. Их семь: шесть спален-кабинетов-гостиных-туалетов-душей и кладовая.
Маленькие яйца внутри яиц побольше внутри огромных яиц внутри гигантского монолита, воздвигнутого на планете-груше посреди овальной Вселенной: новейшая космологическая теория утверждает, что бесконечность имеет форму куриного яйца. Господь Бог сидит на яйцах над бездной и каждый триллион лет или около того принимается кудахтать.
Чиб пересекает коридор, проходит между двумя колоннами, которым он придал форму нимфеток-кариатид, и входит в гостиную. Мать бросает косой взгляд на сына, который, по ее мнению, быстро приближается к безумию, если уже не перешел границу. Отчасти это ее вина: не надо было ей в минуту раздражения отлучать его от Этого. Теперь она стала толстая и безобразная, Боже, такая толстая и безобразная! Теперь не приходится и думать о том, чтобы начать снова.
«Это всего лишь естественно, – постоянно напоминает она себе с тяжелым слезливым вздохом, – что он променял любовь своей Матери на неизведанные, упругие и изящные прелести молодых женщин. Но отказаться и от них тоже? Ведь он не бисекс. Он покончил с этим еще в тринадцать лет. Тогда откуда такое воздержание? И форникатором он не пользуется, я бы его поняла, пусть даже и не одобрила бы. О Боже, что я сделала не так? »
И дальше:
«Я не виновата. Он теряет рассудок, как его отец – Рэли[14] Ренессанс, кажется, его звали, – и как его тетка, и его прапрадед. А все живопись и эти радикалы – Молодые Редиски, с которыми он путается. У него слишком художественная, слишком чувствительная натура. О Боже, если что-нибудь случится с моим мальчиком, мне придется переехать в Египет».
Чиб знает, о чем она думает, потому что она высказывала ему это множество раз и ничего нового выдумать не способна. Не говоря ни слова, он идет мимо круглого стола. Рыцари и дамы из законсервированного Камелота смотрят на него сквозь пивную пелену.
На кухне он открывает овальную дверцу в стене и достает оттуда поднос с едой в тарелках и чашках, закрытых крышками и запечатанных в пластиковую пленку.
– Разве ты не будешь есть с нами?
– Не скули, Мать, – говорит он и возвращается к себе в комнату, чтобы захватить несколько сигар для Деда. Дверь, которая, уловив и усилив зыбкие, но узнаваемые фантомы-образы, излучаемые электрическим полем его кожи, должна передать их механизму, приводящему ее в движение, почему-то упрямится. Чиб слишком взволнован, магнитные водовороты бурлят на поверхности его кожи и искажают конфигурацию спектра. Дверь наполовину откатывается в стену, выкатывается опять, потом, передумав, снова откатывается и выкатывается.
Чиб ударяет по двери ногой, и ее окончательно заедает. Он решает, что надо будет поменять сезам – поставить видео или голосовой. Плохо, что сейчас у него маловато купонов, на оборудование не хватит. Он пожимает плечами, проходит вдоль единственной изогнутой стены коридора и останавливается перед дверью Деда, отгороженной от сидящих в гостиной кухонными ширмами.
– Ибо пел он о свободе,
Красоте, любви и мире,
Пел о смерти, о загробной
Бесконечной, вечной жизни,
Воспевал Страну Понима
И Селения Блаженных.
Дорог сердцу Гайаваты[15]
Чиб нараспев произносит пароль, и дверь откатывается вбок.
Из комнаты вырывается поток света – желтовато-красноватого света, который Дед устроил у себя сам. Когда заглядываешь в эту выпуклую овальную дверь, кажется, будто глядишь в зрачок сумасшедшего. Дед стоит посреди комнаты. Его белая борода ниспадает до половины бедер, а белые волосы водопадом спускаются до самых колен. Но хотя борода и волосы скрывают его наготу, и к тому же посторонних здесь нет, он в шортах. Дед немного старомоден, это простительно для человека на тринадцатом десятке.
Как и у Рекса Лускуса, у него один глаз. Он улыбается, и видны его собственные зубы, выращенные из зародышей, трансплантированных тридцать лет назад. Большая зеленая сигара торчит из его толстых красных губ. Нос его широк и бесформен, словно жизнь прошлась по нему тяжелой поступью. У него большой лоб и широкое лицо – может быть, это сказывается примесь крови индейцев оджибве, хотя родился он настоящим ирландцем по фамилии Финнеган, и даже пот его, как у заправского кельта, попахивает виски. Он стоит, высоко подняв голову, и его серо-голубые глаза похожи на крохотные озера, оставленные на дне глубоких долин растаявшим ледником.
В общем, у него лицо Одина, который возвращается от источника Мимира[16], размышляя, не слишком ли дорого заплатил. Или лицо источенного ветром и песком Сфинкса в Гизе.
– Сорок веков безумия глядят на тебя: что-то в этом роде сказал в свое время Наполеон, – говорит Дед. – «Что же такое человек? » – спрашивает Новый Сфинкс. Загадку Старого Сфинкса Эдип разгадал, но это ничего не изменило, потому что тот уже успел произвести на свет другого подобного себе, шустрого мальчонку, загадку которого пока не разгадал еще никто. И очень может быть, что это к лучшему.
– Ты что-то непонятное говоришь, – откликается Чиб. – Но мне нравится.
Он ухмыляется Деду, потому что любит его.
– Ты каждый день прокрадываешься сюда, и не столько из-за любви ко мне, сколько для того, чтобы набраться знаний и мудрости. Я все повидал, все слышал и много чего передумал. Перед тем как укрыться в этой комнате четверть века назад, я немало попутешествовал. Но эти годы заключения стали для меня величайшей Одиссеей.
СТАРЫЙ МАРИНАД —
так я себя называю. Маринад мудрости, настоянный на крепком рассоле цинизма и слишком долгой жизни.
– Ты так улыбаешься, что можно подумать – у тебя только что побывала женщина, – шутит Чиб.
– Нет, мой мальчик. Вот уже тридцать лет как мой шомпол потерял упругость. И я благодарю Бога за это, потому что теперь избавлен от искушения плотским соитием, не говоря уж о мастурбации. Но кое-какие силы у меня остались, а значит, осталась возможность согрешить, и даже посерьезнее. Кроме того, что совокупление – грех, у меня были и другие резоны не просить Старого Черного Мага – Науку – снова меня накрахмалить какими-нибудь уколами. Я стал слишком стар, чтобы девушек привлекало во мне что-нибудь помимо моих денег. А наслаждаться сморщенными прелестями женщин моего возраста или еще более давних поколений мне не позволяла моя поэтическая натура – я слишком любил прекрасное. Вот как обстоит дело, сынок. Язык моего колокола давно увял и теперь праздно болтается – динь-дон, динь-дон, как ни кинь, а все не в кон.
Дед разражается гулким смехом – львиным ревом, от которого во все стороны разлетаются голуби.
– Я всего лишь рупор древности, адвокат, ходатайствующий за клиентов, которых давно нет в живых. Явившийся не хоронить свое прошлое, а воздать ему хвалу, но, впрочем, побуждаемый чувством справедливости признать кое-какие свои ошибки. Я чудаковатый ворчливый старикан, заточенный, подобно Мерлину, в древесный ствол. Самолксис, фракийский бог-медведь, погруженный в спячку в своей берлоге. Последний из Семи Спящих Отроков.
Дед подходит к тонкой пластиковой трубе перископа, спускающейся с потолка, и откидывает рукоятки.
– Акципитер бродит вокруг нашего дома. На 14-м уровне Беверли-Хиллз он чует что-то недоброе. Неужели старый Чистоган Виннеган не умер? Дядя Сэм – как бронтозавр, который получил пинок под зад: нужно двадцать пять лет, чтобы известие об этом дошло до его мозга.
На глаза Чиба навертываются слезы.
– Бог мой, Дед, я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось.
– Что может случиться со стадвадцатилетним стариком, пока у него работают мозг и почки?
– При всем моем уважении к тебе, Дед, – говорит Чиб, – ты многовато болтаешь.
– Можешь назвать меня мельницей, на которой мелет Ид[17].Мука, которая из нее выходит, выпекается в таинственной печи моего Эго – бывает, правда, что и недопечется.
Чиб усмехается сквозь слезы:
– Меня еще в школе учили, что всякая игра словами – это дешевка и признак вульгарности.
– Что годится для Гомера, Аристофана, Рабле и Шекспира, то годится и для меня. Кстати, о дешевке и вульгарности – я встретил твою Мать в коридоре вчера вечером, перед тем как они засели в покер. Я как раз выходил из кухни с бутылкой спиртного. Она чуть в обморок не упала. Но тут же очухалась и притворилась, будто меня не видит. Может, и вправду решила, что встретила привидение. Но сомневаюсь. Она бы разнесла это по всему городу.
– Возможно, она сказала об этом своему врачу, – говорит Чиб. – Ты ей попался на глаза и несколько недель назад, помнишь? И она могла об этом вспомнить, когда жаловалась на свои так называемые головокружения и галлюцинации.
– А старый костоправ, зная историю нашей семьи, навел на нас Налоговую полицию? Возможно.
Чиб приникает к окуляру перископа. Он поворачивает трубу и крутит рукоятки, поднимая и опуская объектив, торчащий наружу. Акципитер расхаживает вокруг грозди из семи яиц, к каждому из которых ведет от центрального пьедестала широкий, легкий, изогнутый, словно ветка дерева, пешеходный мостик. Потом он поднимается по ступенькам одного из мостиков к двери миссис Эпплбаум. Дверь открывается.
– Должно быть, улучил момент, когда она на минутку отошла от форникатора, – говорит Чиб. – Наверное, ей надоело сидеть одной – она не стала говорить с ним по фидо. Бог мой, она еще толще Матери!
– Еще бы, – отзывается Дед. – Теперь все целыми днями только пьют, едят и смотрят фидо, не отрывая задницы от стула. От этого у них размягчаются и мозги, и тела. Цезарю в наше время ничего не стоило бы окружить себя надежной защитой из друзей-толстяков. И ты наелся, Брут?
Однако замечание Деда вряд ли относится к миссис Эпплбаум. У нее дыра в голове, а те, кто пристрастился к форникатору, редко бывают толстыми. Весь день и почти всю ночь они сидят или лежат, введя в совокупительный центр мозга иглу, по которой поступают слабые электрические импульсы. С каждым импульсом по всему их телу пробегают волны неописуемого блаженства, оставляющего далеко позади удовольствие от любой еды, питья и секса. Это противозаконно, но правительство обычно оставляет форника в покое, разве что решает прищучить его за что-то другое: у форников почти никогда не бывает детей. У 20 процентов жителей Лос-Анджелеса в голове проделаны дыры и в них вставлены тоненькие трубочки для введения иглы. У пяти процентов – болезненное пристрастие к этому: такой человек худеет, почти не ест, яды из переполненного мочевого пузыря отравляют ему кровь.
– Мои братишка и сестренка тоже могли видеть тебя, когда ты тайком шел к мессе, – говорит Чиб. – Не они ли...
– Они тоже принимают меня за привидение. И это в наше-то время! Впрочем, возможно, оно и к лучшему – если они способны во что-то верить, хоть в привидения.
– Лучше бы ты перестал тайком ходить в церковь.
– Церковь и ты – вот две вещи, которые меня еще поддерживают. Я был очень опечален, когда ты сказал мне, что не можешь верить. Из тебя получился бы хороший священник – не без недостатков, конечно, – ты мог бы служить мессы и исповедовать меня прямо здесь, в этой комнате.
Чиб молчит. В свое время он посещал службы, чтобы сделать Деду приятное. Яйцевидный храм напоминал ему морскую раковину: если приложить ее к уху, слышен только далекий рокот Бога, отступающий, как волны в отлив.
«СТОЛЬКО ВСЕЛЕННЫХ МОЛЯТ ПОСЛАТЬ ИМ БОГА, А ОН ОКОЛАЧИВАЕТСЯ В НАШЕЙ, ВЫДУМЫВАЯ СЕБЕ ДЕЛО».
Из рукописи Деда
Дед отбирает у Чиба перископ.
– Налоговая полиция! – говорит он смеясь. – Я думал, ее давно распустили! У кого теперь такой большой доход, чтобы стоило его декларировать? А как по-твоему, может быть, они все еще существуют только ради меня? Вполне возможно.
Он снова подзывает Чиба к перископу, направленному на центр Беверли-Хиллз. Чиб смотрит в просвет между гроздьями из семи яиц каждая, стоящими на своих ветвящихся пьедесталах. Он видит часть центральной площади, гигантские яйцевидные здания мэрии, федеральных учреждений, Центра народного искусства, часть массивной спирали, на которой расположены молитвенные дома, и дору (от «ПАНДОРы»), где сидящие на королевском жалованье получают продукты и товары, а те, кто имеет дополнительные доходы, – еще и всякие лакомые кусочки. Виден отсюда и уголок обширного искусственного озера; в лодках сидят рыбаки с удочками.
Купол из радиационно-модифицированного пластика, который возвышается над гроздьями зданий, – голубой, как небо. Электронное солнце поднимается к зениту. Белеют несколько облаков, очень похожие на настоящие. Виден даже косяк гусей, улетающих на юг, и доносится их перекличка. Тем, кто ни разу не покидал стен Лос-Анджелеса, все это очень нравится. Но Чиб прослужил два года во Всемирном корпусе восстановления и сохранения природы и знает, что это совсем не то. Он чуть было не решил дезертировать вместе с Руссо Красным Ястребом, вступить в ряды неоиндейцев, а потом стать егерем в лесничестве. Но тогда ему рано или поздно пришлось бы ввязаться в перестрелку или арестовать Красного Ястреба. К тому же ему не хотелось служить Дяде Сэму. А больше всего ему хотелось писать картины.
– А вот и Рекс Лускус, – говорит Чиб. – Он дает интервью у входа в Центр народного искусства. Ну и толпа.
«ПРОРЫВ В ПЕЛЛЮСИДАРНОСТЬ»
Лускус вполне заслуживает, чтобы его прозвали выскочкой. Располагая обширной эрудицией, доступом к компьютерной библиотеке Большого Лос-Анджелеса и хитроумием Одиссея, он всегда одерживает верх над своими коллегами.
Это он положил начало направлению в критике, которому дал название «стриптиз»..
Его главный соперник Прималюкс Рескинзон провел кропотливое исследование и торжественно объявил, что Лускус позаимствовал это слово из давно забытого жаргона середины двадцатого столетия.
На следующий день Лускус в интервью по фидо заявил, как и следовало ожидать, что Рескинзон – весьма поверхностный ученый. На самом деле это слово взято из готтентотского языка и по-готтентотски означает «пристально разглядывать» – то есть разглядывать объект до тех пор, пока не увидишь в этом объекте – в данном случае в художнике и его работах – самое главное.
Критики выстраивались в очередь, чтобы записаться в приверженцы нового направления. Рескинзон уже подумывал, не покончить ли с собой, но вместо этого обвинил Лускуса в том, что тот высосал это слово, но только не из пальца.
Лускус в очередном интервью по фидо отвечал, что до его личной жизни никому нет дела и что он мог бы подать на Рескинзона в суд. Однако не стоит тратить на него силы – достаточно просто прихлопнуть его, как комара.
– А что это за штука такая – комар? – удивились миллионы зрителей. – Не может, что ли, этот умник говорить так, чтобы всякому было понятно?
И Лускусу отключили звук на целую минуту, пока переводчик, которому режиссер незаметно сунул записку, справился в компьютерной энциклопедии и объяснил, что такое комар.
Шума вокруг нового направления в критике хватило на два года. А потом Лускус восстановил свой пошатнувшийся было престиж, создав философию Человека Всемогущего. Она приобрела такую популярность, что Бюро культурного развития и развлечений потребовало ввести на полтора года ежедневную часовую передачу для первоначального обучения всемогуществу.
«Что можно сказать про Человека Всемогущего, про этот апофеоз индивидуальности и психосоматического совершенства, про этого демократического сверхчеловека, которого проповедует этот Рекс Лускус? Бедный Дядя Сэм! Он старается насильно втиснуть своих многоликих граждан в единые и постоянные рамки, чтобы ими можно было управлять. И в то же самое время пытается уговорить каждого из них развить и довести до полного расцвета все присущие ему способности – если таковые обнаружатся. Бедный старый долговязый, козлобородый, добросердечный, тупоголовый шизофреник! Воистину левая рука не ведает, что творит правая. Больше того – и правая рука не ведает, что творит правая».
Из «Конфиденциальных семяизвержений» Деда Виннегана
– Что можно сказать про Человека Всемогущего? – отвечал Лускус на вопрос комментатора во время четвертой передачи из серии «Лускусовы чтения». – Где здесь несоответствие духу нынешнего времени? Никакого несоответствия нет. Человек Всемогущий – императив современности. Он должен появиться на свет, если мы хотим воплотить в жизнь Золотой Мир. Разве может быть утопия без утопийцев, а Золотой Мир – с людьми из меди?
И в тот же памятный день Лускус прочел ту лекцию о «Прорыве в пеллюсидарность», которая сделала знаменитым Чибиабоса Виннегана. А кроме того, позволила Лускусу на много очков опередить своих соперников.
– Пеллюсидарность? Пеллюсидарность? – бормотал Рескинзон. – О Боже, что еще придумал этот пустозвон?
– Мне понадобится некоторое время, чтобы объяснить, почему я использовал это слово, говоря о гении Виннегана, – продолжал Лускус. – Но сначала позвольте мне сказать несколько слов, которые могут показаться некоторым отступлением от темы.
ОТ АРКТИКИ ДО ИЛЛИНОЙСА
– Конфуций однажды сказал, что стоит на Северном полюсе пукнуть медведю, как в Чикаго поднимается буря. Он имел в виду, что все события, а следовательно, и все люди, взаимосвязаны и образуют неразрывную паутину. То, что делает один человек, как бы незначительно на первый взгляд это ни было, сотрясает всю паутину и влияет на всех других людей.
Хо Чунг Ко, сидя перед своим фидо на 30-м уровне Лхасы (Тибет), говорит жене:
– Этот белокожий мудак все перепутал. Конфуций ничего такого не говорил, Ленин нас сохрани! Вот позвоню ему и скажу...








