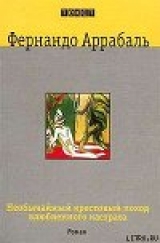
Текст книги "Необычайный крестовый поход влюбленного кастрата, или Как лилия в шипах"
Автор книги: Фернандо Аррабаль
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
XXVI
Боже упаси кого-нибудь подумать, что я, впав в жеребячью вульгарность, использую свой роман как Троянского коня, – хотя именно это было в свое время сделано Илиадой и не повлекло ни обвинения со стороны газетчиков в плагиате, ни стрельбы из пушки по воробьям. Нет, я взял в руки перо не для того, чтобы высказать, что я думаю о своих коллегах, – дело столь же пакостное, сколь и отвратительное... Поэтому они спокойно могут облачаться в белые халаты для пущего разнообразия.
Когда председатель совета Гильдии стал уламывать меня усыпить Тео при помощи лекарств, я закричал, не повышая голоса: «Унтер, да вы слегка спятили». Он угостил меня всем известной байкой о преступлениях Тео, которая мне по-настоящему легла на душу: ну прямо-таки рассказ Эдгара Аллана Дойла. Мне не нравились разговоры о веревке в доме повешенного, хотя в ту пору мои коллеги, убивая, еще не пользовались веревками. Он настаивал allegro barbaro.{20}20
Скоро варварски (ит.) – музыкальные обозначения.
[Закрыть] Надо было видеть, с каким стальным апломбом он сноровисто надсаживал глотку. Этот председатель Гильдии врачей для пущей неосмотрительности позволял себе незапамятную роскошь руководить, сверх того и без передышки, больницей на семь тысяч койко-мест, не считая каталажки! Больницей, в которой пациенты сообща и здраво умирали как мухи в количественном и качественном выражении! В таких обстоятельствах, да еще с учетом прилива, имел ли право кладбищенский поставщик, страдающий стахановским синдромом – я имею в виду председателя Гильдии врачей, – катить бочку на Тео за его невинные грешки? В то время как он сам широкомасштабно и как последняя скотина... Ладно, молчу... Не буду ставить дражайшим коллегам в вину, хоть это мое право (и долг блюстителя рода человеческого), предумышленное убийство, смертоносные методы терапий вкупе с нарушением правил дорожного движения, неправедные диагнозы, лишающие трудоспособности операции и главное – запах тлена, ибо дезодорантом для подмышек они не пользуются.
А всем злопыхателям, обладающим отменной: памятью, буде они предположат за моей обличительной яростью личную обиду памфлетиста, я скажу, что пять лет отлучения пронеслись с быстротой пятилетки в четыре года, не оставив во мне никаких следов, кроме душевных ран, которых следовало ожидать. Не держа зла на сердце, я вернулся в больницу имени Гиппократа с намерением смыть оскорбление, которое немыслимо было мне нанести. Я сказал себе, что, в конце концов и из конца в конец, «при прочих равных условиях врач – всего лишь такой же человек, как все»: злодеяния, которые он творит, совершаются не только потому, что он должен есть триста шестьдесят пять дней в году – а в високосные годы триста шестьдесят шесть, – но и потому, что ему необходим вдобавок оплаченный отпуск и все тридцать три удовольствия на лыжном курорте.
XXVII
Жизнь Тео я мог бы изложить в одной фразе, литой, как архипелаги, из архисеребра, – вот почему я посвящаю ему так много нанизанных одна на другую глав. Он был столь же красивым, сколь и милым мальчуганом, однако достаточно скромным, чтобы никто не показывал на него пальцем на улице... кроме разве что его матери, которая боготворила сына даже в безлунные месяцы. Тот факт, что первое убийство он совершил на другой день после смерти матери, – такая же случайность, как присутствие утки в яблоках, и следствие удара, которым явилась эта кончина при его крутом характере, о чем свидетельствует имя.
Неотразимое очарование Тео порождалось его обаянием, с первого взгляда и без задней мысли, ибо был он домоседом и домушником. С тех пор как его покинула кормилица ради робкого солдатика, болезненная, но исполненная житейской мудрости гримаса исказила его лицо; она осталась с ним на всю жизнь, как чернила с каракатицей. С этой благоприобретенной гримасой он ни на миг не расставался, даже в час, когда хоронил в огороде своих товарищей по Корпусу ad libitum.{21}21
Свободно (лат.). Термин употребляют в основном для обозначения кратковременной импровизации в театре, музыке, ораторском искусстве. В медицинских рецептах сокращение ad lib. означает, что лекарство или его компонент может использоваться в любых количествах.
[Закрыть]
Сказать по правде, Тео был вовсе не соблазнителем, как считали все, в том числе окружающие, а безутешным созданием. Никто никогда не любил его: все наперсники в любовных делах благоволили его утешать, но не выходя за рамки благих намерений. Не Дон-Жуаном выглядел он, скорее увечной сардинкой, знававшие лучшие дни и растерявшей свое масло. Тео был человеком бездеятельным и до того своеобычным, что казалось, будто он денно и нощно сдает экзамен по классу танца святого Витта, но sotto voce,{22}22
Вполголоса (ит.) – музыкальное обозначение.
[Закрыть] что делало его па еще разнообразнее.
По словам полиции, Тео убивал одного за другим всех, кто любил его, поскольку был он юноша степенный и ответственный, не в пример многим другим, не вертопрах, не верхогляд и не зануда. Комиссар уперся рогом, перебив китайских болванчиков, потому что не желал видеть в линиях руки дистанцию, отделяющую любовь от утешения.
Так велись в наше время полицейские расследования на современный лад – ни шатко ни валко, без тени рояля и без попытки выслушать мнение жертв, высказанное посмертно и громогласно.
Полиции, чем докучать честным людям и пудрить им мозги, следовало бы делать свое дело со щитом, а не на щите. Времена тогда были смутные и небезопасные, особенно в самых охраняемых районах, но полицейские чины, вместо того, чтобы искать виновных в краже суассонской вазы{23}23
Имеется в виду известный исторический анекдот: когда в 486 г. король Кловис разбил римлян на месте нынешнего города Суассона, один из солдат отказал отдать свою долю добычи – украденную из храма вазу, которую король хотел преподнести в дар Реймсскому епископу. Солдат предпочел разбить вазу, тем самым напоминая королю о равенстве всех воинов при дележе трофеев. Год спустя, производя смотр войск, Кловис разбил мечом голову этому солдату со словами: «Так сделал ты с суассонской вазой».
[Закрыть] или рук Венеры Милосской, целыми днями пережевывали слабости Тео, да еще с отменным аппетитом. Так все шло ни шатко ни валко, и уж совсем из рук вон плохо ловился рыбий жир.
XXVIII
Я вдруг обнаружил, размышляя о комплексе неполноценности, который должен овладевать больными, после того как их прикончат врачи, что уже пошла двадцать восьмая глава моего романа, а посвящения я так и не написал. Бывают, разумеется, и романы без посвящения, но это замечают, перелистав первые несколько страниц, даже если автор живет на широкую ногу.
Пусть комиссар, неизбежный и телефонный, не воображает, что я посвящу ему эту книгу, ненапечатанную, равно как и непечатную. Этот чиновник от романа, столь же нудный, сколь и некомпетентный (Фигаро здесь, Фигаро там), страдал навязчивой манией, и эта высушенная идея заставляла его обвинять Тео между молотом и наковальней. Его не волновало, в чем он сам признался с отягчающими обстоятельствами, что Тео был положительным героем моего романа. Два пишем три в уме.
Я был так шокирован его раздухарившимися нападками, что мог бы подпалить ему бороду на параде бритых – это к примеру. Оговорюсь, что не люблю ляпать что попало наобум, не приводя примеров, которые проливают свет на то, чему бы лучше оставаться в тени.
Более чем вероятно, что комиссар похвалялся ex cathedra{24}24
С кафедры (лат.) – католический термин, обозначающий учение Папы, которое он произносит официальным образом, исполняя свои обязанности учителя и пастыря всех христиан. Согласно догмату о папской безошибочности учение по вопросам веры и нравственности, произнесённое Папой ex cathedra обладает безошибочностью.
[Закрыть] перед своими инспекторами посвящением, которое я отнюдь не собирался преподносить ему на серебряном подносе, даже согласись он ради этого позолотить пилюлю.
Генеральный директор министерства здравоохранения и председатель Гильдии врачей имели не больше оснований ожидать от меня посвящения – на то было четыре причины: во-первых, они покупали птифуры в консульстве Патагонии, вторая причина та же, только погуще, и, наконец, в-третьих, чтобы никто не догадался. Всякий раз, когда я думал об этой парочке остолопов in partibus,{25}25
Титулярный епископ, лат. episcopus titularis in partibus infidelium (в переводе: титулярный епископ в стране неверных) или просто in partibus – слова эти прилагаются к титулу тех католических епископов, которые имеют епископский сан без соответствующей ему юрисдикции.
[Закрыть] мне изменяло мое легендарное и желчное хладнокровие, даже если в тот день на мне были шведские носки, которые, как известно, лучше всех и много теплее спичек того же происхождения. Кому, задавал я себе законный вопрос, может прийти в голову, что я посвящу мой роман, подобный зеркалу с сюрпризом, двум столь грязным душонкам – грязным даже после ножной ванны, которую, впрочем, они никогда не принимали, предпочитая ванну сидячую? Что красноречиво свидетельствует об уровне воды и серого вещества, скорее даже черного и размягченного, как очковый ящер и паук в поисках чердака. Vade retro… tu quoque fili?{26}26
Vade Retro Satanas – отойди от меня, сатана (лат.) и Tu quoque, Brute, fili mi! – И ты, Брут, сын мой (лат.).
[Закрыть]
XXIX
Когда больные желали обедать, телефон звонил, не переставая. Сесилия, восторг мой несметный, громко кричала, призывая Тео, а тут еще мышь по имени Гектор хотела знать, воротясь из-за ворот, необходимо ли в другой жизни чистить зубы… но именно в это самое время я, попутно уравнивая чаши весов и мер, писал посвящение к роману.
Как ни прискорбно, мне не удалось на голубом глазу отыскать в боргезианской библиотеке Корпуса Неизлечимых, тогда еще не открытого за недостатком оснащения, исчерпывающего и глубинного труда о посвящениях шедевров по часовой стрелке. Долго ли, коротко, пришлось просить совета у мыши по имени Гектор, у Сесилии, меда моего иудейского, и, наконец, у Тео, в порядке убывания, силлабическом и подобном петлям вязания. Из этой ассамблеи судей я удалил правительства, по обоюдоострым причинам… тех самых членов, которые присудили мне награду с оглушительным цинизмом: что бы им подумать о бедных сиротах, что скитаются по белу свету без страха и припёка и не могут даже отправиться каравеллой на Сандвичевы острова?
Если иметь в виду мои так блистательно увенчавшиеся успехом отношения с Сесилией, бабочкой моей орбитальной, было бы нарушением не выносимой тайны, подкреплявшей наши отношения, как краеугольный камень стену, разгласи я ее посредством посвящения с застежкой-молнией. Я, впрочем, мог бы и скрыть ее под электрической гитарой.
Моя медитация была невозмутимо прервана медсестрой с первого этажа, Гертрудой, которая попросила меня измерить ей температуру. У меня созрел елисейский план продать все термометры, коль скоро они ни на что не годны, кроме как измерять температуру, причем без всяко музыки. И после этого еще говорят о прогрессе науки и tutti frutti!{27}27
Все плоды (ит.). В переносном смысле – всякая всячина.
[Закрыть]
Сесилии, излучине моей лунной, принадлежала вся моя любовь. Зачем же, если уж брать змея за рога, нужны были нам термометры или посвящения? Совсем иначе складывалась артритическая судьба моего романа, который поступился высокой температурой. Не адресовать ли, подумывал я одно время, уже поставив ногу в стремя, посвящение на посошок моим августейшим и столь непохожим читателям в почтовом конверте с маркой для ответа? Но коль скоро мы, плашмя и по диагонали, все равны перед писательским вдохновением, то не посвятить ли мне роман моему самому эпонимичному соавтору, то есть Тео? Я мог бы написать ему сонет в качестве пролога, непременно акростихом, и в этих строках, дабы возбудить его любопытство, бросал бы по любому поводу следующий клич: «Посвящаю Тео, породистому и паровому паладину!»
Посвящение:
«Себе самому, постигшему лучше, чем кто бы то ни было, смысл написанного мною, даже не читая, в силу своего воображения до небес и облаков».
XXX
Любовное пренебрежение, с которым относилась ко мне Сесилия, ностальгия моя трепетная, позволяло мне, примкнув штык, культивировать самую изысканную форму галантной любви. Беспрерывно и непрестанно испытывала она отвращение при виде меня, проявляя тем самым восхитительную и непоколебимую неизменность чувств. Постоянство это делало ей честь в костюме-тройке, хоть она никогда его не носила, поскольку все дни проводила в постели, если только не вставала. Она была до того исполнена прелести, что, осмелюсь поставить в известность моих самых простодушных и самых искушенных читателей, даже в ее моче был виден класс. Несравненные ее отправления малой нужды не были ни сельскими, ни городскими, ни старомодными, ни современными, ни рыба ни мясо, но никто никогда не увидел бы в них и намека на вульгарность и тем более на сухость. Когда она бралась за горшок по утрам, мною овладевало желание – которое я тотчас обуздывал – устроить ей овацию, что я и делал, хлопая в ладоши, сжимавшие ручку ночной вазы.
Сесилия, лилия моя чистейшая, так щедра была с Тео на женские ужимки, что я, глядя на это, краснел, как неспелое яблоко. А между тем, оговорюсь, я в жизни не читал мерзких порнографических романов, герои которых целый Божий день, а порой и ночь, изощряются в изысканных позах, какие встретишь только у бельгийцев. Все это наводило меня на смутную мысль о том, что Сесилия, горизонт мой пророческий, любила меня не менее физически, чем статуя Командора. С самого начала я этого боялся. Это самое чувство я всегда внушал толкательницам ядра. Почитайте, если не верите мне, похождения Казановы. Все без исключения взывали к моей любви так тихо, что призывы эти не могли достичь слуха мужчины, каким я был уже тогда – девственника и вдобавок козерога. До сих пор ни одна не давала воли своим желаниям в утреннем неглиже, но на сей раз Сесилия, фея моя, пеной увитая, дала понять Тео напрямик и наотмашь природу своих аппетитов в мутной воде. Я правильно сделал, я даже очень правильно сделал, что написал посвящение, прежде чем пережить понаслышке подобный казус.
Те из больных, кому приходило в голову утешать Тео, умирали самым неопровержимым образом, потому что попросту переставали жить. Если Сесилия, коала моя, во сне пригрезившаяся, еще не умерла, что представлялось мне очевидным, потому что она была жива, то лишь по той причине, что любила меня и нашим, и вашим, когда утешала Тео всеми отверстиями, языком и прочими выпуклостями.
XXXI
Министр юстиции посредством телефона и собственной персоной! Не будь это так комично, я расхохотался бы в натуральную величину, когда он позвонил мне, заливаясь горючими слезами, Я ответил ему шарадой, тщательно сосчитав в ней количество слогов: «Передайте трубку министру морского флота Андорры!»
Здесь я делаю паузу, для того чтобы мои прозорливые, похотливые и рассеянные читатели оценили нарастающую неразбериху поступавших мне телефонных звонков, равно как и вносимую дальтониками, которые мало того что видят зеленое красным, так еще и красное зеленым. Надо полагать, в этом кроется причина увеличения числа подавившихся лангустами в ресторанах, специализирующихся на дарах моря.
Вы, наверно, помните (перечитайте предыдущие главы или напишите мне, чтобы я выслал вам их краткое содержание), что все началось с телефонного звонка из экваториальной полиции. Вы вряд ли забыли также, что комиссар инкриминировал Тео убийство рукою мастера и что я надел, воспользовавшись отсутствием в телефонном аппарате турбореактивного двигателя, ему на голову ведро с золой. Затем председатель Гильдии врачей в свою очередь позвонил мне и потребовал накачать Тео наркотиками, как будто ему предстояло дописать главу к «Суррогатному раю» Сент-Экзюпери.
Все были заодно, как фуражка с начальником вокзала, все хотели, чтобы я пользовал Тео абсурдным манером, каким обычно пользует врач своих больных на последнем вираже перед финишной прямой. Я им ответил, пусть не рассчитывают на меня, чтобы пичкать Тео лекарствам и тем паче наркотиками нон-стоп и с аншлагом! К тому же мне вспомнился тот знаменитый психиатр, у которого никогда не простаивала кушетка: он ставил чашки с кофе и пепельницы на груди пациенток, а сам тем временем играл морской бой с племянницей в костюме Евы под кроватью Спинозы.
Я чувствовал, как гнев поднимается во мне точно рыба в воде. Во всем были виноваты врачи и особенно – мое невезение в русской рулетке; я не раз доказал это наглядно с шифрами руках.
Но если они – делать им нечего – выдвинули блистательную гипотезу о том, что Тео был самым настоящим висельником и убийцей, зачем им понадобилось сажать его на наркотики моими руками и по твердой цене? Мог ли я предпринять расследование с подозреваемым, который спал, как у себя дома? Мог ли застичь на месте особо тяжкого преступления, именуемого убийством, человека, сонного в пух и прах? Но если Тео и в самом деле преступник, служит ли ему сон орудием, чтобы убить самого председателя Гильдии врачей? Вот ведь сборище ничтожеств и олухов!
XXXII
Министр юстиции пытался умаслить меня сообразно со своей должностью, которая ко многому обязывала. Я опасался, как бы он не пожаловал мне еще одну правительственную награду... не хватало только, чтобы мои коробки из-под подержанных ботинок были единогласно превращены в рога изобилия, полные через край медалей, крестов, орденских лент и лавров из шоколада, причем даже не швейцарского.
Чтобы сломать ледок лета, я спросил:
«Господин министр, не желаете ли дромадера, серьезного и с отличными служебными характеристиками, для покупок по каталогу?» Он не усмотрел – потому что был министром – отсутствия иронии, крывшегося в моем замечании, помимо обещанных златых гор. Я обратил внимание, что он во всем со мной соглашался, как будто разговаривал с сумасшедшим, хотя единственная разумная вещь, которую он мог бы сделать в подпитии, как и все его собратья из правительства, – это подать в отставку, предварительно почистив нос едким натром.
Он уже успел заколебать меня своими громами и молниями, да еще, вдобавок ко всем кушам и заначкам, намеком коснулся Тео. В тот самый момент... когда могла без объявления разразиться мировая война, вычисленная Нострадамусом. Я был так взбешен, что перепутал свой палец со смычком первой скрипки и, не зная, как далеко меня занесет, запасся обратным билетом.
Министр торжественно и телефонно назначил меня главным администратором судопроизводства в Корпусе Неизлечимых, в полном соответствии с правилами Аристотеля. Правительство в полном составе поручило ему поздравить меня публично и в третьей степени.
Сразу после этого он потребовал, чтобы я нынче же вечером запер Тео на ключ и накрепко в погребе, в подвальном этаже, который, для пущего смеха, не находился на крыше. Дабы подчинить его грубой силе, он послал мне в мешке две пары наручников «made In Mauritania», игнорируя позор и поношение национальной промышленности, проданной на корню за границу. Одной парой следовало сковать запястья Тео, подобно глухим в пустыне, другой, более прозаично, его лодыжки a giorno.{28}28
Как днем (ит.). До яркости дневного (солнечного) освещения.
[Закрыть] С тою же инакостью он снабдил меня цепями, чтобы я привязал Тео к газовой плите, и это невзирая на летнюю жару! Я спросил, не нафабрить ли заодно ему усы. Если мои выдающиеся и заунывные читатели дошли до этого места в рассказе, они не могут не знать, какого я мнения в тот момент придерживался о монстре-собеседнике, который был так туп, что не мог даже нарисовать одноименный угол. После этого остается только заткнуть фонтан. Кажется, я все сказал. Продолжение в следующей главе.
XXXIII
Врачи, все равно что пикадоры, – чертовские смертикулы, это знают все, даже полиция, тоже ведь не дура погулять... но склонять их правительственно и нетленно к переквалификации в тюремщиков, как рыб в воде, – от этого краснела даже кожа барабана; однако же насильственной госпитализацией больных столпотворительньные больничные власти уже добились того, что медицина сделала большой шаг в сторону казенного дома, ставший поистине гигантским прогрессом для Человечества, как провозгласил знаменитый республиканский космонавт, ступивший на Луну и наступивший в бульдожье дерьмо.
Готовый скорее умереть, чем лишиться жизни, я телефонно прокричал министру юстиции как рыцарь Байяр при Вальми{29}29
Пьер Террай де Байяр (1476—1524), прозванный «рыцарем без страха и упрека», прославился в войнах с Италией; битва при Вальми с прусской армией состоялась 20 сентября 1792 г.
[Закрыть]: «Они не пройдут!» Стать стражем тюрьмы мне улыбалось не больше, чем песочным человеком!
Министр, удрученный яблоком раздора, пожелал узнать навскидку, какой выход из положения вижу я. С бесконечным уважением наперекосяк я предложил ему обиняками, ретроактивно и вплоть до сегодняшнего дня переименовать Елисейские Поля в проспект Сесилии, листвы моей расцветающей.
Правительство, сообщил мне министр, готово потакать моим «прихотям» и дать мне зеленую улицу при одном-единственном условии: если я посажу Тео под замок. Но на кой мне зеленая улица и даже ажурные тротуары, если Тео давал мне возможность легко перепрыгивать с континента на континент своими сочинениями для Эдуардовых деток!
Тео (я чуть было не написал «мой возлюбленный и прельстительный Тео», но не хочу тратить лишних слов, когда речь идет о создании столь же исключительном, сколь и ослепительном, заслуживающем самых пагубных панегириков, даже сыгранных на губной гармонике), итак, Тео родился на свет в своем родном городе спустя неделю после дня своего рождения. Из чистой скромности он избрал несовершеннолетнее детство, проявив тем самым незаурядную терпимость в вертограде моего дяди.
Я допускаю (ибо, к вопросу о беспринципности, мне тоже было не занимать терпимости), что любовные связи Тео всегда заканчивались трагически... но единственно потому (об этом стоило бы трубить на крышах, чтобы заткнуть пробкой рты злопыхателям), что венчались они смертоубийством. Все эти печальные события свидетельствуют о том, как мало везения было отпущено Тео и как мало успеха он имел у приверженной традициям публики.
XXXIV
Многие мои проворные и божественные читатели писали мне, дабы я держал их меж волком и собакой в курсе патологической и дантовской жизни больных Корпуса Неизлечимых... иными словами, они хотели знать, какой болезнью страдали мои неизлечимые после фазы врачебной тайны.
Мои самые горячие сторонники среди жаждущих и импульсивных читателей желали также прояснить причины ужаса, который внушала эта болезнь всем за стенами Корпуса. Я не спешил с ответом, памятуя, что рукопись моя – роман, а не трагедия отверстой могилы, как еще думали те, кто ожидал поднятия занавеса.
Вопрос: Сколько больных в день поступает в Корпус?
Ответ: Ни много, ни мало, равно числу ежедневно умирающих. Такая всепоглощающая стабильность наглядно показывает, без необходимости совать свой нос в чужие дела, что даже среди самых благонадежных приказывают долго жить лишь те, что жить больше не могут.
Вопрос: Знают ли сами неизлечимые, что они обречены и срок их исчисляется максимум двумя годами?
Ответ: У нас в Корпусе я никогда никого не обязывал подчиняться каким бы то ни было срокам.
Вопрос: Иначе говоря, знает ли больной, войдя в пределы крепостной стены и став пациентом Корпуса Неизлечимых, что жить ему осталось не больше двух лет?
Ответ: Как доктор пуленепробиваемых наук, я должен сказать, что продолжительность жизни и процент смертности не были бы подвержены колебаниям, если бы больные не входили в Корпус через дверь в крепостной стене, а поступали в наш центр кенгуриным прыжком через колючую проволоку.
Вопрос: Ясно выражаясь, знают ли ваши больные, что…?
Ответ (недосказанный заочно, а это не фунт изюму): Разумеется, они знают, что я – автор этого романа, так как то был исключительно урожайный год на портпледы, благодаря озоновому слою над Монмартром.
Вопрос: Получают ли они ежедневно лекарства и питание, необходимые для бесперебойного функционирования Корпуса?
Ответ: Мы так и не получили, несмотря на неоднократные жалобы, арахисовое масло для смягчения простыней.




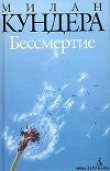



![Книга Обмен мнениями [=Симпозиум] автора Милан Кундера](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)