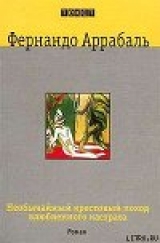
Текст книги "Необычайный крестовый поход влюбленного кастрата, или Как лилия в шипах"
Автор книги: Фернандо Аррабаль
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
XXXV
Комиссар, краснобай почище золотого тельца, позвонил мне снова, чтобы «уведомить» о числе убийств, совершенных Тео, как будто я сам этого не знал gratis pro Deo.{30}30
Безвозмездно из любви к Богу (лат.).
[Закрыть] Сдерживая бешенство и не открывая шлюзов в бедламе, я спросил, по какой причине правительству, которому он служит не в службу, а в дружбу, непременно понадобилось поместить горы в самые возвышенные места страны, упразднив в этих областях морское судоходство. Не удовлетворив ответом мои сетования, комиссар запутался в пагубных и дурного вкуса подсчетах преступлений, которые Тео якобы совершил с отменным аппетитом. В порыве откровенности я посоветовал ему обратиться к психиатру, покуда не упущено время; за умеренную плату я готов был подвергнуть психоанализу его желчный пузырь в скрипичном ключе, а в качестве контрмеры остричь ему пораженные кариесом ногти. Не признавая своего поражения, комиссар, поскольку его саперная команда побраталась со Старой Андоррой, отвечал мне в таком тоне, что я не на шутку испугался, как бы он не пожаловал мне улицу или какую-нибудь Нобелевскую премию... это мне-то, когда я в то утро даже не погладил брюки!
Не пробуя меня умаслить, как это делал простой министр юстиции при исполнении, комиссар попытался пригрозить мне колотушкой Арлекина. Нашел к кому обращаться! Я был сыт по горло макароническими стихами, чтобы получать вдобавок заслуженные угрозы! Все это было так номинально и желудочно, что я едва не объявил сидячую забастовку и не бросил свой роман кверху брюхом, дабы весь мир узнал, на что способна полиция в нашей стране честных, как пауки в банке, граждан, которые платят налоги через пень колоду, а иные ломаного гроша в казну не вносят, как я сам, чем и горжусь.
Черт побери всех полицейских на свете! Да обрушатся на них и на их головы шляпные болванки и высоковольтные электрические овощерезки! Аминь!
Комиссар поведал мне, что в близоруких глазах правосудия, которое вообще слепо по направлению к Свану, я являюсь пособником убийств, совершенных Тео. Вот как устроен мир! Мы добились фантастических успехов в производстве лунных затмений, а полиция между тем еще пребывает на пещерном уровне. Автоматически и не переключая скорости, меня посчитали пособником множества преступлений, и все потому, что... Я был на два пальца от нервной депрессии и добавил наперекор комиссару от всего своего царственного зада и с полным на то основанием: «Ну что ж! Приходите и арестуйте меня, раз вы такой удалец». Шантажист!
XXXVI
Я узнал Сесилию, кифару мою небесную, за несколько лет до ее болезни, принимая во внимание, что в ту пору она могла похвастать отменным здоровьем. Она жила в доме напротив моих родителей, что отнюдь не мешало – совсем наоборот – фасаду ее жилища смотреть на наш, сколько бы воды ни утекло. Она играла на фортепьяно с блеском и лоском, хоть я и страдал в то время затяжным плевритом. Вечерами я ходил послушать ее концерты на лестницу в дом напротив, инкогнито, как за каштанами из огня, стараясь, чтобы никто не заметил моего присутствия. В первые месяцы она, словно снимая сливки, исполняла Шопена, хотя на дворе стоял февраль.
В промокших от снега ботинках, как король, которому я не кум, с раздутыми плевритом легкими, как сам Шопен, которого я пришел послушать, я внимал фортепьянному исполнению Сесилии, хризалиды моей музыкальной. На грани обморока, ибо любовь небезопасна, если принимать ее, не надев доху на меху, я слушал, охваченный восторгом, ее блаженное бренчание, хоть она ровным счетом ничего не умела своими десятью пальцами.
Моя температура, в силу метеорологического феномена типа радуги, поднималась в теле по мере того, как опускалась в заледеневших ногах. Мне следовало бы брать ботинки напрокат, а не покупать их; я вошел в расход и расточительство на свою голову! И заплатил столько... что сам уже не помню.
Мои угодливые и с каждым разом все более многочисленные читатели могли бы уже догадаться, если бы им об этом рассказали мои соседи, чем закончилась та первая попытка сближения с Сесилией, оазисом моим блаженства неземного. Сближение это для пущей безопасности мы производили через закрытую дверь, в молчании, дружелюбном, как луна, и на почтительном, как от сегодня до завтра, расстоянии,
Если учесть, что за первые годы интенсивных и покаянных любовных отношений я так и не сказал ей ни слова, такое препятствие, как возраст, было обойдено ловко и искусно. Незадолго до смерти мой отец открыл мне тайну, известную только ему и матери: Сесилия, лира моя Орфеева, не только была на двадцать лет младше меня, но и будет на столько же младше всегда. Я стоически принял сей ужасный удар судьбы и даже порадовался при мысли, что отец, мир его праху, мог бы сказать мне на смертном одре, что я родился хромым, как Сервантес.
Мой плеврит переродился в туберкулез, как перерождается гусеница в бабочку. В один прекрасный день Сесилия, тюльпан мой снежный, заботясь о моем здоровье и моих ботинках-ледышках, перестала играть на фортепьяно. Только благодаря ей я сейчас вам это рассказываю.
XXXVII
Сесилия, кошечка моя игривая, играла на пианино до двадцати лет, после чего предалась оргиям, хоть это и не были сельди в бочке.
Использовав по назначению наряды, сшитые по моде активных нудистов, которые легкомысленно оставили ей в наследство неразумные родители, Сесилия, мираж мой головокружительный, не видела больше в своей жизни иных горизонтов, кроме множества кроватей, которые заполонили дом и побуждали ее к самым грязным вакханалиям. Аморальность эта, столь пикантная и самодостаточная, стоила бы ноги за превышение скорости оседания эритроцитов любому менее целомудренному созданию, чем Сесилия, море мое под тихими сводами.
Я мог бы многое написать о родителях, которые, по-свински воспользовавшись собственной смертью, дали бедной сиротке, ex aequo,{31}31
Ex aequo et bono (лат.) – по справедливости, а не по формальному закону.
[Закрыть] воспитание столь же аморальное, нелепое и непотребное, сколь и далекое от куртуазности, причем радели об этом с самой своей кончины. Кто, как не они, в ответе за порнографическое поведение бедной беззащитной девушки, всеми покинутой: как зеница ока, в возрасте двадцати лет, без каких бы то ни было современных методик Матушки Гусыни для обучения вышиванию на краю пропасти?
Много лет, будучи парадоксально нелюбопытным, я мог бы понятия не иметь о том, что творилось в доме напротив, если бы однажды не нашел свою всепоглощающую любовь и бинокль в левом ящике буфета на кухне.
Когда, ровно двенадцать месяцев назад, дверь в крепостной стене Корпуса отворилась, как снег на голову, чтобы впустить Сесилию, возлюбленную мою неизлечимую, возлежавшую на носилках… кто, за исключением меня, не испытал акватического чувства, всколыхнувшего все во мне до самой тени?
Я заплакал горючими слезами, как водится и без запчастей.
Подавая признаки зыбкого смятения, я перестал есть левые сандвичи, не заботясь о том, что скажут люди. Так я любил... без необходимости свернуть на перекрестке или отложить премьеру. Благодаря любви куда менее разделенной Данте и Беатриче вошли в историю, не прибегая без нужды к услугам эксперта, что всегда накладно.
Сесилия, суть любви моей, – пациентка в Корпусе Неизлечимых, который возглавляю лично я в новых ботинках! Поворот судьбы и ее брючная стрелка заслуживали, после такого апофеоза, проспекта, названного ее именем. И куда только и наши власть предержащие, все эти господа, отрастившие по три хвоста, хоть и куда менее везучие, чем кошки, у которых их, как известно, по девять? Сборище лодырей и бенедиктинцев!
XXXVIII
Дело Тео передали в суд! Какой скандал! Однажды, в пять часов пополудни минута в минуту и в среднем мне позвонил прокурор Республики и сообщил о начале суда над Тео.
Их наглость весьма удивила меня: забрать заразного больного из зараженного Корпуса Неизлечимых, чтобы, точно матерого волка, выставить его напоказ в зале суда вместе с цветом преступного мира страны!
Прокурор уточнил, что суд над Тео он будет вершить лично, но без Тео. Я нанес контрудар, предложив ему лучше вершить суд над Тео, но без суда.
Известие это застало меня врасплох, так как я ожидал его двумя с половиной главами раньше, дойдя до середины романа и надеясь не сбиться с темпа до победного конца.
Мой телефонный разговор с прокурором зашел весьма далеко по скользкой дорожке, невзирая на кров и стол. Я признался ему, что вижу перед глазами красные как мел пятна. Он спросил, показывался ли я окулисту. Мне пришлось, положа руку на сердце, ответить, что я в глаза не видел никакого окулиста, только красные пятна.
Мышь по имени Гектор хотела связаться с адвокатом Тео, потому что боялась, как бы тот не проглотил нечаянно велосипедный насос.
Тео лежал в постели в чем мать родила, чтобы не простудиться, в обществе Сесилии, суженой моей, свыше предначертанной. Увидев, как он стреляет глазами, я подумал, что адвокату следовало бы защищать его в мантии, только не надетой задом наперед, иначе он окажется в тупике. Сесилия, тропа моя жасминовая, тоже обнаженная из чистой солидарности с Тео, попросила меня с бесконечной нежностью и завидным спокойствием пойти на хутор пасти телят.
Поскольку я, проявив великодушие, достойное лучшего применения, не ушел, она с гибкой грацией метательницы молота запустила в меня горшком. Тем самым она показала, как ноет ее грудь и даже обе от любви ко мне.
Я повесил трубку, не желая больше разговаривать с много о себе понимавшим прокурором, и заверил его, что не являюсь липовым доктором медицины и не оставлю Тео без защиты как мерлузу без майонеза.
XXXIX
Когда пациенты и пациентки, всем утершие ноc, узнали о грядущем суде над изумительным и восхитительным Тео, они стали посылать судьям анонимные письма вместе с собственными удостоверениями личности. Скандал был так силен на склоне дней, что я решительно поставил точку в телефонном разговоре с прокурором, укусив как нечего делать его собаку, чтобы он в ответ прикусил язык!
В те времена толкотни в борьбе за место под солнцем Тео, всегда готовый потискаться, был в летах, а иногда и во хмелю, поэтому следовало положить конец его колебаниям, выжав соки него или из лимона. Он так жестоко страдал!
С самого раннего детства он не отдавал предпочтения в любви мужчинам перед женщинами, молодым перед старыми, красавцам перед уродами, потому что спал со всеми, но отнюдь не мирным сном. Он позволял себя утешать великодушно, точно Жанна на костре! Когда же пресыщался, потому что сердце у него было небольшое и в нем умещалась лишь одна любовь в день без различия по половому признаку, утешитель исчезал с поличным, но безвозвратно.
Сколько россказней и каких гнусных смели распространять о Тео люди, знавшие его лишь понаслежке, без разбора и под углом его слабостей! С какими омерзительно дотошными подробностями смаковали они описания его дел как пить дать. Кто знал его, те, чем танцевать канкан на канате, предпочитали беседовать с ним, даже не обязательно о любви, спать с ним, пусть хоть под открытым небом, и делать ему массаж, хоть и не всегда мягкого места, зато с кремом или, за неимением оного, с собственной слюной, так как Тео не был разборчив, что в лес, что по дрова.
Надо было слышать, как полицейские расписались в своей беспомощности, – а ведь сколько вынюхивали-высматривали денно и нощно с высоты сторожевых вышек! Они рассказывали с изобилием подробностей и из-под полы о том, как Тео избавлялся от своих возлюбленных в Корпусе. Надо полагать, они не знали, что он всех их заботливо хоронил в огороде! Не ведали и того, что таким образом они оставались в его жизни, даже на трехметровой глубине и без контактных линз.
Как права была мышь по имени Гектор, сетуя, что мы живем в материалистическом мире, в котором, вдобавок ко всему, невозможно найти свободное такси! А эти полицейские, швыряя деньги на ветер, позволяли себе роскошь в дыре Ландерно говорить о правах человека... эти маловеры, посвятившие себя без остатка вмешательству в жизнь Тео, вместо того, чтобы открыть, по долгу службы, принципиальную значимость использования кухонного комбайна в веках.
XL
Тот факт, что Тео не спал после обеда со мной, говорил лишь о том, что он этого не делал, и засим я умолкаю, ибо мне известен возраст некоторых из моих знаменательных и немногословных читателей. Тот факт, что Тео не беседовал со мной о любви, держа мою руку в своей, доказывал единственно то, что между нами не водилось такого рода диалогов, и да будет известно тем, кто хочет узнать об этом больше, что я, из чистой скромности, пишу роман, а не прокламацию куклуксклановца. Тот факт, что Тео не просил меня сделать ему массаж, означал только то, что он не обращался ко мне с подобными просьбами. Я не могу представить его умоляющим меня: «Помассируй мне бороду», потому что он не говорил мне «ты».
Сесилия, небо мое зимнее, проделывала с Тео все то, что мог бы совершить я, будь я мимом, только в постели. Эти двое, заставлявшие себя долго просить, знали, как строга и горяча моя бдительная любовь, а это значит, что происходило все в Корпусе, в четырех стенах, на Пасху или на Троицу!
В тот час, когда Сесилию, венец моего сияние, внесли на носилках как очередную неизлечимую в предел крепостной стены Корпуса, возглавляемого мною не за прах, а за повесть, я догадался, что Тео, не опасаясь предательства со стороны своего ночного столика, позволит ей любить себя всего до самого затылка... потому что именно это, ни больше ни меньше, принимал он от других на свою голову.
Тут могла бы быть написана первая глава истории моей любви, не будь мы уже на сороковой и сумей я забыть те безмолвные и юные годы, когда мы с нею пребывали друг против друга, точно два сотрапезника-гурмана.
Первыми же словами, обваляв их в муке, я сделал ей романтическое предложение: пасти стадо шляп-котелков на манер табуна бенгальских тигров. В ту пору эти тигры, палевые и печальные, как киты... Слишком долго рассказывать об этой блудной бойне. Наше правительство умыло руки, не ударив палец о палец, когда эти хищники и пятые колеса в телеге мало-помалу вымирали за неимением свор и отар.
Наша любовь прошла через эти трагические испытания, как основа основ, и не важно, что всякий раз, когда мы встречались в коридорах Корпуса, апофеоза моего вдохновения, она закрывала глаза, чтобы не видеть меня, и плевалась с расстановкой, как заправский снайпер.
XLI
До начала эпидемии и основания Корпуса Неизлечимых я много лет мог созерцать издалека, как бы через бедро Юпитера, вакханалии, в которых принимала участие Сесилия, эфир мой вечной юности.
Но был ли я вправе именовать вакханалиями и не менее эти дьявольские сборища, представавшие во всей красе, которые она сама устраивала три раза в неделю, а иногда и четыре, потому что для ее порочных визитеров не было ничего святого. Но никуда не денешься, ее гости, растленные, как и она сама, нагие, чтобы сподручней было бравировать опасностью, в самом деле предавались всем деяниям и перипетиям, присущим оргии. Мог ли я из этого заключить наизусть, что сии самострелы были просто вакханалиями? Постыдное и детальное зрелище этих тел в свальном грехе, топлива для горнила Молоха, походило в невозмутимой своей мерзости на торговлю пряниками – кнуты, конечно, подразумеваются.
В этом хаосе разнузданного разврата и суставных нравов Сесилия, ласточка моя гостеприимная, не могла скрыться за псевдонимом. Одна под дамокловым мечом, проявляя рвение и экспансионистское усердие до третьего звонка, она давала понять, что думает обо мне, хотя еще меня не знала. Тот факт, что эта маленькая девочка, которой еще предстояло стать подростком, а затем женщиной (она всегда любила нарушать хронологию, прежде чем использовать ее по назначению), тайно любила меня так, что сама этого не замечала, заслуживал 37,7 градусов в тени по Цельсию, и поди знай, сколько по Фаренгейту.
Фаворитов с красными шпорами в этом аду разврата, любви и свежей воды у нее было трое. Первый из них, полковник артиллерии, эколог и пастух по совместительству, держал стадо коз на шестом этаже, в своей квартире в центре столицы, под фонарем и на фонаре. Человек этот был по всем статьям дегенератом и безропотно исполнял любые прихоти, даже самые извращенные, стоило только Сесилии, балерине моей девственно чистой, пожелать, не считая сопутствующих факторов.
СОВЕТ МОИМ НАЧИНАЮЩИМ
И ВЕСЬМА ДАРОВИТЫМ ЧИТАТЕЛЯМ
Я лапчато рекомендую каждому, кто, по той или иной причине, приобрел этот роман на любой вкус, хорошенько посмотреть, не прячется ли кто под его кроватью. Если там окажется полковник, переодетый пастухом, ни в коем случае не открывайте ему дверь и не позволяйте спать на вашем ложе. Такой экземпляр, даже без очков, способен в два счета вызвать бешенство матки у надевших венец безбрачия. Я не скажу ничего больше, но и меньше тоже не скажу.
XLII
Два других фаворита Сесилии, спутницы моей в вечности, были не менее гнусными, чем первый, только с бретонским и пофигистским уклоном. Я по сей день до конца не уверен, что они были мужчинами, потому что видел их только голыми, и к тому же обоих звали Гюстав Флобер.
Мои нетерпеливые и прельстительные читатели могут представить себе, что эти развратные и похотливые, как вставная челюсть в стакане, создания заставляли Сесилию, полночь мою, блестками усыпанную, проделывать, следуя инструкциям, которые она давала им сама. А тот, кто не может себе это представить, пусть не надеется узнать от меня сальные и непристойные подробности, которые трудно было бы напечатать даже в порнографической книге для слепых.
Безумно любить (ибо я всегда пребывал в здравом рассудке до тех пор, пока не стал вечным) Сесилию, паству мою тайную, в таких условиях – то была горькая чаша, которую мне пришлось испить через соломинку до последней капли моей крови. Стоический как комикс, я придерживался сокровенных правил сообразно моему положению соглядатая на дальней дистанции и давал волю мобильной фантазии по обстоятельствам.
Ах! Немного же студентик, которым я был тогда, превзошел на медицинском факультете, особенно по предметам, не входившим в программу! Предметы эти нельзя было даже изучать по телефону, рискуя ранить не в бровь, а в глаз самолюбие преподавателей из плоти и крови. В нескольких метрах от моего балкона школа жизни ненавязчиво учила меня (хоть двери свои она открывала в одиннадцать вечера), и я постиг, что порок по самый зарез растлевает и извращает в первую очередь растленных извращенцев с птичьего полета.
В силу этого опыта, низменного, как стенные часы в стиле Людовика XV, мои чувства к Сесилии, вулкану моему тишайшему, росли вширь и ввысь, как монгольфьер с хроматическими клапанами. Бог весть, как далеко могла зайти, очертя голову, эта любовь, если бы в нынешних обстоятельствах и под моим крылом и протекторатом Сесилия, каравелла моя изумрудная, равно как и Тео, не встретились в Корпусе, будто на тропке лесной? Но я не описывал и описывать не стану разнузданные эротические игрища, которым они предавались вдвоем, тем более что делали они это под одеялом.
И в наше-то время, когда даже надувные куклы читают «Камасутру», какой-то прокурор совершенно хладнокровно сообщает мне по телефону, что Тео будут судить... А сам-то он умеет хотя бы пользоваться гремучей змеей? Олух царя небесного!
XLIII
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГИЛЬДИИ ВРАЧЕЙ
ПО ПОВОДУ НЕПРАВЕДНОГО СУДА НАД ТЕО
«Придурок несчастный» зачеркнуто и сверху вписано: «Глубокоуважаемый месье».
Не удивляйтесь, если Вы не получите Нобелевскую премию по литературе, ибо Анонимное общество «Медицина» представляет угрозу здоровью всех людей, в особенности тех, у кого оно крепкое. (Так что подите-ка Вы в лупампасы с Вашим шоколадным париком!) Профессиональная монополия и вдобавок монополитика (подлый оппортунист!), проводимая Вами в области медицины, делает врачей колонистами повседневной жизни, хоть они и не носят ни белых шлемов, ни панам. (Колониализм!) Вы и Ваши приспешники (грязный сброд!) своим лечением, направленным исключительно на то, чтобы перекроить медицину на живую нитку, низводите пациентов до состояния потребителей процедур, лекарств и одиннадцатичасовых бульонов.
Вы не предотвращаете болезни и не лечите их, вы не можете даже лошадей заставить принести клятву Гиппократа. (Лошадь прилагается, дабы вы убедились, что я не лгу, подлые, трусоватые смертикулы!)
Вторжение медицины в жизнь (прихлебатели!) приводит к утрате каждым отдельным индивидом чувства ответственности в столь важной для здоровья сфере, как болезнь, когда летят журавли. Врач не в состоянии ответить ни на один внятный вопрос пациента (невежды!) о жизни и смерти или о том, что следует делать, внезапно оказавшись нос к носу с цыганом под собственным брачным ложем, которое священно, как вода на мельницу.
Ваше лечение столь же неэффективно, сколь и опасно, поэтому цена его запросто может оставить без штанов, а то даже и без руки, если дашь палец в ходе операции аппендицита. (Когда Вы наконец соберетесь купить очки косым хирургам ?)
Индустрия и коммерция медицинских услуг (эксплуататоры!) стали самыми процветающими отраслями экономики, и нашла коса на камень в эпоху, когда все без исключения пережили закат империй со складными лорнетками.
Закройте же раз и навсегда медицинские факультеты, как это сделано в Китае, для оздоровления общества, а если не желаете, узнайте мнение миллиарда китайцев, только спрашивайте по одному и с глазу на рыло (сборище тунеядцев!).
И не смейте говорить мне о Тео, Вы, человек, способный пустить в продажу тысячи лекарств, которые не лечат ни в ту, ни в другую сторону ни одну неизлечимую болезнь, в том числе грипп, рак и шепелявость (дубина стоеросовая!).
Остаюсь искренне Ваш со всем уважением и любовью, которых заслуживает гиена капитализма.
(Я даже не дал себе труда подписаться.)








