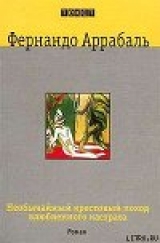
Текст книги "Необычайный крестовый поход влюбленного кастрата, или Как лилия в шипах"
Автор книги: Фернандо Аррабаль
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
VIII
Еще до постройки крепостной стены я был избран главврачом Корпуса Неизлечимых единогласно, без единого воздержавшегося – случай исключительный и бесповоротный в профессии, подобной нашей и склонной к танго. Мои методы поражали своей современностью и лоском. С больными, к вящему негодованию моих коллег, я обращался как с людьми, даже на смертном одре. Помню, как одному милейшему неизлечимому я сказал непринужденнее, чем верблюд в игольном ушке: «Дражайший и чистейший друг мой Полиомиелит, или у меня стетоскоп барахлит, или вы уже труп». Он ответил мне в сердцах и не страдая избытком такта: «Я запрещаю вам называть меня Полиомиелитом в присутствии моих друзей». Он был прав, и я должен признать это без страховочного пояса, ибо звали его Панкрацием, однако он был первостепенно обидчив; для пущего смеха и карантина он умер не от обиды, а от тифа, в чем нет моей вины, как о том свидетельствует его кусок одеяла.
До назначения в Корпус мне довелось побывать на том ставшем притчей во языцех банкете, где я столь блестяще изложил свою смелую и вожделенную теорию медицины. Я так воодушевился, что, пытаясь почистить свои ботинки яйцом всмятку, обнаружил, что мажу их густым майонезом. Эта небольшая промашка, столь же безобидная, сколь и кулинарная, произвела скверное впечатление. Генеральный директор министерства здравоохранения предупредил меня, что в следующий раз, когда я буду приглашен нему на обед, он не станет препятствовать моему содержанию под замком в больнице.
Мои коллеги распустили лживый слух, что я-де презираю медицину и их Гильдию, на том лишь основании, что я шельмовал их как мундир и сутану. Я железобетонно доказал, что единственными болезнями, которые они будто бы излечивали, были уже исчезнувшие... причем без вмешательства медицины! Один миколог развопился так, будто накрыл подпольную сеть торговли гвоздикой: «А туберкулез? Мы искоренили туберкулез!» Я захохотал, как если бы сам себе рассказывал висевший на волоске анекдот, и послал их к странице «Истории болезней», с которой они были незнакомы, ибо non licet omnibus adire Corinthum:{6}6
Не всем дано достигнуть Коринфа (лат.).
[Закрыть] «От туберкулеза в 1812-м умирали семьсот человек из ста тысяч; в 1882-м (год, когда Кох открыл палочку) только триста пятьдесят; к 1904-му, когда был создан первый туберкулезный санаторий, смертность уже снизилась до ста восьмидесяти; а в 1946-м, когда биолог по фамилии Флемминг (а не врач, уточнил я, блеснув шпилькой) открыл антибиотики, умирали всего сорок восемь больных в год. Туберкулез исчез всякого врачебного вмешательства, как чума и брюки с клапаном, и точно так же он теперь возрождается». Я выпалил все это единым духом, так как слова давно вертелись у меня на языке. Коллеги освистали меня до зубов, хоть я и заткнул уши как пень.
Я вышел из банкетного зала так же, как и вошел, правда, в перепачканных майонезом ботинках. С попутным ветром подался я в инакомыслие.
IX
Не будь упразднена гильотина, Тео казнили бы электрическом стуле, а потом для надежности еще и повесили бы с пулей в затылке. Злы на него были чрезвычайно. Поговаривали, будто преступления его столь извращенны и чудовищны, что, рассматриваемые с птичьего полета, они выглядели не то апокрифическими, не то апокалиптическими. Когда в тюрьме обнаружили, что он болен, его отправили в Корпус Неизлечимых и с облегчением опустили руки, подобно встающим дыбом волосам. Живчик-директор исправительного учреждения – упокой, Господи, его душу – сообщил мне в письменной форме, как пальнул из пушки по воробьям, что некоторые черты роднят Тео с самыми кровожадными преступниками, тогда как другие – с тиранозаврами юрского периода.
Тео помогал мне на добровольных началах ухаживать за умирающими в Корпусе и, как будто этого было мало, занимался также огородом в качестве зайцегона. Он засеял на свой лад землю между стеной и оградой Корпуса, хотя ни та ни другая не были сведущи в овощеводстве. У Тео были свои оригинальные идеи на этот счет, например, он не срезал цветную капусту, чтобы не видеть, как поблекнут ее цвета. Сад его был столь своеобычен и категоричен, что произрастали и зрели в нем, a posteriori et sui generis,{7}7
Задним числом и своего рода (лат.).
[Закрыть] только предварительно посаженные и посеянные овощи, невзирая на многочисленные эксперименты с отварной и соленой морковью в неограниченных количествах. Тео вырубил под корень все розовые кусты, так как не любил буйные цвета роз и их утилитарные формы, а от альтернативных ароматов, которые они источали в альковных судорогах, его тошнило. Вдобавок ко всему он уверял, что их наградили смешными именами, не изменив сути. То был эстет, каких рождают только парикмахерские салоны и сельскохозяйственные выставки.
По его мнению, эти хваленые розы не обладали ни достаточной силой, чтобы привести в движение дорожный каток, ни энергией, чтобы питать маяк электричеством.
Полиция же не поддавалась и не сдавалась в своем нежелании допускать случавшиеся по недосмотру смерти пациентов, за которыми Тео ухаживал до их последнего вздоха. Какая скудость фантазии меж деревом и корой! И после этого они еще утверждали, что я брежу и заговариваюсь, что есть ортопедический абсурд, как с отцовской, так и с материнской стороны, ибо язык мой и не думает заплетаться.
Из чистой филантропии и в простоте льняных покровов я предложил Тео, принимая во внимание его пылкий нрав, написать, подобно мне, роман. Каково же было мое удивление по ватерлинии, когда он сказал, что у него на уме уже есть сюжет. Это будет повествование о некоем Корпусе для неизлечимых больных, заразных до очков и отрезанных от мира крепостной стеной с колючей проволокой и проводами высокого напряжения под газом. В оный Корпус для пущего саспенса ежедневно поступает извне новый взасос заразный больной, в то время как внутри один из пациентов беззастенчиво приказывает долго жить. Решительно, фантазии Тео не было границ. Достаточно сказать, что однажды он заявил мне без всякой эксфолиации: «Представляете, какая понадобится сковорода, чтобы зажарить целиком дуб из парка?»
XII
Я был вынужден, не сбавляя темпа, пропустить главы X и XI: в них происходили слишком уж локальные события и могла быть задета честь Тео, которого я всегда чувствую поясницей.
Мои отношения с Сесилией, радугой моей рассветной, достигли нового пароксизма. Я влюбленно заметил ей, что против часовой стрелки мешает она ложечкой кофе в чашке. Осмелев от этой прелюдии, столь многообещающей на бытовом уровне, я не опустился до того, чтобы спрашивать ее имя, которое знал уже некоторое количество лет: я чуть не плакал при мысли об этих долгих годах размытого безмолвия, когда, начисто лишенный аксиоматики, я любовно прощупывал почву. Она же заявила мне в такт своим дивным, цвета слоновой кости ногам, что влюблена в Тео. Мне это дало повод пережить на всех парах трудную любовь с женщиной, владевшей моими помыслами.
Сесилия, мотылек мой бадьяновый и вересковый, лежала в отдельной палате на втором этаже Корпуса, и я часто подходил к ее койке слева и справа по борту в боевом порядке. Все что угодно служило мне надуманным предлогом для беседы с нею, особенно когда являлся я пред ее очи под личиной самого себя. Я романтично спрашивал ее, держится ли еще ночной столик, не слишком усердствуя, на четырех ножках. Она отвечала мне на той же ватерлинии и просила сделать ей укол ретровирина. Я пользовался случаем, чтобы осведомиться, предпочитает ли она его теплым, холодным или горячим. И любовь наша росла, кусая локти.
Помимо полиции, некоторые несговорчивые больные жаловались, что Тео подавал им пищу, сдобренную цианистым калием, весьма неудобоваримую и сводящую скулы. Он успокаивал их, объясняя на уровне линии прицела, что смерть приходит в нужный момент, ни минутой раньше, ни минутой позже, невзирая даже на развитие автомобилестроения. Кроме того, львиную долю своего времени Тео проводил, лупцуя тростью морковь в огороде, чтобы заставить ее созревать в темпе.
Все эти столь перистальтические события убедили меня в том, что, наряду с аспирином, смерть, превыше всего прочего, есть величайшее открытие, сделанное человеком безотчетно и без превышения скорости. И надо же было мне при этих обстоятельствах сидеть взаперти в Корпусе Неизлечимых, когда на свете было столько рогатого скота и пневматических карабинов!
Полиция, без перископа и перистальтики для пущего смеха, продолжала испрашивать, как у меня, так и по телефону, недостоверной информации о смертях, последовавших инкогнито. И, как верх абстиненции, снова впутала Тео в это дело столь темного вкуса. Я отвечал им, что и сам я – всего лишь неизвестный, хотя для себя и под большим секретом никогда таковым не был.
XIII
Еще до того, как я приступил к написанию моей героической и эпической агиографии – а именно такой миссией я облек себя на свайном основании в этом идиллическом и недооцененном романе, – моя дружба с мышью по имени Гектор стала столь же тесной, сколь и словесной. Нынешнего надежно укрепленного Корпуса Неизлечимых тогда еще не существовало, а я был в отделении тропических болезней. Корпус же в ту пору, до постройки крепостной стены, входил в состав комплекса клинических, поликлинических и диспансерных корпусов, объединенных в общем, в целом и в совокупности под названием «больницы им. Гиппократа», ввиду недостатка культуры и поршневых двигателей у моих коллег. В ту достенную и докрепостническую эру я был простым врачом, и на мою долю выпадало столько же проклятий, сколько и поношений, а может быть, даже больше, потому что беда не ходит одна. Вечером, когда все врачи уходили, я спускался в подвал, чтобы рассказать мыши по имени Гектор, как дурно обращаются со мной коллеги из чистой додекафонической зависти. После этого я чесал ей животик, а она мурлыкала, как кошка, несмотря на атавистическую враждебность, царящую между этими двумя видами.
Когда я впервые обнаружил Гектора в подвале больницы, стетоскоп висел у меня на шее стройными рядами. Я не заметил мыши и рассеянно обронил как бы про себя, но громко, благодаря акустике: «До чего же жарко было нынче ночью!» На что Гектор, совершенно непринужденно, хотя нас никто друг другу не представлял, отозвалась: «Да уж! Ваша правда, жарко, быть грозе». При всей своей легитимной учтивости я не смог не выдать с головой своего удивления: «В первый раз слышу, чтобы мышь разговаривала!»– «Я тоже», – отозвалась Гектор эхом и в унисон моему стетоскопу.
Вот таким, столь же нарывным, сколь и оттягивающим образом, началась наша дружба, которая в дальнейшем неуклонно росла в зависимости от колебаний биржевого курса. После того невинного и душного обмена репликами отношениям нашим суждено было достичь непревзойденной задушевности густо замешанных рассветов. Если бы хоть в одну ночь я забыл проведать мышь – чего не случилось ни разу и о чем не желаю говорить даже гипотетически, – Гектор умерла бы от голода, а я от скоротечной легастинии.
Я поведал Гектору, расставив все точки над i, что такое парадигма и, посредством метафизической катахрезы, что такое слон, – об этих вещах мышь, по ее словам, знала с сотворения апокалипсиса. Мыши вообще зачастую лишены познаний и тертого сыра. Два года назад Гектор познакомила меня со своими родичами, бабушками и дедушками, внучатыми племянниками, отцом, дядьями и тетками, двоюродными бабушками и двоюродными дедушками... Какая здоровая и энциклопедическая это была семья! Страшно подумать об анемичных кланах людей, окружавших нас за крепостной стеной! Ущербные семьи, не мудрствуя лукаво, состояли, в лучшем случае и если не говорить о высоком собрании, из матери, отца, ребенка и телевизора... а сколько было семей без ребенка, сколько – без отца и даже иногда без матери... и скажем без обиняков, по большей части они ограничивались лишь одним телевизионным устройством, лишенным всяческого основания.
В субботу, когда было затмение солнца, Гектор вышла посмотреть на него в огород Корпуса, правда с термометром во рту, чтобы не подпалить усики.
XIV
Полицейский комиссар говорил со мной по телефону совсем другим тоном, нежели его собрат по оружию. Но по сути, он возвращался со скороспелой агрессивностью все к тем же баранам. Он настойчиво требовал, чтобы я вычел количество больных, которым суждено было умереть в Корее, из числа тех, что умирали взаправду и буквально. Но все эти происки имели целью, с тыла и с флангов, обвинить Тео, ни больше, но и ни меньше, ибо крайний удобен и вреда от него никакого. Я тонко заметил в ответ, что умирают в мире ежедневно сто тысяч человек к вящей славе статистиков и что Тео, пребывая в заточении за крепостной стеной Корпуса, никак не мог, при всей своей физиологии, убить их всех.
Ради открытого массированного поучения и безупречного родительского наставления собеседника наш телефонный диалог протекал следующим образом:
– Милостивый государь, вы сказали, что звоните мне из полицейского участка в Версале... тогда как мне известно, причем из достоверных источников, что никакого Версаля не существует.
– Не прикидывайтесь сумасшедшим, доктор. Я хочу, чтобы вы знали, и позвольте мне сказать с величайшим почтением, которого вы, несомненно, заслуживаете, что Версаль – это город, в настоящее время расположенный в восемнадцати километрах от Парижа.
– Ваше превосходительство, я уверен, что вы добросовестно заблуждаетесь и, скорее всего, путаете Версаль с Вероной из-за несколько сходного их звучания.
– Я тут излагаю вам основные принципы уголовного дознания... а вы, доктор, подвергаете сомнению то, что знают даже дети!
– Ни для кого не секрет, ваше высочество, что в нынешних школах учат всевозможному вздору как на латыни, так и на нижнепакистанском наречии. Да будет вам известно, именитый комиссар, что Версаль, без долгих разговоров, давно запущен по стезе святости на Марс. Старожилы полагают, что он примарсится на этой изобильной планете в феврале месяце тысяча восемьсот девяносто седьмого високосного года, оральным путем. Прочтите, если не верите мне, тайный плановый отчет Института Мерлина.
– Я умоляю вас, доктор, я вас очень прошу учесть тот факт, что Тео – опасный преступник.
– А я попросил бы вас, ваше блаженство, не звонить мне больше из города, стертого с карты в две тысячи триста восемьдесят седьмом году. Города, вдобавок отравленного содержащими ртуть и продукты гниения прудами, в которых от удушья и чесотки погибли все лебеди.
– Доктор, обещайте мне, что Тео не будет больше разносить еду больным в Корпусе.
– Я дам вам бесплатно один совет: не ходите по натянутой проволоке, если хотите продвинуться до старшего телеграфиста, господин комиссар.
Сей блюститель закона не постигал моей идиосинкразии. Все же, чтобы не обижать его, я попросил прислать мне килограмм гидравлических кнопок. Он мелочно ответствовал, что кнопки не функционируют на воде. После чего я был вынужден напомнить ему о действии второго начала термодинамики в условиях герметизации и разреженной атмосферы. Бедняга!
XV
До чего трудно было при таком оптимальном микроклимате продолжать научную работу в Корпусе Неизлечимых! Как будто этого была мало, люди извне с их бесконечными телефонными звонками не переставали с кислой миной намекать, будто я схожу с ума, речи мои абсурдны и переутомление подействовало на мой мозг, затронув его основу и уток. Что касается меня, я слушал их невпопад и олимпийски спокойно.
При всем том я возвращал больным мужество, уверяя их со шпагой наголо, что лекарства, поступавшие посредством мешка и сфинктера крепостной стены, бесполезны по той единственной причине, что ни сном ни духом они не могли служить исцелению их болезни. Когда пациенты жаловались на слишком вялое течение времени, я втолковывал им, что часы у нас швейцарские, вдобавок сверенные по Гринвичу, хоть и с вычетом летнего часа. Недостатка в развлечениях не было для тех, кто умел созерцать из окон похороны в саду, вдоль и поперек перекопанном Тео вровень с землей. У одного неизлечимого, сердитого, как новенький четвертак, язык повернулся спросить меня, врач ли я на самом деле. Дать ответ на подобный вопрос невозможно, поэтому я ответил утвердительно, что я и вправду врач.
Если Сесилия, рай мой лазурный, еще не признавала тот факт, что она влюблена в меня безумно, то лишь по причине некой травмы, омрачившей ее детство; что же это было, спрашивал я себя: кормилица дала ей соску с рожком для обуви или учитель тригонометрии выразил недовольство тем, как она решала задачу избавления от прыщей? Удары судьбы даже на глазок мешали ей пуститься в захватывающее любовное приключение, которое я в широте душевной ей предлагал хоть орлом, хоть решкой. Я был так влюблен в нее, что стоило ей засмеяться, как облако пены вздымалось над моим лбом и туча бабочек над стетоскопом. К счастью, никто этого не замечал, кроме и за исключением моего окружения. Когда же она избегала моего взгляда, то имела обыкновение столь загадочно смотреть на меня, что мне нестерпимо хотелось поцеловать ее губами тигра.
В один прекрасный день я как будто понял, что Сесилия, голубка моя нежная росы неисчерпаемой, боялась стать жертвой заговора, который замыслили мы с комиссаром с целью похитить ее левую лодыжку. С каждым днем я любил ее со все большей реверберацией, однако же никогда не видел ее колен, хоть и узревал мельком икры, когда аускультировал ее столь же тщетно, и целомудренно.
Думать о ней и одновременно стелить постели, смахивать пыль, стирать белье, делать уколы, мести лестницы, выписывать рецепты, мыть кабинеты, выявлять рецидивы, готовить пищу и прочее и прочее – это было волнительно и совсем другой коленкор. Мало того – чтобы убить время, мне приходилось успокаивать больных, все более опасавшихся поведения Тео между рыбой и мясом. Тем не менее, возможно, потому, что его интеллектуальный коэффициент был равен обхвату талии, умирающие испускали дух счастливыми у него на руках и на ложе из роз.
XVI
Все это было так давно! Я принял наследственный пост в Корпусе, но припрятал в надежном месте мою коллекцию мыльных пузырей. Польку уже три с половиной года мы с неизлечимыми пребываем в заточении, я могу со всем гостеприимством сказать, что минуло сорок два месяца. Мои коллеги простились со мной, на первый раз прослезившись: они полагали, что я стану вечным затворником в Корпусе без надежды на возвращение, что было похоже на правду как две капли воды. Я же знал, будучи более алхимиком, чем они, что всякая вечность имеет свои границы, как Парагвай или Атлантида.
Незадолго до того, как была окончательно закрыта дверь во внешний мир, и больные, и я почувствовали себя потерянными, хотя полиция переливчато лупила нас прикладами и неопровержимо стращала карабинами. Жандармы, запирая железную дверь, хлопнули ею столь же резво, сколь и проворно. Во имя истины и их достопочтенных родных я должен признать, что множественные переломы пальцев, раздробленных по случаю закрытия двери, не помешали пациентам отдать концы с полной кубышкой, когда пришел их час, спустя несколько месяцев после упомянутого инцидента.
Генеральный директор службы здравоохранения призывал меня в тот последний день быть терпеливым, и я понял, что он сгорает от зависти; ему приходилось скрепя сердце признать, что он – не я и даже не Ньютон. Больные же вошли тогда в фазу острой меланхолии, к тому же больничные пижамы стали им велики. Некоторые из них восприняли крепостную стену как богослужение, а колючую проволоку и провода под высоким напряжением как категорический императив. Никто, даже из числа ударившихся в самый хрусткий мистицизм, был не в состоянии доказать бессмертие души. Но, несмотря ни на что, почти все ложились спать в гетрах, предвидя продолжение, всегда возможное со времен Матушки Гусыни.
Группа неизлечимых с третьего этажа уведомила меня в письменной форме о своих тревогах: «Если придет на цыпочках и в подгузниках к нам бессмертие, где тогда мы сможем смотреть телевизор в час полдника?»
XVII
История жизни Тео, с тех пор как мать нарядила его на конкурс костюмов лейтенантом армии Юга – ему тогда было три года, – позволит моим прельстительным, хоть и ученым читателям узнать причины всех его ошибок. Много лет он был главным и к тому же единственным свидетелем нездоровых отношений, сложившихся между его отцом и матерью. Параллельно, как два пальца на одной руке, родители воспитывали его подобно двум непримиримым сторонам одной медали. Но об этом еще пойдет речь в надлежащих и подлежащих главах, если только меня не прервут in caudam venenum{8}8
На хвосте яд (лат.). Т.е.: начал спокойно, кончил желчно, ядовито.
[Закрыть] телефонные звонки: здесь-то и была зарыта злая собака.
За годы до предания нас остракизму за крепостной стеной мыши свободно, как перышки на ветру, разгуливали по подвалам всех помещений больницы им. Гиппократа. Когда меня заключили в Корпус с неизлечимыми, мыши под землей продолжали свои абразивные хождения, конкретно абстрагируясь от стены, разделявшей над ними здоровых и неизлечимых, подобно волосам в супе. Отсутствие этой стены в подвалах позволяло им входить и выходить, а ведь надо еще учесть, что они карабкались по стенам наверх, на вольный воздух и пробирались через колючую проволоку без возражений с чьей бы то ни было стороны, поскольку ни на одну из них электрошок не подействовал с полуслова.
Мышь по имени Гектор живо интересовалась сверх мер и весов моими захватывающими любовными отношениями с Сесилией, каскадом моим жемчужным. Она отвечала на все мои вопросы тем более внятно, что они были не выразимы словами. Она говорила мне, не чуя под собой ног: «Любить куда лучше, чем ненавидеть по причинам сентиментального порядка». Будучи очень близорукой, особенно когда смотрела снизу на человека, лежащего в постели, она спрашивала меня, хороша ли Сесилия собой. А я отвечал ей, что Сесилия, ветерок мой, насыщенный ароматами, столь же красива, сколь и обескураживающа, но собственные слова заставляли меня сомневаться в согласовании причастия.
Гектор смотрела очень косо на мое обыкновение внимательно выслушивать телефонные и убийственные обвинения полиции. По мнению Гектора, комиссар был человеком малодушным и произвольно гипотетичным, поэтому она просила меня подвергнуть его гипнозу, спев арию Шуберта. Ей хотелось, чтобы я оставался глух к его немым мольбам о сотрудничестве; когда же дело примет анорексический оборот, она обещала спрятать меня в постели из страусовых перьев.
Гектор также поведала мне, что неизлечимые есть и среди мышей, а это означало вопиющую дискриминацию.




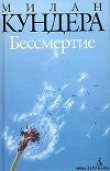



![Книга Обмен мнениями [=Симпозиум] автора Милан Кундера](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)