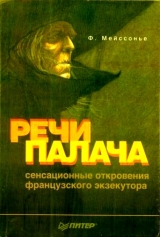
Текст книги "Речи палача"
Автор книги: Фернан Мейссонье
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Хороший экзекутор
Быть хорошим экзекутором – значит быть быстрым и точным. Обращаться по-человечески. Отец говорил осужденным: «Осторожно, ступеньки». В Алжире нужно было спуститься с двух ступенек. На самом деле это было для того, чтобы он не видел гильотины. И вот, вместо того чтобы он увидел гильотину и испугался – потому что все-таки это удар – помню, отец говорил: «Осторожно, здесь ступенька!» Это чтобы он смотрел в землю, чтобы он ее не видел. Гильотина была в трех метрах. Экзекутор – не заплечных дел мастер, это не его роль. Есть смерть, и ее уважают. Никто не забавляется тем, чтобы мучить тело, оставлять его на пятнадцать минут на скамье. Однажды один осужденный оставался там несколько секунд. Отец был рассержен тем, что слишком долго его ждал. Да, он оставался вот так на скамье, это длилось несколько секунд… Это невозможно! Он должен опрокинуться, две секунды, и оп, все кончено.
Если бы мне нужно было в двух строчках определить роль экзекутора, я бы сказал: 1) он должен выполнять приказы, не задавая себе вопросов; 2) он должен быть быстрым, но не резким, быть человечным, если можно так сказать в такой момент.
Все это я выполнял, кроме вопроса: виновен ли он? Я задавал себе вопросы. Отец, например, слишком любил эту работу и выполнял приказы, как военный. При Виши, во время казней расклейщиков коммунистических афиш я бы сказался больным или уволился. Это невозможно, я бы не смог выполнить этот приговор. Я не палач в том смысле, в котором это подразумевает закон!
Хороший экзекутор не должен заставлять осужденных страдать, он действует быстро. Никто не мог бы помешать отцу действовать медленно. Но казнь – это не пытка! Это не допрос! Даже того, кто совершил ужасные преступления, мы казним потому, что таков закон. Но без ненависти. Мы не кровожадные звери! Конечно, разумеется, если парень хвастается своими «подвигами», тем, что мучил кого-то или совершал убийства, уже нет той жалости. Тут не нужно преувеличивать. Но никогда осужденного ни в какой степени не мучили и не обращались с ним плохо, даже если он совершил ужасные преступления. Нашей задачей не было заставлять их страдать. Экзекутор не будет вставлять пальцы в глаза осужденного. Если вы будете держать его правильно, как я объяснял, скрючив пальцы за ушами, он не может укусить. Хоп, хоп, быстро все сделано. Осужденный настолько застигнут врасплох, что реагирует редко. Значит, действовать быстро, придавая смелости осужденным. Не пугать их еще больше. Конечно, немного трудно говорить парню: «Не бойся!», когда он хвастается тем, что убил семнадцать человек, в том числе женщин и детей.
Экзекутор должен быть тверд, но не резок, уважать человека, который сейчас умрет, уважать, насколько возможно, его последнюю волю. Казнь проходит хорошо, когда каждый выполняет свою функцию точно, твердо и хладнокровно. Если один из помощников нарушает это правило, все испорчено. На одной из казней помощник N. сказал мне: «Когда осужденный опрокидывается, я закрываю глаза…» И поэтому однажды осужденный выскользнул из их рук и живым упал в корзину, где были уже два трупа. Тогда мой отец рассердился. Он обругал их после казни. Но он никогда не узнал, что мне говорил N. Я ему сказал: «Не говори об этом никогда моему отцу, потому что он больше не будет доверять тебе в этой работе!» Да, в итоге быть хорошим экзекутором – это быть человечным. Осуществлять казнь как можно быстрее, не затягивать ее.
Я видел пленку о казни Вейдманна, последней публичной казни, в Версале 16 июня 1939. Главным экзекутором был Дефурно, с первым помощником Обрехтом в качестве «фотографа». Были сделаны фотографии, на которых видно Вейдманна, лежащего на скамье, когда Дефурно еще не запустил механизм. [35]35
Фернан Мейссонье ссылается на знаменитую фотографию казни Вейдманна в Версале в 1939, сделанную из окна.
[Закрыть]Кажется, что Дефурно был медлителен, что он тратил время перед запуском. Он настолько боялся, что что-то пойдет не так, что двигался как в замедленной съемке. Там на фотографии хорошо видно, что с другой стороны, на месте «фотографа», никого нет.
Это просто невероятно! Да, Обрехт стоит в трех метрах от гильотины. На фото хорошо видно: Обрехт стоит у головы, потом отходит в сторону и быстро возвращается, когда лезвие упало. Глядя на его положение, можно сказать, что Вейдманн должен был оставаться на скамье от пяти до семи секунд. Несчастный оставался вот так пять-семь секунд на скамье. Это бесчеловечно. Фу! Это должно было быть ужасно. Это как если кого-то посадить на электрический стул или другое что-нибудь и ждать пятнадцать минут, прежде чем подать ток! Да, нужно делать сразу или не делать вовсе. Я не знаю, почему Обрехт сделал это. Не знаю. Думаю, это была его первая казнь, он боялся пораниться или быть запачканным струей крови. Может быть, он боялся, что лезвием ему отхватит пальцы. В таком случае лучше поменять должность. Он не захотел рисковать. Пленка хорошо показывает, что когда падает лезвие, там никого нет! Обрехт не стоит у головы! Он сбоку. А уж такого никогда не видано! [36]36
Здесь Фернан Мейссонье, имеющий свое представление о роли «фотографа» – поддерживать голову осужденного, держать ее в руках и не дать ей упасть в таз – не может себе представить, что другой «фотограф» мог действовать по-другому. На самом деле на пленке, отснятой во время той казни, видно, что Обрехт, «фотограф», стоит у головы, перед гильотиной, принимает осужденного, когда доска опустилась и проскользнула до ошейника… Потом, когда осужденный занял свое положение – когда верхняя половина ошейника опустилась, – видно, как он быстро отходит на два или три метра в сторону. Дефурно запускает механизм, видно, как тело падает в корзину и «фотограф» быстро возвращается, чтобы забрать голову из таза.
[Закрыть]Обычно «фотограф» держит голову.
Если бы у них была гильотина образца 1868 года, как в Алжире, Вейдманну бы отрезало голову наполовину, и они бы заканчивали бритвой. В одной книге по поводу этой казни Обрехт пишет, что его работа была окончена. Окончена? Вовсе нет! Он должен держать голову. Работа окончена, только когда голова положена в корзину, не раньше. Я никогда не видел, чтобы оставляли так. Все помощники… даже во времена Дейбле, в Баланс в 1909 – посмотрите на казнь шоферов из Дром – на негативах «фотограф» держит голову, он стоит на месте. [37]37
На самом деле, если хорошо посмотреть на негатив, снятый в момент падения ножа на этой казни, видно, что «фотограф» отворачивается в решающий момент.
[Закрыть]И поэтому тут «фотограф» не выполнил правильно своей задачи. Он не исполнил свою роль так, как его предшественники.
Профессиональные уловки
Существует общая память экзекуторов. Например, история о помощнике, которому отрезало три пальца. Да, когда он держал осужденного, ему отсекло три пальца. Это восходит, ууу… к XIX веку! Эта история с отрезанными пальцами, я слышал ее от отца, а также от Берже. Это было во времена казней, имевших место при Рошах. Да, эту историю рассказывал папаша Рош. Эту историю он знал от своего отца и даже от отца своего отца, от своего деда. Три пальца были отрублены у Пьера Роша, помощника в Дижоне и, разумеется, «фотографа», в ходе казни Дени Жоли в 1829. Причина? В том, что диаметр ошейника был слишком велик. Осужденному удавалось втянуть голову в плечи, незаметно подбирая часть нижней челюсти. Откуда у «фотографа» возникают трудности с тем, чтобы правильно держать голову. Я уже говорил об этой проблеме. А еще была казнь в Пейребеле. Да, это дед Роша, моего крестного, осуществлял казнь в Пейребеле, помните, дело Красного трактира. [38]38
Ср. Desmorets, Dictionnaire historique et anecdotique des bourreaux, p. 209.
[Закрыть]На той казни его отец, Николя Рош, был уже помощником. Казнь убийц из Красного трактира – это было во времена Николя Роша, отца моего крестного. Николя был главным экзекутором в Париже, с 1871 по 1879. Так вот, этот Николя Рош в возрасте двадцати лет участвовал как помощник, вместе со своим отцом Франсуа Рошем и дядей Пьером, экзекутором в Прива, в тройной казни держателей Красного трактира, в Пейребеле в 1833. В ходе этой казни отец Николя назвал того неловким, потому что он уронил голову женщины, которая покатилась до самого низа эшафота. Эшафоты отменил Кремье в 1870.
То здесь, то там возникают книги, говорящие о профессии экзекутора, или, еще того хуже, палача. Экзекутор – это не профессия, это должность. Собственно говоря, экзекутор – это всегда было должностью, исполнению которой невозможно было научиться иначе чем на практике, на месте. Для этого нет школ. И по той же причине с годами мы все время улучшали машину и технику, связанную с казнью.
Например, это папаша Рош придумал, что если связывать осужденного толстой веревкой из пеньки, рыболовной леской, то путы не будут рваться. Я также думаю, что именно Рош объяснил Берже и моему отцу ложное движение своего дяди, которому лезвием отрезало три пальца. Он сказал им, что когда ты главный экзекутор или первый помощник, главное не держать осужденного за шею, чтобы правильно расположить его в ошейнике. Потому что, учитывая диаметр ошейника, пальцы могут соскользнуть внутрь, и при падении лезвия два или три пальца будут отсечены. Он им показал, как первому помощнику в роли «фотографа» надо брать голову, чтобы не быть раненым.
Берже и мой отец в свою очередь стали наливать в корзину воду, вместо того чтобы класть опилки: они не липнут и легче чистить. А еще, чтобы не пачкать корзину и чтобы не искать вместе с охраной голову, принадлежащую конкретному телу в ходе множественных казней, отец заказывал у плотника тюрьмы временные гробы, потому что осужденные-мусульмане должны были быть похоронены в полотне. Мой отец ввел надевание наручников сразу после пробуждения осужденного в камере. Но иногда, когда мы имели дело со смирным осужденным, у него руки оставались свободными для молитвы или если он хотел что-то написать…
Как я уже говорил, в начале 1958 года отец заказал ошейник уменьшенного диаметра, так чтобы осужденный не мог сжаться, втянув подбородок. И потом, чтобы все проходило быстрее, отец сказал мне, чтобы я хватать его под ушами. А именно под мочкой уха. И действительно, я нажимал двумя пальцами за ушами, на уровне мочек. Это чувствительное место, и осужденный автоматически вытягивал голову. Отец опускал ошейник, в то время как я тянул голову скрюченными пальцами, говоря ему: «Давай!»
Я же в свою очередь заметил, что если связать руки за спиной так, чтобы локти почти касались друг друга, то осужденному невозможно втянуть голову в плечи. Я заметил это в ходе казни четырех человек, подложивших бомбы на стадион, 20 июня 1957. Поскольку один из четверых хвалился тем, что устроил резню, я в приступе отвращения сильнее подтянул руки одну к другой, помогая себе коленом. Ну, это был момент раздражения, я не смог сдержаться. А потом я продолжил применять эту технику, оказавшуюся эффективной. Именно по всем этим техническим причинам, а также благодаря взаимопониманию в команде мы стали проводить казни с невероятной быстротой.
Казнь отцеубийцы
8 июля 1947 года в Блиде мы казнили одного отцеубийцу. Некоторого Хамази Мохамеда. Он убил своего отца, мачеху и сводную сестру. Он был влюблен в одну женщину и ревновал к своему отцу. Он убил их и представил все так, будто они погибли под обвалом. Так вот, он был приговорен к смерти. А значит, его должны были гильотинировать. Ему надели повязку на глаза, черную повязку, и простыню на плечи. Я уверен, что мой отец не знал, почему осужденному завязывают глаза. Так было сделано потому, что папаша Рош делал так раньше. Отцеубийцам завязывают глаза. Так было всегда.
Как обычно экзекутор должен был подвести осужденного к гильотине с черной повязкой на глазах и простыней на плечах. Там прокурор говорит ему: «Вы совершили самое отвратительное действие; вы убили вашего отца, вашу мать, вам должны отрубить голову!» Тогда его поворачивают, снимают ткань с плеч и казнят. Таков обычай. Но в тот раз прокурор сказал ему это в камере. Его привели в канцелярию. Туалет, молитва… Ему на плечи надели, как плащ, белую простыню, надели эту черную повязку и так подвели его к эшафоту. Там мой отец быстро снял с него простыню, чтобы она не запуталась, и потом его в таком виде опрокинули. Он же просил, чтобы его расстреляли. Помню, он требовал встречи с президентом Республики, он хотел быть расстрелянным.
Иногда я спрашиваю себя. Я спрашиваю себя, как человек может совершить такую жестокость: убить собственных родителей. Смотрите, есть мать Тереза, которая несла добро в мир, всю свою жизнь помогала… А это прямо противоположное! Но как можно мучить, как можно совершить жестокое преступление? Как тот американец, который сопровождал свою мать в аэропорт. Он поцеловал мать и подложил бомбу в ее чемодан! Он убил собственную мать! Он убил всех пассажиров. Все это из-за страховой премии!
Когда мне было семь-восемь лет, моей матери оперировали аппендицит. Я был от этого словно болен. Я не хотел, чтобы она утомлялась.
За едой я давал ей ложку из алюминия. Она легче, чем серебряная. Это чтобы ей не стало плохо, чтобы она не устала от этого. Да, мы думаем о мелочах, когда сами дети. Мать, дорогое существо… Как кто-то может убить собственную мать ради денег? Именно для таких в античности был закон Помпеи.
В старой книге 1555 года [39]39
Damhoudere, «Pratiquejudiciaire des causes criminelles utiles a tous, Baillis, Senechaux…»
[Закрыть]я прочел кое-что об отцеубийцах. Они говорят о законе Помпеи, сто пятьдесят лет до нашей эры. Там написано, что отцеубийце завяжут глаза, поместят его в мешок из бычьей кожи вместе с собакой, обезьяной, петухом и гадюкой. Это все символы. Собака символизирует бешенство – нужно быть бешеным, чтобы убить отца или мать. Обезьяна символизирует сумасшествие человека. Петух, потому что он бьет курицу, которая может быть его матерью. Наконец, гадюка выходит в мир, разрывая живот своей матери… Так вот. И все это, зашитое, кидали в воду. В мешке. У человека там сидели звери… Это была ужасная смерть. Глаза ему завязывали, потому что преступление столь ужасно, что отцеубийца не должен видеть солнца, под которым родился. Поэтому его помещают в мешок и кидают в воду. И не было даже контакта с водой. Судья должен был сказать, кинут ли его в воду или на арену, в помещение, отведенное диким зверям, волкам, медведям… Потому что, разумеется, в Греции есть море, и можно его кинуть в воду, но есть места, в которых нет воды. Тогда человека в мешке разрывали на части. Большинство этих варварских обычаев пришли к нам из античной Греции, а до этого они отчасти были позаимствованы у персов. В этой книге не сказано, отрубалась ли рука. Отрубание руки – это, кажется, за цареубийство. Революция отменила ампутацию кисти для отцеубийц. Но в 1811, при Наполеоне I, – и это не делает ему чести – специальным декретом была восстановлена ампутация кисти у отцеубийц. Это наказание, как и клеймление, и ношение осужденным красной рубашки было отменено Луи-Филиппом в 1832. Это делает ему честь. Но мы, экзекуторы, продолжали завязывать глаза отцеубийцам.
Значит, отец надел ему черную повязку. И простыню на плечи, она символизирует мешок. Он в таком виде подошел к гильотине. Это немного из обычного права. Рош сказал моему отцу: «Делается так». И отец сделал так с отцеубийцей. Так надо делать. Мы казнили другого отцеубийцу в Сетифе 17 июля 1952. Мы ему завязали глаза. Две тысячи лет спустя. Таков обычай.
Казнь женщины
Редкий случай – казнь женщины. Я, например, видел это только один раз. Да, казнь Мадлен Мутон произвела на меня впечатление, потому что это была женщина. Думаю, это была моя четвертая или пятая казнь. 10 апреля 1948 года в Бель-Аббес. Жена одного жандарма. Она отравила одиннадцать человек. Ее муж – я уверен, что он мог менять профессию. Потому что, задержи он вора, тот мог бы ему сказать: «О! А твоя жена отравила одиннадцать человек!» Так вот, что касается Мадлен, Берже и мой отец попросили – потому что не очень-то знали, как действовать, это был первый раз, когда им нужно было казнить женщину, – они попросили встретиться с ней. Да, на них произвел впечатление тот факт, что они должны были казнить женщину, и им было любопытно посмотреть на нее. Я не ходил в камеру с Берже и с отцом; как-то для меня было неловко – смотреть на эту женщину, которая завтра умрет. Так вот, накануне они пошли посмотреть, с кем имеют дело. Берже и отец вошли в камеру. Охрана ей сказала: «Мадлен, слушай-ка, тебе сейчас дадут твое белье, ты перейдешь в другую камеру, потому что тут маляр. Они будут перекрашивать камеру». И вправду Берже, перед тем как стать экзекутором, был маляром. Так вот, они с отцом выдали себя за маляров и делали вид, что измеряют камеру… чтобы посмотреть, с кем имеют дело. Женщина лет тридцати, христианка, красивая женщина, с каштановыми волосами, довольно высокая.
Так вот, назавтра, когда ее адвокат пришел ее будить, катастрофа! Она спятила. Адвокат все время говорил ей: «Не бойся, тебя помилуют. Женщин не казнят, тебя помилуют». Это и есть роль адвоката. Но, по-моему, так и получается, что некоторые ведут себя не так смело. Они убеждены, что их помилуют, и когда их будят, шок просто ужасен. Это жестоко. В деле Бюффе-Бонтем Бюффе был убежден, что его не помилуют, и когда он понимает, что ему отрубят голову, у него получается принять положение приговоренного к смерти. Можно подумать, что он обладает большей смелостью, но дело в том, что он готовился к смерти. Но тут Мадлен Мутон, при пробуждении… пфффф… ей стало плохо. Да, когда ее разбудили, она была совершенно ошеломлена и вдруг упала пластом; ей стало плохо. Она в обмороке. Тогда пришлось приводить ее в чувство. Таков закон. Прокурор позвал врача, потому что, согласно закону, перед казнью нужно находиться в сознании. Никогда не было чего-то вроде наркотиков для осужденного. Так вот, ее привели в чувство. И потом она отбивалась. На гильотине она дважды сказала: «Дети мои, дети!» Она была матерью двух детей, шести и восьми лет, я думаю.
Что касается туалета, для женщины это особый случай – это редко, исключительно – так вот, при этом стараются сделать вырез как можно меньше. Стараются как можно меньше вырезать рубашку или свитер женщины, потому что в противном случае, когда она отбивается, ее грудь выбивается из лифчика и вид становится непристойным. На ней была юбка. Отец прикрепил ей булавку на юбку. Но это не помогло: когда она опрокинулась, грудь выбилась из лифчика, юбка задралась, и были видны ягодицы. Думаю, именно поэтому всегда к женщинам были более чувствительны, и казней женщин было намного меньше. Мадлен Мутон крикнула: «Мои дети, дети!» и потом… Вот. Это просто. Но все-таки это меня задело, даже взволновало. Женщина! Это невозможно. Если бы я мог зачеркнуть те одиннадцать преступлений, если бы я имел власть сказать, что ее прощают, я бы сделал это! Но это было не в моей власти. Да и когда я думаю… об этих одиннадцати преступлениях, отравлении одиннадцати человек… все-таки это чудовище.
Первые станут последними
Другой обычай: когда было несколько приговоренных, наиболее виновного всегда ставили последним. Всегда, даже до Революции, если было четверо приговоренных к смерти по одному и тому же делу, главаря банды казнили последним.
Для него это было тяжелее, потому что он слышал все. Потому что они все-таки слышали шум доски, скользящей до ошейника, половину ошейника, опускающуюся вниз, падение лезвия и тело, падающее в корзину. И если осужденный кричал, лезвие, падая, обрывало его речь. Это впечатляет. Поэтому представьте себе тоску последнего приговоренного! Поэтому главарь банды шел последним. Это нечто вроде морального наказания, которое все экзекуторы применяли на практике. Действительно, очередность была необходима. В Тунисе в 1953, в тот день, когда Берже сломал половину ошейника, было два осужденных. Высокий и маленький. Высокий и здоровый дрожал и стучал зубами. Тогда второй, коренастый, сказал ему: «Не бойся». Так вот, Берже сделал указание, чтобы первым пошел более смелый, оставив второму, дрожащему от страха, еще двадцать секунд ужаса, потому что он умирал трусом, после отвратительного преступления, которое они совершили. При казни подложивших бомбы на стадион отец назначил того, который хвастался, что устроил резню, последним. В случае Бюффе и Бонтам последним был Бюффе. Да, того, который более в ответе, пускают последним. И так было веками. Но это произвольно. Немного так же, как и то, что можно сделать как милость к осужденному. Поэтому Иветона отец назначил первым. Рош делал так же. Так было всегда.
Да, верно, существовала потребность рассказывать собственную историю, о своих страхах и трудностях, и существовала история, принадлежащая экзекуторам. Я узнал ее от моего отца и от Берже. Берже и Рош в свою очередь узнали ее от своих отцов. Я с шестнадцати лет слушал, что рассказывал Берже и мой отец, и я постоянно наблюдал за всеми движениями, которые мог совершить приговоренный. Так мы устно узнали обо всех трудностях, которые могут возникнуть в ходе казни. И кончилось тем, что мы приспосабливались в зависимости от людей. Несмотря на это, бывали неожиданности, инциденты. Например, однажды, когда я был вторым помощником, мы вместе с другим помощником стояли с двух сторон от осужденного. Он казался спокойным. В метре от скамьи он испустил крик и сделал рывок, ударив обеими ногами в скамью. Пришлось опустить доску и поднять его над землей, чтобы он не упирался ногами.
Другие сами бросались в корзину или выскальзывали из неловких рук помощников.








