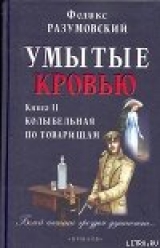
Текст книги "Умытые кровью. Книга II. Колыбельная по товарищам"
Автор книги: Феликс Разумовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Скоро дорога на Москву была свободна, и поезд с совнаркомовцами продолжил свой путь. Первое, что сделал Ленин, прибыв в первопрестольную, – снес памятники Александру III у храма Христа Спасителя и Александру II в Кремле. Время поджимало, нужно было успеть многое. Близилась пора свершений.
Глава пятая
I
Весна пришла на Кубань рано – с теплыми ветрами, слезливыми капелями и жирной, пахнущей черноземом грязью. Реки, сбросив ноздревато-припухший лед, вышли из берегов и, пополняемые мутными потоками, пенились, бурлили, подступали вплотную к огородным плетням; чуть ли не у самых дворов смотрелись в воду вербы, качаемый волнами, терял свои желтые пушистые почки краснотал.
Оттепель съела снег, дороги непролазно раскисли, балки и буераки превратились в озерца с пенящейся коричневатой влагой. В воздухе густо пахло сыростью, примороженной корой деревьев, оттаявшей землей, навозом и прелой соломой. А потом небо заволокли черногрудые тучи, и пошел беспрерывный занудный дождь. Дорог не стало вовсе, все превратилось в сплошное пространство воды и жидкой грязи. Не проехать, не пройти.
Дурная погода действовала на экипаж бронепоезда разлагающе. Дисциплина, и без того низкая, рухнула окончательно. Личный состав пил не просыхая, по вагонам водили девок, комиссар Шитов со товарищи набрались до того, что в голом виде плясали «Яблочко». Казалось, бронепоезд превратился в бордель на колесах и вот-вот сойдет с рельсов.
Но Кузьмицкий хранил олимпийское спокойствие и ни во что не вмешивался: давно уже понял, что все полумеры без толку. Расстрелять всю эту сволочь к чертовой матери – вот это было бы дело.
– Хамье сиволапое, рвань. – Морщась от пьяных криков, доносившихся через перегородку, он сидел в своем купе и в который уже раз перечитывал «Поединок» Куприна.
Господи, как же он понимал Ромашова! То же одиночество, та же убийственная обреченность, то же неприятие окружающего. Да еще классовая борьба и торжество необузданного быдла. А впрочем, поделом. Лавры командира не давали покоя? Вот и получай, веди товарищей в бой за власть Советов.
Бронепоезд стоял на станции Георгие-Афипская, загружался боевым снаряжением и ждал приказа из штаба армии. Паровозы брали воду, помощники машинистов чистили дымовые коробки, топки и прочее огневое хозяйство. Шитов и Сява похмелялись после вчерашнего, поднимали настроение перед классовыми битвами – смех за стенкой становился все громче.
– Что читаем, юноша? – Дверь без стука отворилась, и в купе вошел Иосиф Лютый, в добром расположении, слегка под хмельком. – Гм, Куприн? Старо, пошло, банально. Сентиментальная плесень, амбиции неудачника, а если вдуматься, вульгарный адюльтер, проистекающий из чувства острой половой недостаточности. Проще, юноша, надо на все смотреть, проще. Настало время и мужчинам, и женщинам, сбросив одежды, закружиться нагими у костра свободы, который зажгли мы, анархисты. Любовь к ближнему, вот что спасет этот вонючий мир, а всякие там язвы капитализма, сифилис, мягкий шанкр – пережиток, мура, дерьмо собачье.
Иосиф Лютый любил пофилософствовать, вот так, после стакана спирта, в компании идейно несозревших индивидуумов, каким ему виделся Кузьмицкий.
После обеда доставили приказ: немедленно выдвигаться в район станции Ново-Дмитриевская для оказания поддержки местным силам. Это была ошибка командарма Автономова, очередная. Силы красных и так были разбросаны по станицам – в Ново-Дмитриевской стоял Варнавский полк, южнее, в Григорьевской, находилась тяжелая артиллерия, западнее, в Афипской, пятитысячный гарнизон, пакгаузы, бронепоезда. В условиях непогоды и полного бездорожья такая растянутость фронта была недопустимой и гибельной.
«Они о чем там думают у себя в штабе? – Расписавшись и отпустив нарочного, Кузьмицкий склонился над трехверсткой, кусая вислый ус, прищурился, в сердцах бросил карандаш. – Задницей, конечно. А, плевать».
Он витиевато выругался, закурил и отдал приказ разводить пары. В Ново-Дмитриевскую так в Ново-Дмитриевскую. Хоть к черту на рога.
Однако выступить без промедления не получилось, еще не весь боекомплект был получен из пакгаузов. Пока, путаясь в складской неразберихе, погрузили снаряды и ленты к пулеметам, подняли пары, выбрались на главный путь из станционной толчеи, уже начало темнеть. Похолодало, дождь превратился в мокрый снег – хлопьями, с пятак, – шквальный ветер лихо закручивал его в бешеные кольца вьюги. Вот тебе и весна с готовыми уже развернуться почками тополей и кисточками сережек на вербах – метет так, что не видно ни зги.
«Ну и каша». Поднявшись в башню, Кузьмицкий приоткрыл блиндированный люк, сразу же зажмурился от бьющего в глаза снега, отвернул лицо, сплюнул и, громыхая железом, слетел вниз по лесенке.
– Малый ход!
Тише едешь, дальше будет. Что там впереди, за белым мельтешеньем холодного конфетти, один Бог знает. В лучах прожекторов один лишь только снег, снег, снег…
Верст через пять со стороны Ново-Дмитриевской донесся гул артиллерийского обстрела, били, судя по звуку, из шестидюймовок, затем к нему прибавилось таканье пулеметов, резкая, будто рвали коленкор, винтовочная стрельба пачками. Стало ясно, что впереди идет бой, страшный грохот его не могли уже заглушить ни истошный вой ветра, ни толстые блиндированные стены, да только не разобрать, где свои, где чужие. Что же происходит там, за молочно-белой клубящейся стеной?
А происходило вот что. Добровольческая армия с боем прорывалась к Ново-Дмитриевской, люди шли по колено в воде, телеги и пушки увязали по ступицу. По наступающим цепям била артиллерия из Григорьевской, от орудийной стрельбы гудело все вокруг, земля ходила ходуном от разрывов, шестидюймовые гранаты вздымали в небо фонтаны снега и жидкой грязи.
Быстро холодало, ветер сек лица ледяной крупой. Ноги проваливались сквозь снежную корку, глубоко уходили в липкую грязь, сапоги, чавкая, с трудом выворачивались из глины. Непогода пробирала до костей, выдувала из шинелей последние остатки тепла. На людях замерзала одежда, покрывалась ледяной коростой, в стылой слякоти коченели ноги, но, несмотря ни на что, добровольцы шли вперед – до хруста сжимая зубы, отлично понимая, что обратного пути нет.
Первым у Ново-Дмитриевской оказался офицерский полк, и его командир генерал Марков сказал:
– Вот что, ребята. В такую ночь без крыши мы все тут передохнем в поле. Идем в станицу.
И полк бросился в штыки. Боевые офицеры, не верящие ни в Бога, ни в черта, мигом опрокинули линию обороны и в рукопашной схватке практически уничтожили красноармейский Варнавский полк. Это было избиение деморализованной солдатской массы хорошо обученным и сплоченным офицерским составом – воюют не числом, а уменьем.
Когда в Ново-Дмитриевскую прибыл Корнилов со штабом, все уже было кончено, победители устраивались на ночлег. Кое-где полыхали пожары, пахло кизяком, порохом и бойней – истоптанное снежно-грязное месиво было сплошь в кровавых разводах, из разбитых окон станичного правления, где раньше размещался ревком, выходил клубами черный дым – доброармейцы угостили комиссаров из трехдюймового орудия в упор. На улицах повсюду валялись трупы, пленных в этом бою никто не брал.
А большевистские командиры все продолжали совершать ошибки. Уже после того, как погиб красноармейский Варнавский, ему на помощь послали второй Кавказский полк и сводный отряд матросов, которые на ночь глядя прошли десять верст по сплошным болотам, потеряли до двух рот утонувшими и замерзшими и сумели лишь захватить несколько повозок с ранеными доброармейцами.
Бронепоезд между тем протащился еще с пару верст и встал на возвышенности: дальше ехать было опасно – взорвут белые пути, и все, капкан, амба. Шум боя постепенно стихал, потихоньку сходил на нет, еще немного постреляли из винтовок, вразнобой, и наступила тишина, только ветер по-прежнему завывал в степи да стучала по крыше ледяная шрапнель.
– Ну, что будем делать? – Зевнув, Кузьмицкий вытащил кисет, закурил, повернулся к Шитову, с важным видом подкручивавшему усы. – А, комиссар?
Спросил равнодушно, так, для порядка – ему было все равно. Хотелось поскорей уйти к себе и заснуть, в тяжелой голове вертелись одни и те же дурацкие строчки из песни: «В Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся…»
– А что тут долго думать. – Шитов встал, сладко потянувшись, сунул большие пальцы за ремень, спустив его на самые бедра. – За бортом хоть глаз выколи. Вдарить пару раз из главного калибра да ленту извести для очистки революционной совести. Верно, братишечка? – Он подмигнул Сяве, и губы его искривила пьяная шальная ухмылка: – Слышал команду? Прицел сто десять, трубка девяносто! К чертям! И свистни на камбуз насчет пожрать.
Громовыми голосами рявкнули орудия, шестидюймовые дьяволы, начиненные шрапнелью, вылетели из стволов и с пронзительным ревом унеслись куда-то – в белый свет, как в копеечку. Открылись замки, выбрасывая гильзы, и в броневагоне запахло как в аду – углем и серой, подгоревшим салом и смертоносным жаром раскаленного металла. А снаружи все бушевала и бушевала распоясавшаяся метель…
Утром налетел теплый южный ветер. Он разметал снеговые тучи, на прояснившемся небе появилось по-весеннему ласковое солнышко, осветив грязно-белую степь, длинный буерак, излучисто вьющийся по близкому холму, неровная хребтина которого лохматилась бурьяном и сухим татарником. Дальше шел молодой дубовый лес, за ним проглядывали из-под снега желтые деляны жнивья, бежали ручейки по колеям оттаявшего шляха, и за пирамидальными, еще голыми тополями начиналась станица Ново-Дмитриевская.
В трофейный цейсовский бинокль Кузьмицкий видел купол церкви, унылые дымы пожарищ, блеск маленького озерца в зарослях краснотала. Станица казалась опустевшей, движения не наблюдалось – видимо, враг еще спал. Зато по раскисшему шляху вдоль путей все шли и шли измотанные роты, тащились, застревая в колее, четырехколки с ранеными, за ними, шатаясь от усталости, брели измученные сестры милосердия – свободных мест в повозках не было.
Озлобленные люди катали желваки на скулах, ужасно матерясь, скользили по грязи, и не радовало их ни ласковое солнышко, ни мартовские ручьи, ни изумрудные полоски зеленей, проглядывающих из-под талого снега. Это возвращались в Афипскую второй Казачий полк и сводный отряд матросов – поредевшие, растерявшие кураж, несолоно хлебавшие.
– Да, дали кадеты прикурить. – Шитов цикнул зубом, оторвавшись от смотровой щели, повернулся к Кузьмицкому: – Давай, Антоша, подымать пары и с якоря сниматься. Пока не поздно.
Похоже, он совсем не собирался приносить свою молодую жизнь на алтарь пролетарской революции.
– Да, пожалуй. – Кузьмицкий кивнул, вытащил затычку из переговорной, на манер судовой, трубы. – Эй, в машине, подымайте-ка пары.
В это время в броню снаружи постучали, судя по звуку, чем-то металлическим – нагло, напористо, по-хозяйски. Принесло кого-то с утра пораньше.
– Я те постучу! Я тебе так по башке постучу! – Сява перестал ковырять в носу, встал и, с натугой приоткрыв блиндированную дверцу, просунулся в щель: – Ты чего, братишка? Говори чаще!
На подножке стоял огромного роста матрос в рваном бушлате, голова его была замотала окровавленным бинтом, на саженном плече висела кобура маузера.
– Да ты никак, браток, тоже из соленых? – Он оценивающе посмотрел на Сяву, и взгляд его бешеных глаз на мгновение смягчился, что-то человеческое промелькнуло в них. – Распахни-ка мне ход, разговор есть.
– Весь просолел, сто лет в могиле пролежу, не сгнию. – Сява самодовольно усмехнулся и до упора сдвинул бронированную дверь. – Давай, сыпь скорее.
Военмор поднялся. Это был комиссар сводного матросского отряда товарищ Дзюба, человек отчаянный, страшной силы и свирепости. Говорили, что сам Автономов хотел пустить его в расход за своеволие и невыполнение приказа, однако же простил – за верность делу революции, беспощадность к врагам и отвагу в бою.
– А, военспец, из белых. – Смерив Кузьмицкого взглядом, Дзюба нехорошо оскалился, сплюнул презрительно, прямо на пол и вразвалочку, цокая подковками, подошел к Шитову: – А вот ты, братец, я вижу, свой, смоленый. Выгребай-ка на воздуха, побалакать треба.
Его лицо, обтянутое до костей, с лихорадочным румянцем на скулах, пребывало в постоянном движении, левый глаз судорожно подергивался, щека была перекошена, видимо, вследствие ранения. Смотреть на него было неприятно.
«Больной человек». Отвернувшись, Кузьмицкий закурил и, едва комиссары вышли, отправился к себе в пульман.
Он не торопясь развел мыло, дважды прошелся золингеном по худым щекам, умывшись, сходил за кипятком и только-только собрался пить чай, как бронепоезд тронулся – без команды, самовольно. Пошел, пошел, заревел, набирая скорость, и Кузьмицкому вдруг показалось, что в перестуке колес, во всем этом железнодорожном лязге он услышал короткий, сразу смолкнувший крик, будто трамваем переехало кошку.
«Черт знает что такое». Привыкнув уже ничему не удивляться, он налил в кружку кипятка, отрезал хлеба и сала, а тем временем степь за окном побежала все медленней и скоро совсем остановилась – бронепоезд застыл на путях пыхтящим панцирным чудовищем.
Кузьмицкий без настроения выпил чаю и, закурив цигарку, пошел из пульмана с твердым намерением четвертовать машинистов – совсем распоясались, сволочи.
«Но вначале мочевой пузырь». Держась за поручни, он спустился по лесенке, разминая ноги, двинулся вдоль хвостового вагона и неожиданно замер, не веря собственным глазам, встал как вкопанный с сумасшедше забившимся сердцем – на шпалах в двух саженях от него лежала страшно изувеченная человеческая голова.
– О Господи! – Словно во сне, Кузьмицкий сделал шаг и сразу же увидел руку, отрезанную у самого плеча, со скрюченными грязными пальцами, чуть дальше развалилось надвое чудовищно раздавленное тело, за ним еще, еще, – на всем пути бронепоезда лежала изувеченная человеческая плоть. – В бога душу мать. – Чувствуя, как желудок подступает к горлу, Кузьмицкий, сгорбившись, пошел к себе, и в это время он услышал крик, долгий, страшный, на высокой ноте, будто маленьким тупым ножом медленно резали свинью. Так кричат единственный раз в жизни – перед смертью.
«Эх, жаль, спирт кончился». Споткнувшись, Кузьмицкий с нежностью вспомнил свой бидончик, облезлый, с помятыми боками, однако же достаточно вместительный и вполне еще крепкий, опустевший так некстати. Больше всего на свете ему хотелось сейчас забраться в пульман и ничего не видеть и не слышать, отгородившись от всего клубящейся хмельной завесой.
«И это русский офицер! Амеба!» Он вдруг вздрогнул от отвращения к себе, скрипнул зубами и, ни о чем не думая больше, с холодной пустотой в душе, двинулся в начало состава, на крик. Тот все никак не смолкал, надсадный, режущий, страшный.
У паровозов царила суета. Какие-то люди, визжа пилой, с руганью возились с досками, неподалеку на шляхе ржали лошади, впряженные в телеги, прядали ушами, словно чуя беду, на путях стояли кучками матросы, с важностью курили, сплевывали сквозь зубы.
Под соленые шуточки и веселый гвалт Кузьмицкий пробрался сквозь толпу, сразу оглохнув от крика, влез на головной паровоз – огромную могучую машину путиловского завода, сунулся в просторную, с залитым мазутом полом будку. В нос ему ударила жуткая вонь жареного, в глазах потемнело от адского блеска пламени.
Будка и в самом деле напоминала пекло, в душном смраде ее толпились люди и жадно, с нервными ухмылками смотрели, как корчится, исходит криком человек, прикованный цепями к доскам. Ноги его до колен были задвинуты в жерло топки, губы искусаны в кровь, маленькая голова с судорожно распяленным ртом билась затылком о неструганное дерево. Жизнь не спешила уходить из истерзанного тела, еще оставался крик, адская боль и мольба о смерти в полубезумных помутившихся глазах.
– А, Антоша? Пришел полюбоваться? – Обернувшись, Шитов усмехнулся, ловко бросил окурок в топку, отодвинулся в сторону: – Давай, залазь на лучшие места. Может, знакомого встретишь.
В ярких отсветах пламени его кривящееся лицо казалось кроваво-красным, будто с него содрали кожу. Чувствовалось, что он в прекрасном настроении и совсем не прочь поговорить. А вот Кузьмицкий, придвинувшись к топке, молчал, потеряв дар речи, мелко трясся, как на морозе, всем телом.
В заживо горящем человеке он узнал Полубояринова. Раненный в бедро и засунутый в топку, тот от муки сходил с ума и сейчас, в полузабытьи, из последних сил звал Степана Артемьевича. Злобина, как понял Кузьмицкий. Только подполковник Злобин не мог ответить ему. Убитый наповал осколком, он лежал в степи под Ново-Дмитриевской, и вешние ручьи омывали его большое, когда-то сильное тело. Ему повезло, он умер мгновенно.
– Что, жарко, кадет? – Хмыкнув, военмор Дзюба выплюнул хабарик, отстегнул клапан брюк и принялся мочиться Полубояринову на лицо. – Охолонись трошки! А теперь, братва, задвигай его по хрен, нехай погреется.
По его знаку корчащееся тело приподняли и засунули в топку вершка на три поглубже, по бедра. Зашипела, обгорая, человеческая плоть, в будке сгустился смрад, потянуло чадной вонью обуглившейся ткани. В который уже раз вопли умирающего резанули уши, и нахрапистые глотки с новой силой изрыгнули смех, забористую ругань и соленые морские прибаутки. Что, кадет, неохота на тот свет?
Альбатросы революции упивались зрелищем, и никто из них, преисполненных торжества и мести, не обращал внимания на Кузьмицкого. Содрогаясь всем телом, тот смотрел, как уходит Полубояринов, и, не вытирая слез, с убийственной отчетливостью осознавал всю никчемность и противоестественность своего существования.
Кто он? Предатель, трус, отверженный, изгой, русский офицер без чести, дворянин на побегушках у расхристанного немытого хама? Он сам сделал выбор, и теперь уже ничего не изменить, не поправить, можно только поставить точку. Жирную. Кузьмицкий вдруг почувствовал легкость и пустоту в душе. С ледяной улыбкой он открыл кобуру, обхватил рубчатую рукоять нагана и, взведя курок, начал считать.
Раз, два – военмору Дзюбе пару пуль куда-то под бушлат, в ширинку.
Три – комиссару Шитову в упор, между глаз.
Четыре – балтийцу Сяве прямо в грязный, раззявленный от страха рот.
Пять – безымянному матросу революции в выпуклый заслон груди.
Шесть – поручику Полубояринову в рано поседевший висок.
– Спи, Сережа. – Кузьмицкий коротко выдохнул, кинул взгляд на степь, бескрайнюю, быстро оживающую под лучами солнца, и чему-то снова улыбнулся. Семь – себе, точно под левый сосок.
Он не мог промахнуться, слишком тяжело было у него на сердце последнее время. Яркий свет мгновенно вспыхнул перед Кузьмицким, и он увидел свою матушку с ласковой улыбкой на морщинистом лице…
II
Среди уголовных полковника Мартыненко звали Паныч Чернобур. Он и вправду был хитер и изворотлив, словно опытный, не раз побывавший в облавах лис. Воля его была закалена войной, революцией, всеобщим бардаком. Душа отравлена крушением империи, потерей близких и утратой перспективы безбедно встретить старость в родительском имении, пожалованном еще деду за героизм в войне с Наполеоном Бонапартом.
– Господа, – часто говаривал полковник в тесном кругу, и его розовое от коньяка лицо становилось красным, – запомните, господа, никакой политики. Никаких классовых сражений, борьбы за идеалы, ностальгии по прошлому. Все это, смею вас уверить, дерьмо собачье. Высокие материи, господа, засуньте, миль пардон, себе в задницу. В преступном окружении нужно и вести себя соответственно, по уркагански. У большевиков нужно учиться, у товарищей, и прежде всего чему? – Он обводил аудиторию мутным от выпитого взглядом, делал значительное лицо и изящно, при посредстве вилочки, закусывал лимоном. – Дисциплина, господа, дисциплина! Горстка жидов, пархатых, но организованных, подмяла всю Россию! Чем были сильны римские легионы? Децимацией![1] Не стройте иллюзий, господа, ежели что – сразу же пойдете в расход.
Что и говорить, дисциплина и организованность у Мартыненко были на высоте. Костяк организации составляли кадровые офицеры, большей частью бывшие сослуживцы полковника, люди проверенные, побывавшие в деле, еще не совсем забывшие, что такое верность и слово чести. Был в банде и варнацкий элемент, но только в силу необходимости, проистекающей из рода деятельности, – армаи[2], медвежатники[3], фортацеры[4], мелкое циголье[5] в качестве алешек[6]. С ними Мартыненко соблюдал дистанцию, не жаловал особо, разговаривал через губу, а всяких там вардалагов[7], клюквенников[8], марушников[9] и шмаровозов[10] вообще за людей не считал и держал на расстоянии пушечного выстрела. Потому как шваль, гопота, босота, шпанка бесталанная.
Сам полковник работал по-крупному, промышлял уличными гоп-стопами и самочинками, – выражаясь в духе времени, по-революционному, самолично экспроприировал экспроприаторов. Дело было поставлено на широкую ногу. Купленные люди наводили на квартиры, проверенный блат-гравер рисовал чекистские удостоверения, разрешения на оружие, ордера на обыск, и по указанным адресам шли специальные удар-бригады, поднаторевшие в обысках, не брезгливые и не чурающиеся мокрого гранта[1].
Конечно, дело не простое и весьма опасное, взять хотя бы князя Эболи[2], так кто не рискует, тот и шампанского не пьет. И ведь даже не роскошной жизни с шампанским по утрам, омарами в обед и ночными «шик-этуалями» желал полковник, хотя само по себе весьма недурственное сочетание, нет, хотел он нормального, человеческого существования, где-нибудь в Ницце, на острове Капри или, на худой конец, в Новом Свете. А для этого нужны были петимети[3], валюта, наховирка[4], рыжье[5] – проклятый металл, без которого и за кордоном достойно будет не устроиться.
Урвать куш, дождаться зимы и по первому льду рвануть в Финляндию, где, слава богу, большевиков вырезали под корень, – вот программа максимум, ради которой стоит потрудиться в поте лица. Так что работал полковник с огоньком, не покладая рук, и хотя на таких, как он, уголовники смотрели косо, с презрением окрестив их «бывшими», Паныч Чернобур имел вес, и немалый.
Впрочем, элита, лощеные марвихеры[1], многоопытные фармазонщики[2], благообразные менялы[3] и прочая аристократия всех мастей в спешном порядке покидала Питер – а ну ее к аллаху, эту диктатуру пролетариата!
Не они одни, тысячи жителей северной столицы двинулись на юг, стремясь прорваться на Украину, чья самостоятельность была гарантирована Брестским договором. Только не так все было просто. «Чистые» руки чекистов оказались длинными – беженцев на границе не пропускали, заворачивали назад, прорвавшихся немецкие власти выдавали большевикам, а уже действовал ленинский декрет «О незаконном переходе границы», предусматривающий расстрел.
Родственники и друзья людей, оказавшихся заложниками совдепии, бомбардировали петициями правительство Украины, умоляя вмешаться и помочь родным вырваться на свободу. Гетман не остался в стороне и с просьбой о содействии обратился к немцам. Те тоже проявили гуманизм и через своего посла Мирбаха вышли на Ленина. И проблема, к удивлению всех, решилась с невероятной быстротой.
– Отлично, – сказал Ильич и оценивающе прищурился, – если гетмана так заботит судьба паразитирующих классов, то советское правительство не имеет ничего против, чтобы выслать на Украину всю эту буржуазную сволочь. Но не бесплатно, господа хорошие, не бесплатно. Революция требует денег – пусть в Киеве составят списки адресов и фамилий и вышлют в Москву. Плата по таксе, такса две тысячи фунтов стерлингов или золотом. Впрочем, ладно, – Ленин добро улыбнулся и махнул рукой, – можно и зерном. Только поторопитесь, господа, поторопитесь, а то будет поздно.
Скоро с Украины на север потянулись эшелоны с хлебом, названные в народе «гетманскими». Навстречу им, на юг, двинулись поезда со счастливцами, у которых оказались друзья и родственники на Украине. Однако уезжали беженцы нелегко. На пограничных станциях их обыскивали, обирая до нитки, до нижнего белья. Чекисты отцепляли паровозы, на сутки задерживали отправление. Безопасность никто не гарантировал. Любого могли арестовать, избить, а то и расстрелять прямо на перроне. Не церемонясь, сдирали кольца с пальцев, рвали серьги с ушей. Потому как буржуи – недочеловеки, изгои, обреченный класс.
Так что прав был, наверное, полковник Мартыненко, выжидавший, не поровший горячку, – поспешишь – людей насмешишь. Ничего, будет и на нашей улице праздник.
А пока что были серые трудовые будни, нервная, хлопотливая работа по ночам. Хотя они и становились все короче и светлей, но до белых было еще далеко, стоял апрель восемнадцатого года, холодный, ветреный, промозглый и злой. Со стрельбой, истошными криками, железной поступью чекистских орд, реками крови. Холодно, темно и неуютно было в Петрограде.
Каминные часы уже давно пробили полночь, когда с улицы донесся звук клаксона, и полковник Мартыненко поднялся, с ухмылкой глянул на подельников:
– Давайте, господа, давайте. Делу время, потехе час, кто не работает, тот не ест. Волка ноги кормят.
Они сидели на квартире у Альфонса Тихого, проверенного блатокая[1] и скупщика краденого, отчаянно скучали и занимались кто чем. Паршин, Граевский, Фролов и Страшила молча шелестели картами, играли на интерес, – какой там преферанс, вист и покер, резались в буру. Полковник Мартыненко, как истый малоросс, читал запрещенные, изданные в Лейпциге украинские эротические сказки, изволил смачно ржать, как жеребец на случке.
Подпрапорщик Яша Брутман, по кличке Соленый Жид, листал похабный фотографический журнал, потел и поминутно облизывал пухлые, вывороченные, как у негра, губы. Собою он являл странную, рожденную смутным временем породу евреев-рубак, раскормленных, наглых и неожиданно смелых, способных со страху геройствовать почем зря. В тринадцатом году его забрали с Молдованки на военную службу, и там, в пехотном полку, постигнув все тяготы жида рядового, он возмужал, окреп душой, а главное, проникся идеями анархо-эсеровской вольницы, священными истинами революционного террора. А потом началась война. Унтер-офицера, что засовывал ему в зубы бумажку и садился верхом со словами: «Но, пархатый, вези меня срать!», Брутман застрелил в первом же бою точно в затылок, мстительно и счастливо улыбаясь.
Вот он, путь к свободе, никакая черта оседлости не задержит пулю из винтаря! Дрался он геройски, был награжден тремя Георгиями – обычными, специальные для иноверцев упразднили перед войной – и выслужился аж до фельдфебеля-подпрапорщика, ротной жидовской держиморды. Во время парадов стоял на виду, у знамени. Командир полка гордился им, показывал начальству, как заморскую диковину:
– Извольте видеть, ваше превосходительство, трижды Георгиевский кавалер, герой. Не смотрите, что пархатый, орел!
А затем грянула революция. Мутный водоворот ее кидал Яшу то влево, то вправо, с головой выкупал в крови и наконец прибил к бандитскому берегу, в дремучие плавни гоп-стопов и самочинок. К тому времени вера в торжество революции лопнула в его душе как мыльный пузырь, не осталось ничего, кроме жгучей обиды и чувства ненависти к большевикам, – как случилось, что эти выскочки объегорили всех и захватили власть?
Частенько, напившись до безобразия, Брутман становился угрюм и, пуская слезу, с треском рвал рубаху на груди, крепкой, широкой и волосатой, орал, брызжа слюной:
– Кто убил Сипягина?[1] А Плеве?[2] А кто великодержавного педераста прибил?[3] Боевая организация эсеров! Она начала революцию, она! И где же были в это время Бланк[4]? Или Бронштейн[5]? Или этот чертов Апфельбаум[6], я вас спрашиваю? В Швейцарии? В Америке? В Германии? Так почему они сейчас в Совнаркоме? Нет, это не евреи, это выродки, за поцы их повесить мало. В гробу я видел эту революцию, в холодном виде и белых тапках!
Дальше Брутман обычно сатанел и начинал вспоминать все непечатные слова, проклятия и маты на русском, еврейском и немецком, а знал он их великое множество, в совершенстве. Слушали его по-разному: Паршин – мрачнея, с брезгливой усмешкой, Страшила – улыбаясь из вежливости, Граевский – вполуха, с подчеркнутым равнодушием, полковник Мартыненко – внимательно, кивая, с глубоко затаенной ненавистью. Пархатых он выносил с трудом и сам пустил в расход немало, только какой же это самочинный обыск без них? Все знают, что ЧК на две трети состоит из жидов. К тому же Брутман не боялся крови, был не жаден до денег и не лез на рожон, так что полковник терпел до поры до времени его мокрые губы, выкаченные влажные глаза и картавый местечковый говор.
Между тем все встали и направились в переднюю, одеваться. На шум вышел сам хозяин дома, тощий, благообразный старикан, щелкнул по-блатному пальцами, блеснул крупным карбункулом на мизинце:
– С мухой, господа![1]
Давным-давно Альфред Тихий был коллежским асессором, служил в горном департаменте и ходил в вытертом мундире с разрезом на заду. Так бы и канул, наверное, в Лету в полной нищете и забвении, если бы не супруга. Та была просто одержима навязчивой мыслью – выдать дочь за карманного вора, почитая марвихера лучшей партией для любимого чада. Выдали. Много лет пролетело с тех пор. И уж жена давно преставилась, и дочь сбежала черт знает куда, а вот муженек ее с друзьями и родственниками живы-здоровы, отлично помнят Альфреда, постоянно наведываются в гости. «Здравствуйте, папа! Не примете ли вы рыжья, сверкальцев и хурды-бурды на блат по бросовой цене? И вот еще пара волын, вы засуньте их, папа, куда подальше, нехай себе полежат. Мы же таки все по музыке играем…» Ну, как им откажешь?
– К чертям собачьим. – Полковник, хоть и не был суеверен, сплюнул через левое плечо, влез в кожаный реглан и по-уркагански сдвинул на нос козырек фуражки, новенькой, краснозвездной. – С Богом, господа, с Богом.
В молчании бандиты вышли на лестницу, закуривая на ходу, двинулись вниз, в объятья неласковой апрельской ночи. На углу, неподалеку от подъезда, исходил сизым выхлопом грузовой «рено», двигатель которого работал неровно и вонюче, на чудовищной бензино-керосиновой смеси. За рулем сидел крепкий парень, очень похожий на имажиниста Есенина, только в отличие от поэта он был не гоношлив и если пил, то в меру, не теряя головы.
Это был Жорж Заноза, человек проверенный, повязанный кровью и ничем не интересующийся, кроме своей доли. Он служил механиком в гараже ревкома, был на отличном счету у властей и жил по принципу: меньше знаешь, крепче спишь.
– Ну и вонь, блевать тянет. – Полковник по-хозяйски залез в кабину, устроившись на сиденье, поспешно закурил, глянул, как подельники рассаживаются в кузове. – Давай, Жоржик, в Апраксин, ближе к Фонтанке. Избушку на месте покажу.








