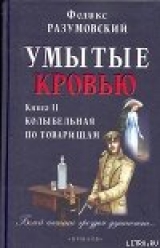
Текст книги "Умытые кровью. Книга II. Колыбельная по товарищам"
Автор книги: Феликс Разумовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
– Варька-то? Кто ж ее знает. Раньше с жидом жила, во дворце на Фонтанке, у Невского. – Тихон беззубо рассмеялся, глядя, как мышь засеменила на задних лапах, держа в передних хвостик, словно шлейф. – А вот Олюшка точно на Смоленском. В январе ссильничали ее и раздели, так и замерзла, болезная, на морозе, калачиком. Мы с Василь Кириллычем, старшим дворником, ее на саночки и на погост, а кладбищенские, черти, ни в какую – вы кого нам привезли, ни в один гроб не влезет! Тогда Василь Кириллыч им браслетку генеральшину, и все решилось само собой, полюбовно. Зарыли Олюшку без гроба, в круглую могилку, будто деревце посадили.
Внезапно, перестав смеяться, старик перешел на шепот, оглянувшись, с подозрением погрозил Граевскому пальцем:
– Ты смотри, Никитка, смотри, не говори ничего Василь Кириллычу насчет браслетки-то, он меня не забывает, кусок дает. Не его грех, все брали. Вот, смотри-ка. – Тихон тяжело сполз на пол и, встав на колени, с трудом вытащил из-под кровати доверху набитую корзину. – Мы, чай, не хуже этих из коммунии, заслужили.
Двигался он как-то неуверенно, на ощупь, с осторожной медлительностью слепого человека. Глаза его были пустые, мертвые, смотрели в одну точку.
«Эх, Тихон, Тихон». Чувствуя себя последним идиотом, Граевский горестно вздохнул, тупо, без мыслей, склонился над корзинкой. Чайный сервиз, тряпки, бронзовый ларец, подсвечники стояли на камине в гостиной. Дядюшкин, с золотой насечкой, «смит-и-вессон», дамское, в кружавчиках, белье, забавный мельхиоровый мопс-копилка. Тяжелый и пустой. Фотографический альбом, толстый, с серебряными уголками. Дядюшка в полковничьем мундире, с парадной шашкой, на коне. Тетушка в роскошном декольте, с алмазной брошью, на балу. Сияющая Галина с мужем и ребенком. Серьезная, с надменным взглядом, Ольга. Наивный, полный веры в справедливость, кадет Граевский… Их уже не вернуть… Варвара… Улыбающаяся, манящая, в воздушной шляпке на пышных волосах.
Прошло лет пять, не меньше, как фотограф чикнул грушей, почему же так бешено забилось сердце и ноздри уловили волнующий, сладко путающий мысли аромат?
В мае тринадцатого года старый выборгский парк Монрепо утопал в океане сирени. От ее запаха кружилась голова, сердце замирало в предчувствии счастья, и весь мир казался созданным для любви. Они с Варварой долго гуляли по аллеям, бродили, взявшись за руки, по булыжным мостовым, наплевав на все приличия, целовались, громко хохотали, болтали ни о чем.
Старый Выборг очаровал их. Витрины магазинчиков были солидны, локоны крепеньких, улыбчивых фрекен безукоризненны и белокуры, полицейские в черных сюртуках держались подтянуто и молчаливо. Стерильность уличных уборных вызывала благоговение, буфетные-автоматы работали как часы, прокатные автомобили были недороги и приезжали по первому же телефонному звонку.
В маленьком ресторанчике при гостинице они пили «ласточку»[1] с жареными фисташками, ели финскую, с корицей, простоквашу, мазали на хлеб паштеты и икру, медленно, со вкусом, поворачивали шведский «секст» – круглое, вертящееся блюдо с закусками, разделенное на секторы. А потом в крохотном номере на скрипучей кровати они были вдвоем всю ночь… Неужели пять лет прошло с тех пор? Кажется, это было вчера.
– Понравится если что, не робей, Никитка, бери, все одно на хлеб менять. – Упираясь руками в пол, Тихон поднялся с колен, снова улегся и, путаясь, стал натягивать одеяло. – Генералу только не говори. Узнает, всем будет на орехи. И Василь Кириллычу, и мне, и комиссарам этим… Как он нас вел в атаку-то под Рошичем!
Старик вдруг рывком уселся на кровати.
– Молодцы! Шашки вон! Взводными колоннами в атаку, марш, марш! – Голос его тут же сорвался, превратился в хрип. Застонав, Тихон обхватил руками голову, откинулся на грязную ситцевую подушку. – Темно-то как, хоть бы лучину кто зажег. Ну, иди, Никитка, с Богом, скоро Василь Кириллыч вернется, как бы ему с генералом-то не столкнуться…
То ли всхлипнув, то ли засмеявшись, он отвернулся лицом к стене, накрылся с головой и, скорчившись, подтянув колени к животу, затих, будто окоченел на морозе. Мышка, тихо пискнув, взобралась по кроватной ножке и закатилась белым шариком под одеяло. Настала тишина, лишь ветер задувал в трубу да хрипло, будто бы кончаясь, дышал старик.
Граевский вытащил кисет, сколько было денег – сунул под подушку, усмехнулся горько: «Не бойся, Тихон, генералу я ничего не скажу». Запихнул ногой корзину под кровать, спрятал на груди альбом и, не оглядываясь, медленно пошел прочь.
Только сейчас он понял со всей отчетливостью, отчего быструю смерть в расцвете сил древние почитали за высшее благо.
На улице по-прежнему светило солнце, только теперь оно не радовало Граевского. Холодные лучи его больше не слепили глаза, били в спину, заставляя замечать мертвые тела, кое-где выглядывавшие из-под снега, горестные морщинки на женских лицах, всю эту страшную неухоженность некогда блистательного города.
– Тряхни-ка, товарищ. – Неподалеку от Госдумы Граевский разжился табачком, молча, греясь у костра, покурил в компании военморов. Гостиный был закрыт, вдоль рядов фланировали проститутки, озябшие, красноносые, только покупателей на продрогшее тело что-то не находилось.
– Спасибо, товарищ. – Граевский выплюнул окурок и, поправив кобуру, двинулся дальше. – Всеобщий классовый привет.
На Аничковом мосту он остановился, сунув руки в карманы, посмотрел по сторонам. В глаза сразу бросилось гротескное, насквозь фальшивое строение в виде рыцарского замка, весь вид которого кричал о претензии на оригинальность, тяге к роскоши и желании любым путем заявить о себе в этой жизни.
– Ланселот чертов. – Неожиданно разозлившись, Граевский повернул с моста на набережную и вошел в просторный вестибюль, полный грязи, суеты и неразберихи. Какие-то люди в шинелях таскали вверх по лестнице фанеру и доски, брызгая раствором, неумело клали вкривь и вкось кирпичную перегородку, прямо со ступенек у входа выгружали носилки со строительным мусором. Стук топоров, скрежет мастерков, лязг лопат, хруст битого стекла под сапогами.
Распоряжалась всем этим хаосом худенькая большегрудая женщина в кожаной тужурке и щегольских, высоко шнурованных башмаках. Глаза у нее были зеленые и распутные, на рукаве красная повязка с белой надписью: «Комендант».
– Извиняюсь, товарищ, – Граевский скрипнул кожанкой, нахально, очень по-мужски, улыбнулся, – вас можно на минуточку?
– Можно и на побольше, – повернувшись, женщина окинула его взглядом, вздернув брови, сразу же улыбнулась в ответ, – а то ведь за минуточку и муж может. Папироской не угостите, товарищ?
Такого взгляда, хитрого, оценивающего и продажного, Граевский не встречал даже у проституток из фронтовых борделей.
– Увы, враги кисет прострелили, – он горестно развел руками, подмигнул, – зато самое главное осталось цело.
– Ловлю вас на слове, товарищ. – Сально ухмыляясь, женщина придвинулась к Граевскому, пухлые губы ее жеманно вытянулись. – Ну что ж, тогда покурим моих. – Она достала портсигар и, не предлагая собеседнику, воткнула в рот папиросу, зеленый глаз ее выжидательно прищурился.
– Ну, так что за дело у вас?
– По розыскной части. – Граевский щелкнул зажигалкой, поднес коптящий огонек к карминовым, густо накрашенным губам. – Насчет буржуйки Багрицкой, жены банкира.
– Вот Варька дает, и здесь успела! – Комендантша затянулась, резко отодвинувшись, выпустила дым из ноздрей короткого носа. – Не там ищете, товарищ дорогой. Вы ведь с Гороховой, верно? – Она снова смерила Граевского взглядом, усмехнулась ехидно. – Вот и спросите у комиссара Зотова, он с ней сейчас живет. Можете у Мазель, тьфу ты, Мазаевой, поинтересоваться, они с Варькой подруги. О-очень близкие.
Глаза ее злорадно блестели, в визгливом голосе сквозили зависть и ненависть.
– Товарищ комендант! Зинаида Павловна! – Откуда-то сверху раздался простуженный бас, и на лестничной площадке возник нескладный, весь перепачканный известкой красногвардеец. – Щиты куды?
– Туды! – Комендантша махнула рукой и показала в усмешке мелкие, острые, как у хорька, зубы. – Ну все, некогда мне. Увидите на Гороховой товарища Багуна, привет передавайте, а то что-то гордый стал, не заходит. Можете и сами залететь на огонек, жалеть не будете.
Она изящно выплюнула окурок, растерла каблуком и, многообещающе подмигнув, стала подниматься по лестнице. Ее ягодицы, бедра и спина находились в постоянном змееобразном движении, чересчур вызывающем и нарочитом.
«Багуну передать привет? Ну, уж дудки». Граевский постоял, помусолил взглядом комендантшины ноги, затем повернулся и пошел домой. На сердце у него вдруг воцарилось гадливое спокойствие, все наконец-то встало на свои места. «Значит, сожительствует с комиссаром Зотовым? Очень хорошо. А также с какой-то там Мазель-Мазаевой? Отлично. И чего было ждать, когда весь мир бардак. Довольно раскисать, мотать сопли и пускать слезу по ноге. Завтра же надо будет наведаться сюда и поиметь эту змееобразную стерву».
Словно в тумане, Граевский шел по стылому городу, и не унимавшееся воображение рисовало ему, как будет корчиться в огне фотография Варвары. Сначала пламя уничтожит ноги, стройные, с шелковистой кожей, округлыми бедрами и выпуклым шрамом на левой коленке, затем доберется до лона, розовой тугой щели, укрытой бархатистым треугольником, потом сожрет талию, маленькую грудь и, наконец, лизнет смертельным языком смеющиеся губы, блестящие глаза, пышную рыжину вьющихся волос.
И все, останется только ломкий пепел, который превратится в серую невесомую пыль. Подумать только, сожительствует с комиссаром! Мало ей обрезанного банкира. Вот ведь тварь, дешевка, грязная, продажная сука! Все к чертовой матери, не думать больше о ней, об этих ласково-настойчивых руках, о непослушном завитке над маленьким розовым ухом…
Занятый своими мыслями, он добрел до дома Паршина, медленно поднялся в бельэтаж и только подошел к знакомой двери, как в спину ему, точно на уровне лопаток, уперлось что-то твердое. Щелкнул курок нагана, и хрипатый, словно не человеческий, голос прошипел:
– Ша, зева! Не рыпайся! Пакши в гору!
Тотчас с плеча Граевского сдернули маузер, не отнимая револьвера, толкнули за порог:
– Греби давай!
Проделано все было неожиданно и грамотно, сразу чувствовались сноровка, профессионализм и большой практический навык. Суетиться, делать резкие движения было бессмысленно, рваная дыра в спине никому еще не приходилась кстати.
«Все зло от баб». Чувствуя, как леденеет позвоночник, Граевский поднял руки и без геройской суеты, не сопротивляясь, двинулся вперед через нетопленную кухню. Истомная задумчивость слетела с него, остались только страх, рожденный чувством самосохранения, желание выжить и безысходная злость – не занимал бы мозги никчемными фантазиями, не угодил бы, верно, как кур в ощип. Хотя, может, все не так уж и скверно: если не завалили сразу, значит, есть шанс уцелеть.
– Шевелись давай! – Тычком нагана Граевского толкнули в коридор, пихая в спину, довели до кабинета, с силой придержали за плечо. – Заходи.
Он послушно остановился, медленно открыл дверь и, не веря своим глазам, замер в изумлении – до чего же тесен мир! За столом восседали его бывшие начальники – полковник Мартыненко и капитан Фролов. С удобством расположившись в креслах, они курили сигары «Боливаро», потягивали коньячок из хрусталя семейства Паршиных и с неприкрытым, каким-то откровенным интересом внимательно смотрели на Граевского. На столе красовалась грузная бутылка с гордыми цифрами на этикетке, плошки с киш-мишем, сухофруктами, осколками шоколада, эйнемовское, из жестянки, печенье, чищеные орехи, желтел порезанный на дольки лимон. Невиданно роскошный по нынешним временам натюрморт.
Полковник Мартыненко выглядел под стать великолепию стола, солидно и процветающе. Он раздобрел, приосанился, в больших лиловых глазах его появился начальственно-генеральский блеск. В богатой шубе, с курчавыми бакенбардами и седеющими подусниками, он напоминал прирученного светского льва, рангом никак не ниже тайного советника. Капитан Фролов, напротив, как-то измельчал, потерял лицо. В матросской форме с надписью «Отважный» на бескозырке, с рыжими усиками, бандитской челкой и огромным карбункулом на мизинце, он походил на вульгарного уголовника. Впрочем, разве только походил?
– А знаете, что я вам скажу, штабс-капитан? – Выдержав паузу, он хмуро затянулся и выпыхнул дым в сторону Граевского. – У вас совершенно невоспитанные субалтерн-офицеры. Головорезы какие-то, бандиты с большой дороги…
– Да, да, голубчик, увы, это сущая правда. – Кивнув, полковник отпил коньяку и деликатно зажевал лимоном. – Мы как порядочные люди заглянули в гости, по-соседски, а они сразу скулы дробить, кровушку пускать, никакого армейского радушия. Вы ж только гляньте, какое у него перо, это просто жуть! – Он покачал благообразной головой, вздохнул и, сунув в рот изюмину, ткнул пальцем в угол, где на полу сидели связанные Паршин и Страшила. – Что с ними делать теперь, ума не приложу. Может, на штык посадить? Или выпотрошить, медленно? Вы как думаете, штабс-капитан?
В его интеллигентном, хорошо поставленном голосе не было даже намека на шутку.
– Вы, господин полковник, верно, не знаете, что я произведен в капитаны? – Граевский дружелюбно улыбнулся, сунув руку в карман, нащупал рукоять «бульдога» и тоже глянул в угол, мельком. – Да и разве мы соседи?
Страшила восседал восточным истуканом – с непроницаемым лицом, в чалме, по-турецки. Паршин был зол, как сто чертей, и держался попроще – негромко матерился сквозь стиснутые зубы. Под глазом у него алел большой кровоподтек, острие стилета отливало красным. Рядом, у стены, отирался какой-то негодяй с наганом в руке, еще один, устроившись на подоконнике, задумчиво курил, посматривая на пленников, и ловко сплевывал на каминное зеркало.
– Со вчерашнего дня, голубчик, со вчерашнего дня. – Полковник широко улыбнулся, отчего подусники его разошлись в стороны. – Я теперь ваш сосед сверху. Профессор оставил мне свою квартиру и бабу в придачу, а сам переселился в другое место. – Он вдруг сочно заржал, так что на глазах выступили слезы, отдышавшись, коротко махнул рукой: – Ну же, Кирюшка, не маячь, отлезь в туман. А вы, голубчик, присаживайтесь, выпьем за встречу.
Из-за спины Граевского вынырнул крепыш в кожаной куртке, не убирая револьвера, он с ухмылкой пересек комнату и уселся на диван, где уже полулежали двое. Один, с изломанным лицом, ужасно матерился разбитыми губами, другой держался за живот и, испепеляя взглядом Паршина, в душе благодарил своих бандитских богов – еще бы чуть-чуть, и все кишки наружу.
– Благодарю. – Возликовав в душе, Граевский выпустил «бульдога», с достоинством усевшись, кивнул на связанных товарищей: – Однако странная все-таки получается встреча. А как же, господа однополчане, армейская дружба?
Он уже понял, какую кашу заварил покойный профессор Варенуха и что групповые похороны пока отменяются.
– Вы бы прикусили язык, штабс-капитан. – Фролов, рассвирепев, прищурился, в мятом голосе его послышалось раздражение. – А лучше засунули бы себе в задницу. Лезете куда ни попадя, путаете карты… Что, уже не остановиться? Привыкли резать всех подряд у себя в разведке…
– А вы, я вижу, Дмитрий Васильевич, на флот подались? – Подняв плетью бровь, Граевский с издевочкой хмыкнул, привстал, налил полковнику и себе. – Значит, в нижние чины, в матросы революции? А что, бескозырка вам очень к лицу. Бог даст, дослужитесь до фендрика[1].
– Господа, немедленно прекратите! – Нахмурившись, Мартыненко выпил, сунул в рот осколок шоколада. – Пикироваться devant les gens![1] Что за моветон!
Он демонстративно глянул на диван, где расположились трое негодяев, с отвращением вздохнул и перевел сверлящий взгляд на Граевского:
– Голубчик, вы загнали в ящик двух моих людей и испортили мне всю обедню. Не отпирайтесь, Варенуха рассказал мне все как на духу, исповедовался, можно сказать, в последний час. – Вспомнив что-то, он вдруг расхохотался, отрывисто, страшно, одними губами. – Много чего интересного наговорил покойник, такой дар красноречия прорезался. Ну да ладно, мир его праху, пусть плавает себе спокойно. Так вот, голубчик, frankly speaking I don't feel pity for those men – they were real bastards, dirty vomit[2], большая груда зловонного merde[3] посреди стола. Увы, обстоятельства таковы, что, хочешь не хочешь, приходится иметь дело с all kinds of scoundrels[4]. О, времена, о, нравы! Tout passe[2], tout casse[2], tout lasse[25]. Однако, голубчик, вы наступили на мозоль организации, и ergo[6] придется отвечать, кровью. Своей или чужой. Отвертеться не удастся.
Он взял многозначительную паузу, налил себе одному и интеллигентно, изящным жестом поднял пузатую рюмку:
– За приятную встречу!
– Хороший коньячок, но мягковат. – Не чокаясь, Граевский выпил, застыл, прислушиваясь к ощущениям, кивнул, с усмешкой потянулся за изюмом. – Не поверите, господа, но по мне лучше шустовский, в нем как-то больше чувствуется жизнь. – Он вкусно чмокнул и в продолжение разговора внимательно взглянул на Мартыненко: – Так, значит, господин полковник, вам требуются волонтеры в ваше войско?
– Ну, конечно же, черт побери. – Тот хотел было налить, но передумал, сунул в рот зернышко миндаля. – I'm, my dear, sick and tired of all this horseshit on a plate – rapers, villains, robbers, thieves. It's more plesant to work with noble, intelligent people, people with heart and brains[1]. – Он остановился, выразительно взглянул на матроса Фролова. – Fortes fortuna adjuvat[2]. Мы, русские офицеры, имеем свирепое право на жизнь и богатство. Нас предали все, начиная с сиятельного недоноска и кончая местечковыми жидами, окопавшимися в Совнаркоме. Пока мы гнили на фронте, поганые нувориши набивали мошну, а пархатые комиссары с красножопым хамьем насиловали наших жен и жгли ярким пламенем наши поместья. Только просчитались и те, и другие, мы хорошо знаем, как входит сталь во вражескую глотку. Добродетель, нравственность, христианская мораль – все это теплая блевотина, собачье дерьмо, спасительное лицемерие для юродствующих импотентов. Мы еще возьмем свое. К черту присягу – ubi bene, ibi patria[3].
Выступать бы Мартыненко с трибуны, далеко бы пошел…
– Могу я подумать? Посоветоваться с друзьями? – Сраженный красноречием полковника, Граевский глянул в угол, вздохнул: – Дело-то нешуточное. Легко соглашаются только шлюхи.
– Какие, к чертовой матери, совещания? – Мартыненко побагровел и стукнул кулаком об стол, так что подскочили тарелки. – Ваши люди, да и вы, mon cher[1], все еще дышите лишь потому, что нужны мне. Итак, или мы будем вместе, или мы будем, а вы нет. Составите компанию профессору.
– Омерзительное зрелище, ломается, как гимназистка. – Фролов вытащил сигару, понюхав, выразительно взглянул на кожанку Граевского. – А сам, можно подумать, занимается благотворительностью. Уж не брезгуете ли вы, господин капитан, старой полковой дружбой?
Он поднялся, подошел к камину и с садистской ухмылочкой гильотинировал сигару – кончик ее отлетел, словно отрубленная голова.
– Хорошо, господа, будь по-вашему. – Хрустнув пальцами, Граевский кивнул, медленно опустил глаза. – Да здравствует старая полковая дружба.
В глубине души он был рад, что не открыл стрельбу, неизвестно еще, чем бы все закончилось, а так хоть какая-то перспектива.
– Чудесно. La voila[1] l'entente cordiale[2]. – Полковник выпил в одиночку, достав часы, нажал на репетир, поднялся. – Однако бежит время. Дмитрий Васильевич, уводите людей. А вас, господин капитан, жду сегодня к восемнадцати ноль-ноль на постановку боевой задачи. Думаю, дело будет…
Он протянул холеную, в драгоценных перстнях руку и, не торопясь, вразвалочку, покинул кабинет. О том, что их могут просто обмануть, ни Мартыненко, ни Фролов даже не подумали, оба знали Граевского не первый день.
II
Наступила весна, однако Владимир Ильич Ленин был мрачен, словно безлунная декабрьская ночь. Что-то уж слишком разошлись, разгулялись балтийские ветры, расшумелись на улицах Питера, выдувая из красных альбатросов классовое чутье и революционную сознательность. Не нравится им, видите ли, дисциплина, сухой закон и отволглый хлеб, не о такой новой жизни они мечтали! Вспоминают наваристый флотский борщ и предобеденную полуденную чарку! Налицо мелкобуржуазный синдром, анархический декаданс и полное непонимание исторического момента.
Диалектическая близорукость, трижды помноженная на рудиментарную неоимпериалистическую психологию. Резюмируя же, глядя в корень, – виноваты спекулянты, саботажники и прочие агонизирующие апологеты контрреволюционных классов. Надо будет поставить Феликсу на вид, чтобы шире практиковал расстрелы, нечего миндальничать. А то упаднические настроения растут, поднимает голову парламентаризм, есть настораживающие признаки архиполнейшего сугубо классового разложения.
И все это на фоне мелкобуржуазной, щедро сдобренной волюнтаризмом, лжеоборончеством и правым уклонизмом стихии. Некоторые товарищи деградируют, встают на шаткую платформу пораженчества и оппортунизма. В феврале во время наступления германцев отряд матросов под предводительством Дыбенко надежд не оправдал, показал себя невыразимо безобразно. Архипозорно. Даже не входя в соприкосновение с врагом, матросы сдали Нарву и бежали сто двадцать верст по глубокому снегу.
В Гатчине захватили эшелон и погнали куда глаза глядят, лишь бы подальше от линии фронта. Подонки, политические проститутки, лакеи буржуазии! Какое вопиющее головотяпство, преступный, гибельный просчет, злостная контрреволюционная близорукость! И это со стороны товарища Дыбенко! Проверенного балтийца и наркома по морским делам! Пришлось экстренно подготовить статью «Тяжелый, но необходимый урок» и опубликовать ее в «Правде». Ничего, ничего, мы еще научимся бороться с противником. С противником надо уметь бороться! И пусть пролетариат знает, что день двадцать третьего февраля был для всего народа горьким, обидным, тяжелым, но необходимым, полезным и благодетельным уроком.
А вот немцам спасибо. Империалисты, конечно, однако если посмотреть диалектически… Получили свое по Брест-Литовскому договору и носа не суют в дела республики. Как и договаривались. Зато уж по отношению к Финляндии ведут себя как злонамеренные, настоящие акулы капитализма – архиреакционнейше! Железный гренадер фон дер Гольц с дивизией своих головорезов физически истребляет коммунаров, режет по живому, душит на корню чухонское рабочее движение. А в роли пособника выступает генерал Маннергейм – царский сатрап, вне всякого сомнения, ставленник проимпериалистических анархосиндикалистских кругов.
И все это совсем недалеко от Смольного, бронепоезду идти хорошим ходом часов пять. Мало того, что революция в опасности, неотвратимая угроза нависла дамокловым мечом над самым сердцем ее – над Совнаркомом, ВЦИКом и ЧК. Тут уж двух мнений быть не может, надо переносить столицу в Москву и самим переезжать на Боровицкий холм. Иначе может думать лишь наймит буржуазии, воинствующий реакционер, безобразнейшим образом разложившийся оппортунист.
Перевести дух за кремлевской стеной, покончить с фракционностью в ЦК, наладить связи с московскими товарищами – вот необходимая программа минимум на текущий момент. А на будущее, если потребуют обстоятельства, следует перебираться на восток, куда-нибудь в Сибирь, в Екатеринбург например. Тем более товарищ Свердлов отлично знает те места, возглавлял в свое время боевую пролетарскую дружину…
Уезжали тайком, в спешке, на трех составах. Была дрянная мартовская ночь, с залива резко дул промозглый ветер. Луна пряталась за тучами, тучи утюжили фонари, фонари не горели. У «Северной» гостиницы вскипали лужи, дождь барабанил, не переставая, бил в лица латышам, рассыпавшимся цепью вдоль здания Николаевского вокзала. Главком Вацетис деньги зря не брал, ливонский батальон стоял стеной, вход на платформы был строго по пропускам.
Только за полночь на перроне «царского павильона» начал собираться народ: Ленин, озабоченный, в вытертом драповом пальто, Инесса Арманд, элегантная, в голубоватой шубке, Крупская, постаревшая, грузная, похожая в шерстяном платке на работницу с текстильной мануфактуры.
Подошел с отсутствующим видом Троцкий, на его лице прожженного авантюриста застыла вежливая, скучающая улыбка – пустяки, где наша не пропадала. Появился мрачный, всегда чем-то недовольный Свердлов, его черная, с просинью, борода подчеркивала нездоровую бледность щек. Павой приплыла разрумянившаяся Коллонтай, стройная, эффектная, в шиншилловом палантине. Жалкая судьба Дыбенко, видимо, совсем ее не волновала – что было, то прошло. Инесса Арманд посмотрела на нее с ненавистью и, надув губы, отвернулась – вот дрянь, вырядилась как на бал. Ей не давало покоя, что гардероб Кшесинской попал большей частью в руки бойкой Коллонтай.
На перроне вдоль пульманов стояли рослые латышские стрелки, поглядывали равнодушно на совнаркомовских еврейчиков, на разряженных их баб, на всю эту поспешную посадочную суету. Было время, смотрели они вот так же и на царя батюшку, и на дядю его, главнокомандующего[1], и на крикливого министра-председателя, да только нет уж ни того, ни другого, ни третьего, исчезли в одночасье, как в воду канули. Большевики, меньшевики, эсеры, плевать на всех.
Крепкие руки, держащие винтовку, в цене при любой власти. Была бы водка, картошка с салом, да чтобы тмину побольше, а уж с бабами-то сейчас несложно, сами на шею вешаются.
Паровоз между тем дал гудок, комендант поезда взмахнул рукой, закричал опоздавшим:
– Скорей, товарищи, скорее!
Состав дернулся, вагоны громыхнули, перрон начал медленно уплывать назад. Латыши легко вскочили на подножки, захлопнули двери. Поезд стал набирать ход. Одновременно с других платформ отошли еще два состава с членами ВЦИКа, чекистами и работниками прочих советских учреждений. В отдельном вагоне разместилось отделение германского генштаба, ранее действовавшее в Петрограде, а теперь передислоцирующееся в Москву. За немецкие денежки нужно отчитываться и в столице.
Ночь была непроглядно темной, дождливой, по крышам пульманов будто барабанило крупной дробью. Колеса выстукивали на стыках с размеренной занудливостью, вагоны немилосердно мотало, в окна тянуло едкой локомотивной гарью.
– Да, погодка. – Кашлянув негромко, Ленин постучал ногтем по стеклу, глянул на задремавшую сидя Крупскую, переметнул острый прищур глаз на Троцкого: – Что, батенька, думаете, рабочие нас не поймут? А не поймут, и черт с ними! Революция жива, пока жива партия. Пока живы я, вы, она, – он кивнул в сторону супруги, спавшей с некрасиво открытым ртом, порывисто вскочил, уселся, до боли сжал кулак. – Рабочие! Пролетарии! Авангард! А гляньте в корень – толпа, архиинертнейшая масса. Мы же, батенька, организующая сила, без нас революция обречена. Понадобится, переедем и за Уральский хребет, в Сибирь. Кстати, Лев Давыдыч, как там поживает гражданин Романов? Напомните Свердлову, чтобы не тянул, довольно мелкобуржуазных рассусоливаний, исторический момент не оставляет нам выбора. Революция – не игрушка, в классовой борьбе середины быть не может.
Поезд, в котором находился Ленин, вышел вторым, после головного, где ехали члены ВЦИКа. Однако уже через час машинист обнаружил, что впереди движется не один состав, а два, причем вклинившийся состоит из теплушек и идет на двух паровозах. Ого! Помощник машиниста, рискуя жизнью, с тендера перебрался по крышам пульманов и дал знать коменданту поезда, тот срочно известил Вацетиса, Троцкого и Ленина. Началась суета, раздались звуки команд.
– Начинается, товарищи. – Ленин вытащил из-за пазухи браунинг, тот самый, чуть было не украденный балтийцами на открытии Учредительного собрания, сняв с предохранителя, дернул затвор. Однако сделал это как-то неумело, дрожащими пальцами, и патрон в казеннике пошел наперекос, механизм оружия заклинило. – Черт знает что такое!
Владимир Ильич посмотрел на пистолет как на гремучую змею, что делать с ним дальше, он явно не знал.
– Дайте-ка. – Презрительно щурясь, Троцкий вытащил обойму, оттянул затвор и, разрядив браунинг, вернул Ленину. – Да не волнуйтесь вы так. – Он усмехнулся: – Вацетис не подведет, заплачено с лихвой.
На часах было начало четвертого. Дождь перестал, показалась луна, в мутном ее свете можно было разглядеть за окнами ельник, чахлые березки, грязный раскисающий снег на полях. Впереди в трех четвертях версты были ясно различимы огни вклинившегося поезда, красные точки их неумолимо приближались, таинственный состав сбавлял ход.
На станции Любань, невзирая на открытый семафор и манипуляции жезлом начальника станции, он и вовсе встал, на главном пути, прямо напротив буфета первого класса. Дорога составу с совнаркомовцами была перекрыта.
Заскрипели, не справляясь, тормоза, с грохотом столкнулись буферы, а из теплушек под крики и матерную брань уже повалила на перрон ревущая разношерстная толпа – бушлаты, шинели, обмотки, клеша, кое у кого в руках привычно вертелось оружие.
– Ленина с комиссарами под колеса! Хватит, наслушались бредней!
– Мы на германской кровь проливали, а жиды с коммунистами немцам Россию продали!
– В пломбированном вагоне приехал, гнида, шпионить! Пустобрех! Иуда!
– Что, наворовали? Теперь задний ход?
– Кончай их, братва, даром, что ли, Зимний брали?
– Всех, жидов, комиссаров, в расход! Даешь революцию по новой!
Ярость разгоралась все сильней, бурлящий человеческий поток потянулся вдоль перрона, но с площадок на асфальт уже соскочили латыши, поднаторевшие на германской наводчики положили пальцы на рукоятки затыльников «Максимов».
– Огонь!
Слаженно рявкнули пулеметы, затакали дробно, накрывая плотным свинцовым шквалом сразу потерявшуюся, начавшую стремительно редеть толпу. Обезумевшие люди повернули вспять, метнулись было к зданию вокзала, но латыши дружно ударили вдоль фасада, оставляя только единственный путь – назад, в прокуренную тесноту теплушек. Толпа, топча раненых и убитых, схлынула, с криками забилась в вагоны, над перроном повис запах крови, пороха и слабеющие стоны умирающих.
Ливонский батальон действовал решительно и умело. Под пулеметными дулами дверные скобки теплушек были замотаны проволокой, и запечатанный состав с людьми отведен на запасный путь. Теперь можно было действовать сообразно революционному моменту – взорвать, расстрелять в упор пулеметными очередями или, скажем, написав на вагонах: «Непортящийся груз», отправить малой скоростью по бескрайним российским просторам…








