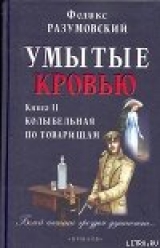
Текст книги "Умытые кровью. Книга II. Колыбельная по товарищам"
Автор книги: Феликс Разумовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
V
– Ну так как, Степа? – Выдохнув после коньяка, Граевский разломил копченого бычка, однако есть не стал, вытер о газету руки и полез за портсигаром. – Что скажешь?
Газета была трехдневной давности, называлась «Одесские новости» и сообщала в оперативной сводке: «Все атаки большевиков на… (цензурный пропуск) отбиты благодаря огню тяжелой батареи Добровольческой армии, которая расстреливает красных комиссаров на картечь. Наступающие большевики несут колоссальные потери. Но это только начало их конца. Скоро они окажутся под огнем дредноудов, с помощью которых можно весьма и весьма продолжительное время держать противника на значительном расстоянии от города». Ну вот, дождались, большевики на расстоянии выстрела корабельной артиллерии!
– Не, Никита, не поеду, дюже тошно мне на пароходах-то. – Акимов улыбнулся, отхлебнув из фляги, крякнул, отщипнул рыбье перышко. – Ксюху позови, она для тебя на все согласная.
Они сидели на мостках, чуть ли не касаясь подошвами воды. Прибой нежно терся об осклизлые гнилые сваи, бережно качал рыбацкие шаланды, тихо тряс ржавыми цепями. Над морем, горланя, кружились чайки, выхватывая друг у друга на лету добычу. Смотреть на воду было больно, солнечные блики резали глаза. Ветер доносил запах рыбы, водорослей, жженого угля – вдали на внешнем рейде отчаянно дымили корабли союзников.
– Ну ладно, Степа, не хочешь морем, можно сухим рейсом. – Граевский закурил, жадно затянулся и, волнуясь, выщелкнул окурок в сонную волну. – Давай рванем пешедралом в Румынию. Я там воевал, места хорошие, народ добрый. Пойми же ты, нельзя оставаться, товарищи житья не дадут.
Брать с собой за кордон рыжую Ксюху ему совсем не хотелось, баба и баба. Со своей-то посудиной да в Тулу…
– Знаешь, Никита, издавна вот такой обычай повелся. Как отслужат казаки срока и начнут вертаться эшелонами по домам, то под Воронежем, там, где первый раз надо переехать Дон, машинист, какой ведет поезд, дает тихий ход, самый что ни на есть тихий. Только поезд выберется на мост, что тут начинается! Казаки аж бесются, кричат: «Дон! Дон наш! Тихий Дон! Отец, кормилец наш! Ура!» и в окны кидают прямо с моста сквозь железный переплет фуражки, шинеля, наволоки, мелочь разную. Дарят Дону Ивановичу. Бывалочи, глянешь, а по воде фуражки как лебедя али цветки плывут. Я и сам кидал…
Акимов тяжело глотнул, дернул горлом, сморгнув нежданную слезу, отдал Граевскому флягу.
– Иной раз блазнится мне, дружочек, кубыть наяву, – степь, шлях под копытами коня, Батыев путь[1] в чернотном небе, чую горечь полынка, запах пыли… Дедовская землица, все сродственники мои тут лежат. Бог даст, ишшо возвернемся, наведем красным решку. Нет, Никита, не трави душу, не поеду. Благодарствую за заботу.
На том и расстались, не выказывая чувств, со сдержанностью мудрых. Добили фляжку, крепко обнялись и пошли себе в разные стороны, будто не понимали, что жизнь разводит навсегда. Что зря изводиться, все одно уже ничего не изменишь.
«Эх, Степа, Степа, пропадешь ты со своим идеализмом. – С тяжелым сердцем Граевский закурил, не выдержав, остановился и глянул вслед Акимову. – Схарчат тебя товарищи, конкурент им ни к чему».
Казак шагал не торопясь, покачивая плечами, в его уверенной походке угадывалась внутренняя сила, готовая в любой момент стремительно вырваться наружу. Он не обернулся.
«Вот так и уходят друзья». Граевский бросил папиросу и, опустошенный, без мыслей, побрел к Герцогской лестнице. На сердце у него скреблись, точили когти с дюжину черных котов. Впрочем, кто их считал…
На набережной все было как всегда. Прогуливались генералы не у дел, не к месту умничали, степенно упиваясь чувством собственной значительности, вальяжно фланировали дамы, щурясь, отворачивали лица от солнца, сердито надували губы, трепещущие души их терзались от фатальной неизбежности веснушек.
Прошел, нестройно топая, отряд зуавов, пыхтящий грузовик протащил огромную грохочущую пушку. На углу золотушный газетчик оглушительно кричал: «Жуткий бой у станции Раздельная! Колоссальные потери большевиков! Генерал д'Ансельм готов выполнить свой долг!»
Казалось, ничего не изменилось – франк у Фанкони по-прежнему стоил восемь с половиной карбованцев, на внешнем рейде все так же дымили корабли, однако чувство опасности подсказывало Граевскому, что грядут большие перемены. Из ближайшего магазинчика он позвонил на службу Ухтомскому:
– Привет, господин полковник! Обо мне не забыл?
В трубку было слышно, как кто-то с циничным равнодушием приговаривал: «Скажешь, мразь, скажешь», и следом раздавались удары по мягкому, будто выбивали ковер. Граф был сух, сосредоточен и немногословен.
– Не волнуйся, моя дорогая. Жди меня ночью.
– Ага. – Граевский повесил трубку и, прежде чем уйти, поманил пальцем хозяина, низенького, плешивого караима: – Услуга за услугу, любезный. Я бы на вашем месте аннулировал торговлю. Завтра может быть поздно.
– Ах, ты Боже мой, Боже мой. – Хозяин несколько театрально закрыл лицо ладонями, качнулся пару раз, словно в синагоге, и, тут же прекратив изображать вселенскую скорбь, закричал с потрясающей экспрессией: – Мойша! Шмуль! И ты, Роза! Пакуйте вещи, завтра отбываем!
В картавом голосе его не было ни тени удивления. Слухи о скором падении Одессы ходили уже давно, теперь же они стали подтверждаться конкретными жизненными реалиями. От наметанного взгляда Граевского не укрылись ни лихорадочная суета на Екатерининской площади у здания контрразведки, ни брошенное второпях военное имущество, ни расклеенные на видном месте и до сих пор не содранные листки с кривыми буквами: «Всем! Всем! Всем! Последнее убежище спекулянтов и белогвардейской сволочи должно пасть!»
Дальше больше – на Привозе царила скука. Рыбный ресторанчик «Скумбрия» c «обедами, как у мамы» был закрыт, ресторатор и лакеи молча выносили мебель, через черный ход грузили на телегу. Грустное зрелище.
Граевский едко усмехнулся и начал действовать с четкостью и решительностью человека, хорошо знакомого с постреволюционной жизнью, – выбрал чемодан попроще, туго набил его консервами и водкой и на извозчике отправился в гостиницу обедать. Наелся как удав, проверил оба маузера и после ванны завалился спать – тупо, без страстей и сновидений, до позднего ужина. Потом он снова плотно ел, неспешно собирался, пил черный кофе под иллюстрированную муть – все тянул и тянул время, но граф упорно не шел, за окнами безмолвствовала ночь.
«Ну, к чертям собачьим!» Граевскому уже захотелось плюнуть на все и уйти спать, как на улице резко взвизгнули тормоза, и спустя минуту заявился Ухтомский.
– Не спишь?
Выглядел он воинственно и браво – светло-серая офицерская шинель, перекрещенная ремнями портупеи, защитный полевой картуз, английская револьверная кобура, однако держался как-то подавленно, без обычной веселости и фанфаронских штучек.
– Одевайся, Никита. – Он глянул на немудреный скарб Граевского, одобрительно кивнул, плюхнувшись на стул, развернул было журнал, тут же отшвырнул с проклятьем, принялся закуривать дрожащими пальцами. – Хреново дело. Приказ об эвакуации уже отдан, в течение сорока восьми часов. Ну не скоты ли союзники! Завтра здесь будет вавилонское столпотворение. А впрочем, – с кривой усмешечкой он вытащил часы, нажал на репетир, – верно, уже началось. Все, финита ля комедь. Поехали, пока еще выпускают из зала.
В салоне «паккарда» было тесно. Кроме ротмистра Качалова в машине сидели двое прапорщиков невыразимо зверской наружности, до потолка все было завалено чемоданами, кофрами, какими-то раздутыми баулами, корзинами с вещами.
– Залезай, Никита, в тесноте, да не в обиде.
Подождав, пока Граевский втиснется, граф с усилием закрыл за ним дверцу, разместился спереди на командирском месте и негромко буркнул Качалову:
– Давай, Вася, жми.
Голос у него был бесцветный, мятый, как у человека, у которого все хорошее уже в прошлом. Взвизгнула коробка скоростей, «паккард» оглушительно рявкнул и, изрыгнув сизое облако, с трудом тронулся с места. Однако, благо путь лежал под гору, вскоре разбежался, набрал полный ход, и к морю долетели быстро, словно на крыльях.
В порту, несмотря на ночное время, царила суета. Низко ревя сиренами, к причалам подходили пароходы, швартовались в спешке под лающие звуки команд. В резких лучах прожекторов мельтешили люди, машины, повозки, пыхтели паровозы, впряженные в составы, оглушительно переругивались басом.
Скрипели тросы, матерились тальманы, с рокотом ходили по рельсам козловые краны. А сверху из, казалось бы, спящего города сбегали к морю людские ручейки, собирались в полноводный поток, бурно растекающийся по территории порта, – у скверных вестей резвые ноги.
– Каков бардак, – Ухтомский закурил, снял фуражку, нервно почесал седую, стриженную так, чтоб не светилась плешь, шевелюру, – а ведь эвакуацию еще не объявляли. Представляю, что будет завтра.
Не отрываясь, он смотрел, как мимо тянутся стояночные фонари судов, – автомобиль чуть двигался вдоль причальной стенки охваченного суматохой пирса. Наконец он остановился у мостков, перекинутых на посудину «Меркурий», большой пассажирский транспорт, двухтрубный, ржавый, с высокими обшарпанными бортами. Здесь был относительный порядок, сходни охранялись офицерским караулом под командованием тощего угловатого штабс-ротмистра с бледным невыразительным лицом.
– Смирно! – Он выбросил недокуренную папироску, бойко подскочил к машине и, рывком распахнув дверцу, вытянулся, приложив ладонь к козырьку щегольской фуражки: – Доброй ночи, господин полковник! Смею доложить, все ваши приказания выполнены.
В облике его было что-то жалкое, холуйское, вызывающее досаду и отвращение.
– Ладно тебе, ладно. – Ухтомский отмахнулся от него, как от назойливой мухи, коротко скомандовал: – А ну, ребята, взяли.
Звероподобные прапорщики вылезли из машины, нагрузились багажом и в два захода затащили все корзины, чемоданы, кофры и баулы в ржавое пароходное нутро. Граевский свои вещички занес самостоятельно – куда-то на дно, в указанную графом каюту. Апартаменты были явно не люкс. Вода плескалась возле самого иллюминатора, треснувшего и плотно не задраивающегося, койки стояли квадратом вдоль грязных стен. Воздух был тяжел, отдавал углем и жженой гуттаперчей, не иначе машина находилась где-то рядом. Жаль, что зима уже прошла…
– В тепле поедем, пар костей не ломит. – Граф хмуро огляделся, не снимая шинели, вытянулся на матрасе. – Первый и второй классы, мон шер, заняты спекулянтами и прочей сволочью, а для нас ничего кроме трюма не нашлось. Вот так-с. Кстати, что это Качалов не идет? Требуется срочно выпить и закусить, когда еще отчалим-то. Долгая песня.
Ротмистр Качалов между тем все еще сидел в машине. Задумчиво курил, гладил руль нервными, как у пианиста, пальцами, что-то приговаривал страшными, кривящимися губами. Наконец он вздохнул, вылез и, тихо прикрыв дверь, ласково, как бы прощаясь, похлопал по горячему капоту:
– Сослужила, матушка, службу, теперь вот расстаемся. Навсегда…
Из его горла вдруг вырвался невнятный клокочущий звук, бледное лицо затряслось, исказилось судорогой, отчего один глаз превратился в узкую слепую прорезь на кошмарной алебастровой маске.
– Всех в расход, всех!
Мгновение ротмистр боролся с собой, выкрикивая что-то невнятно и страшно, затем выхватил наган и молча, со свирепой силой ударил рукоятью по стеклу.
– Всех вырежем, всех! Коммунистов, социалистов, жидов, янычаров!
С хрустальным звоном брызнули осколки, отшатнулись, зашушукались в толпе, а Качалов, перехватив наган за дуло и не обращая внимания на порезанные пальцы, принялся крушить все подряд – окна, зеркала, фары, хромированную облицовку дверей. Затем он слизнул кровь с запястья, бешено оскалился и открыл стрельбу по скатам, дергая спуск, пока курок не щелкнул сухо и бесполезно.
Тогда ротмистр застыл, словно манекен в витрине, и, как бы просыпаясь, принялся тереть глаза, взгляд его, становясь осмысленным, задержался на дымящемся нагане, выразил недоумение и неожиданно упал на изуродованный «паккард». Многострадальная машина оседала на диски, воздух со змеиным шипением выходил из простреленных шин.
– О Господи! О Боже ты мой!
Сразу же отвернувшись, Качалов вдруг зарыдал, как-то сухо, по-собачьи, затрясся большим, крепко скроенным телом. Потом отбросил револьвер в воду и, сгорбившись, не замечая пакостной рожи штабс-ротмистра, побрел по сходням на борт «Меркурия». Его ждали водочка и закуска, а также приятное, многократно проверенное общество Граевского и графа.
Напились быстро и молча, до умопомрачения. В стельку.
Когда Граевский проснулся, в круглый зев иллюминатора били красные лучи заходящего солнца. Отчаянно зевая, он взглянул на часы, затем на безмятежно спящих собутыльников, поднялся и подошел к столу. Объедки, порожние бутылки, гудящая вечерним звоном голова. Все, что нужно для паршивого, выворачивающего душу наизнанку настроения.
«Еще не отчалили, а уже блевать тянет». Граевский проглотил заветрившийся ломтик балыка, через силу, морщась, как от горького, хотел было выпить водочки, но передумал, решил глотнуть живительного морского бриза. Долго разбирался в лабиринте лестниц, полутемных переходов, коридоров, заставленных вещами, а когда выбрался на воздух, обомлел – на пристани тесно, плечом к плечу, зверели в очереди тысячи уезжающих.
Кряхтя, офицеры-грузчики тащили по мосткам сундуки, кофры, багажные корзины, в толпе яростно кричали, витиевато матерились, кое-где вспыхивали драки. Испуганно ржали лошади, сталкивались повозки, вываливалось под ноги добро из некстати раскрывшихся чемоданов.
В гуще народа на прощание бегало по карманам ворье, тихо радовалось, вилось ужами, щерило фиксатые рты – вот это фарт, вот это поперло! В сторонке за сильным оцеплением грузились на суда союзнички – в спешке, в полнейшем беспорядке, крикливой, охваченной истерикой толпой. Что-то не очень они походили теперь на триумфаторов.
На открытой палубе «Меркурия» тоже было неспокойно. Переживали, облегченно вздыхая, счастливцы, попавшие на борт, кто-то вслух убивался о кофре с шубами, сброшенном второпях со сходен, а на баке, у якорной лебедки, лениво повизгивала пила, и сердитый голос бубнил на лионском диалекте, сочетая неизменное merde с прочими французскими словечками. Это судовой плотник возводил временный нужник, коему предстояло дополнить палубную архитектуру «Меркурия».
– Ну и натюрмортец! – На свет Божий появился граф Ухтомский, насупленный, зеленый, со скорбно повисшими усами, похоронно вызванивая шпорами, подошел к фальшборту, закурил, тягуче сплюнул во взбаламученную воду. – С души воротит. Пойдем, Никита, плеснем на старые дрожжи.
Они вернулись в каюту, но Граевский пить не стал, плюхнулся, не снимая башмаков, на койку. Лежал, уставясь в потолок, курил, думал о своем, пока не провалился в муторную полудрему. То ли сон, то ли явь, то ли бред, не разберешь.
Разбудила его на следующий день беспорядочная пальба – стреляли, судя по звуку, из французских винтовок.
– Никак товарищи на подходе? – Ухтомский тоже проснулся, принялся трясти безмятежно всхрапывающего Качалова. – Вася, подъем, будем держать круговую оборону. Пусть видят, сволочи, как умирают русские офицеры.
С похмелья его неудержимо тянуло на подвиги. Пошатываясь, тяжело дыша, выскочили на палубу, остановились, остервенело оглядываясь – какого черта! Это были не красные, пожаловали союзники. Молотя прикладами, стреляя в воздух, французские солдаты прорывались к сходням, с бешенством, рожденным паникой, брали на абордаж транспортные суда. Носители европейской культуры, наследники благородных Меровингов…
Вот батальон их взбежал на борт «Кавказа», ржавой однотрубной посудины, шлепнулись в воду обрубленные швартовы, и, прощально загудев, пароход стал медленно отходить от пирса. Полупустой.
– Ну, не свинство ли, а? – Какой-то войсковой старшина[1] в бешенстве потряс кулаком, не постеснявшись дам, выразился по матери, басом. – Обосрались жидко, драпают лягушатники. Начхать на союзный долг. А мы им в шестнадцатом году – кавалерийский рейд, полполка положили. Едрить твою в душу, в господа бога мать, в кровину!
– Возмутительно, бегут как зайцы, – подхватил из вежливости интеллигент в картузе, нервно пожевал папироску, выпустил дым из волосатых ноздрей. – Неудивительно, такая стрельба. Красные, верно, уже в городе. Вы, пардон, не знаете, когда же будем отправляться?
Однако красные, что были в городе, пока что сидели тихо. Великий шум производило воинство Молдаванки, которое Мишка Япончик вывел на одесские улицы. Воры, налетчики, портовая рвань кинулись захватывать банки, грабить магазины и лавки, ставить на уши квартиры и лабазы. Белых офицеров кончали, греков разоружали, чистили недорезанных буржуев.
Французов из осторожности не трогали, оказывали почет и уважение – катитесь, френги[1], колбаской по Малой Спасской. Сам же Япончик разъезжал на авто в окружении пристяжи[2], скалил фиксы с видом завоевателя и с ленцой, через губу, отдавал короткие приказы:
– Этого к архангелам!
– Этого в расход!
– Налево!
– Налево!
– Налево!
Кто бы мог подумать, что через пару месяцев с ним случится удивительная метаморфоза и король бандитов превратится в товарища Винницкого, командира славного 54-го Советского полка, в который переименуют «армию Молдованки». В кожаной тужурочке, в сапогах со скрипом, в лихо заломленной набок фуражечке с красной звездой.
Правда, недолго будет он громить белую сволочь во имя торжества революции и лавров полководца не стяжает – снова примется за старое и будет предательски убит чекистами. Ша, нечего отбивать хлеба!
А пока раскатывал Япончик на шикарном «роллс-ройсе», мнил себя пупом вселенной и снисходительно поглядывал на одесский совдеп, под шумок вылезший из катакомб, чтобы объявить себя законной властью. Нехай потешатся, кореша как-никак. А це шо за шухер? Шмаляют як умалишенные… Это с боем выходил из города отряд белогвардейцев под командованием Гришина-Алмазова, путь его лежал за кордон, в соседнюю Румынию. Туда же отступала бригада Тимановского вместе с частями Тридцатой французской дивизии и колоннами беженцев. Обещанное денежное довольствие в валюте союзники русским так и не заплатили.
Погрузка на «Меркурий» закончилась только к вечеру. На палубе выросли огромные, накрытые брезентом кучи багажа, а сам пароход превратился в плавучий табор, шумный, взбудораженный, провонявший потом и табаком.
Беженцы размещались повсюду – в трюмах, в коридорах, в кают-компании, в каютах, под мачтами, на юте и на баке. На мостик взошел краснолицый, огромного роста француз капитан, «Меркурий» хрипло загудел, завыл пронзительно и с тремя тысячами душ на борту начал медленно выходить из акватории порта.
– Ну вот, Никита, и все, – сказал Ухтомский, стоя у борта, голос его был будничным, полным деланного равнодушия, – просрали Россию.
И он вдруг заплакал, тихо, не вытирая слез, словно доверчивый, обиженный из-за своей наивности ребенок. Потом сорвал с плеч погоны, швырнул их за леер и, пошатываясь, побрел вниз, в каюту. Со стороны он производил впечатление человека сильно выпившего.
Граевский промолчал. Катая желваки на скулах, он смотрел, как золотые, словно сентябрьские листья, полоски медленно плывут назад, к российскому берегу. Время для него остановилось и потекло вспять, как сказал бы один чудак философ – обратилось наничь.
Глава девятая
Спустя пять месяцев
I
Нет больше радости, нет лучших музык,
Как хруст ломаемых жизней и костей,
Вот от чего, когда томятся наши взоры
И начинает буйно страсть в груди вскипать,
Черкнуть мне хочется на вашем приговоре
Одно бестрепетное: «К стенке! Расстрелять!»
Тов. Эйдук. Поэтический сборник «Улыбка Чека». Избранное
Летом девятнадцатого года власть большевиков на Украине начала трещать по всем швам, деникинцы успешно наступали сразу на нескольких направлениях.
В конце июля от Доброармии отделилась группа генерала Юзефовича из Второго армейского и Пятого кавалерийского корпусов и начала стремительно выдвигаться на Киев. Бригада генерала Шеллинга, выступившая с Акманайских позиций в составе четырех тысяч бойцов, вышла из Крыма и в начале августа заняла Николаев и Херсон. Петлюра, проявляя неожиданную прыть, с боем взял Жмеринку и перерезал железнодорожный путь между Киевом и Одессой. Да еще поляки, наступая на Минск, беспардонно отхватили северо-запад Украины – Сарны, Ровно, Новоград-Волынский. Совсем плохо дело!
Зато на внутреннем всеукраинском фронте царил полнейший большевистский порядок: террор, повальные реквизиции, массовые расстрелы, бюрократический угар совдеповской администрации. Особенно образцово было в Киеве: здесь находились ВУЧК[1], губернское ЧК, Лукьяновская тюрьма, концентрационный лагерь и масса прочих репрессивных учреждений. Они действовали параллельно, независимо друг от друга, образуя сплошной, не останавливающийся ни на минуту конвейер смерти.
Для обслуживания его в Киев собрались каты всех мастей. ВУЧК возглавлял знаменитый Лацис, палач-теоретик, автор нашумевшей книги «Два года на внутреннем фронте». Вместе с ним трудился его племянник, палач-грабитель Парапутц, наживавшийся на имуществе замученных им людей. Был также фанатик-садист Иоффе, прозванный Апостолом Смерти и получавший наслаждение от самого процесса убийства. Идейный палач Асмолов, истреблявший людей с уверенностью в том, что строит коммунистическое завтра. И палач-романтик Михайлов, изящный и франтоватый эстет. Он любил летними ночами выпускать в сад голых женщин и охотился за ними с наганом. Успешно работал палач-новатор Угаров, сутками экспериментировавший в концлагере, отшлифовывая до блеска систему уничтожения людей.
А дела на фронтах шли все хуже и хуже. От Полтавы и Белой Церкви к Киеву стремились деникинцы, от Житомира – петлюровцы. Пятый кавкорпус Юзефовича взял Конотоп и Бахмач, а в лоб, вспарывая оборону красных, двигались полки генерала Бредова. Конец советской власти на Украине приближался с беспощадной очевидностью.
Однако большевики если уходили откуда-нибудь, то не иначе как оглушительно хлопнув дверью. Для стабилизации обстановки в целом и борьбы с упадническими настроениями Москва направила на Украину зампреда ВЧК Петерса, наделив его чрезвычайными полномочиями и назначив комендантом Киевского укрепрайона. Поезд с прославленным чекистом должен был прибыть на рассвете…








