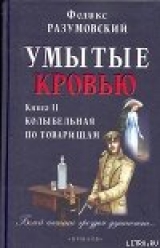
Текст книги "Умытые кровью. Книга II. Колыбельная по товарищам"
Автор книги: Феликс Разумовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
II
Московский поезд прибыл с опозданием, в десятом часу. Состав был небольшой, куцый, тем не менее смотрелся грозно и внушительно – два паровоза, четыре пульмана, броневагон с шестидюймовыми жерлами орудий, в хвосте платформы с рельсами и шпалами. На открытой площадке чоновец с винтовкой сторожил личную машину Петерса, королевский «роллс-ройс».
Рявкнули паровозы, заскрипели тормоза, встретились буферами вагоны, поезд встал. Первым на перрон соскочил комендант, большой, грузный человек, затянутый, несмотря на жару, в черную кожу. Придерживая кобуру маузера, он повел взглядом в сторону встречающих, сразу угадал начальника охраны и резким, повелительным тоном подозвал его. Затем начали сходить бойцы особого отряда ВЧК, рослые, суровые, все без исключения в офицерских сапогах.
Действуя сноровисто и четко, они выставили дополнительное оцепление, молча застыли вдоль перрона, взяв наизготовку новенькие винтовки. И вот на площадке классного вагона появился человек с внешностью провинциального учителя, простенькая парусиновая гимнастерка сидела на нем некрасиво, мешком. Он полуприкрыл веками блеск воспаленных глаз, взялся за поручень площадки и осторожно, глядя себе под ноги, медленно спустился на перрон.
Сейчас же, широко улыбаясь, к нему бросился Лацис, дружески обнял, крепко прижался русой бородой, что-то с чувством говоря по-латышски, земляки как-никак, почти что братья. В самой глубине его косящих глаз мерцала затаенная злоба – вечно этот Петерс впереди, чертов выскочка. Оркестр медно и раскатисто грянул «Интернационал», бойцы из оцепления вытянулись, двинули штыками, взяли на караул.
Пока играла музыка, Петерс едва заметно улыбался, цепко и оценивающе изучал лица встречающих – в чем в чем, а в людях он разбирался хорошо. Киевский вокзал мрачно пялился окнами бараков, с полным равнодушием шелестел бумажным сором – эко дело, еще один большевичок пожаловал. Видел и банды Муравьева, и сечевых стрельцов Петлюры, и гетманских серожупанников, и немцев в железных шлемах, и белых, и красных, и зеленых. Власть преходяща, а подсолнечная лузга, треск раздавливаемых вшей и нищие, испражняющиеся под перрон, вечны.
Последние аккорды наконец утонули в летнем мареве, бойцы подобрели, ослабили стойку, торжественная часть закончилась. На платформу подали машины, началась погрузочная суета – свита, штаб, обслуга, вещи. Помимо многочисленного окружения Петерс привез с собой сына, вихрастого мальчугана лет семи-восьми, одетого совершенным матросом – в клеша, бушлатик и бескозырку с лентами, на которых блестело золотом: «Полундра». Паренек забавно улыбался, весело щурил глаз и все нацеливал на гувернантку игрушечный деревянный маузер:
– Пах, пах! К стенке! Сдохни, контра!
Пистолетик был искусно вырезан из сосновой доски, облагорожен матовым черным лаком и выглядел совсем как настоящий.
– Ну что, обедать? – Дав последние инструкции по погрузке, Лацис подошел к Петерсу, вытер пот с большого выпуклого лба. – Справятся без нас. Как насчет украинского борща, с салом и пампушками? Гуся с черносливом? Вареников в сметане? Конечно, не рижский бутерброд с салакой…
– И не картофельные цеппелины с тмином. – Петерс изобразил приличествующую латышу грусть, коротко улыбнувшись, качнул головой: – Обедать будем позже, вначале работа. Необходимо оглядеться.
Совсем недавно он плотно позавтракал копченой курой и бутербродами с сыром под кофе мокко.
Хозяин барин – шоферы закрутили ручки стартеров, свита расселась по местам, для начала поехали в Липки, роскошный, утопающий в зелени киевский квартал. Позади куцей рысью шел кавотряд ВУЧК, мягко катились подрессоренные тачанки – береженого и Бог бережет. Солнце пекло немилосердно, пели в унисон двигатели, пыль поднималась столбом. Редкие прохожие, завидев кавалькаду, замедляли шаг, горбясь, вжимались в стены, отворачивались, прятали глаза.
Зато из окон сквозь щели занавесок смотрели тяжело, ненавидяще, с клокочущей бессильной злобой, и если бы взгляд мог убить, то недалеко уехали бы чекисты в тот летний день. Однако ничего – покачивались себе в седлах и на сиденьях, поглядывали по сторонам, набирались впечатлений. Нагуливали аппетит.
В головной машине с Петерсом и Лацисом ехали уполномоченная ВЧК товарищ Мазель-Мазаева и представитель особотдела ВЧК Павел Андреевич Зотов. Было потно и тягостно, общий разговор не клеился, воздух, словно электричеством при грозе, пропитался дисциплиной и субординацией. Петерс все задавал вопросы Лацису, тот вдумчиво, неторопливо отвечал, Геся, напрягая слух, улыбалась тонко и индифферентно, Зотов, отвернувшись к окну, сдержанно зевал, хмурился, с отвращением поглядывал на встречных киевлян. Ну и рожи, так бы и впечатал со всего размаха винтовочный, со стальной накладкой, приклад. Ничего, подождите…
Вот уже третий день у Павла Андреевича все шло наперекосяк: ни выпить, ни гульнуть – начальство рядом. А впрочем, почему это третий день? Извините! Не с тех ли самых пор, как обрюхатил эту рыжую дуру Варьку? Любовь-морковь, тьфу! Как же, баронских кровей, задница, как у Венеры Милосской. А на деле – пустая сука, даже родить нормально не могла, порвалась вдоль и поперек, пришлось полгода бегать на сторону. Теперь у нее, видите ли, вообще идиосинкразия к половой жизни! Разжирела, сиськи обвисли. И сына назвала Никитой, нет бы с революционным значением, Феликсом.
В общем-то, конечно, наплевать, но при случае можно было бы прогнуться – в вашу честь, дорогой товарищ Дзержинский, цени и помни, вонючка бородатая!
По идее, дать бы Варьке пинка, баб согласных – до Москвы раком не переставить. Да только вот ведь заковыка в чем – Геська в ней души не чает, живут блядно, как мужик с бабой. И эта стерва не против! Крутят, суки, розовый амур, словно в пьесе «Ночки Сафо». И идиосинкразия Варькина им не помеха. Идиосинкразия – это для него, для Зотова!
А поди-ка ты Геську тронь, сразу руки оборвут. Сука еще та, прет кверху, как дерьмо на дрожжах. Лично знакома с Троцким, наверняка на ощупь. Феликс к ней явно неравнодушен, пихает по служебной линии, только и может, козлина, что по служебной.
Эх, перевестись бы в Иностранный отдел да вырваться бы в Швейцарию. Варькин-то муженек, как поджаривать его стали, сразу разговорился, все назвал, и шифры, и пароли, и девизы, очень уж помирать не хотел. Только кто его спрашивал. Дал бы бог махнуть за кордон, а там ищи-свищи чекиста Зотова, один хрен здесь жизни не будет, не дадут.
Петерс между тем все расспрашивал о ситуации на фронте, интересовался численностью и расположением войск. А сам нет-нет да и поглядывал на Гесю, улыбался в бороду, дружелюбно и хитро – давай, запоминай, девочка, только смотри ничего не перепутай. Не маленький, понимал, конечно, что жидовочка эта приставлена к нему в качестве агента. Ишь, сидит как пряменько, глазами стрижет невинно, а по виду проблядь, пробы ставить негде. Эх, Феликс, Феликс, вечно ты не доверяешь никому. И… правильно делаешь. Предают только свои.
Пока Зотов хмурился, наливался злобой, а Лацис с Петерсом играли в вопросы и ответы, Геся напрягала слух, чуть заметно улыбалась и катала во рту пуговку ландрина, – курить, впрочем, как и баловаться с кокаином, она уже полгода как бросила. Ни к чему, себе дороже.
Шило, пудра, кикер, антрацит – вся эта муть придумана, чтобы отмахнуться от жизни, а она пошла теперь хмельней вина, слаще марафета будоражит кровь упоительное ощущение власти. Божественное jus vitae ac necis[1] и Галина Яковлевна Мазаева. Каково? Тут и без «белой феи»[2] пойдет кругом голова. Ну, может быть, чуть-чуть, иногда, перед тем как прижать к себе Варвару. Она, слава богу, наконец-то поняла, что может дать женщине женщина.
Странная неодолимая сила тянула Гесю к этой рыжей красавице, с самого первого вечера, когда они встретились на футуристической выставке. Что-то в ее внешности было роковое, сводящее с ума, притягивающее к себе, словно запретный плод. И вместе с тем близкое и родное.
Поневоле задумаешься тут о превратностях метампсихоза, поверишь в теософский бред о карме, воздаянии по делам и незримых нитях, тесно связывающих родственные души. Связи связями, но когда родился Никитка, в Гесе вдруг разверзлась бездна материнских чувств. Без нее недоношенный мальчик едва ли выжил бы, тем более что всем он был абсолютно не нужен. Варвара после родов недомогала, нервничала, ушла в депрессию, Зотову было и вовсе наплевать, и все заботы о ребенке легли на плечи Геси, этакой приходящей няни в кожанке с наганом.
Правда, ходить было недалеко, соседи как-никак, двадцать две ступеньки вниз по мраморной щербатой лестнице. Пеленки, распашонки, кормление, мытье. Счастливая улыбка на лице Никитки, ночная, в знак благодарности, уступчивость Варвары, глухая, под маской безразличия, ненависть Зотова. Так вот они и жили, в маленьком особняке в переулке у Арбата. То ли любовный треугольник с биссектрисой, то ли особый симбиоз, не понять.
Петерс бросил задавать вопросы и, никому не предлагая, закурил, выпустил кверху дым с интеллигентным изяществом:
– Красиво тут у вас. Природа торжествует.
Улица Садовая оправдывала свое название – сквозь вычурную вязь оград изливалось море ликующей зелени, из изумрудных волн выглядывали поплавки особняков, щупальца винограда цепко держали их за балконы и эркеры.
– Да-да, торжествует. – Лацис равнодушно усмехнулся, процарапал взглядом по зарослям акаций, тоже закурил. – Уже рядом, сейчас приедем. Посмотрим на торжество революции.
Очень хорошо сказал, негромко, без намека на пафос, так что даже Петерс не почувствовал фальши. Опыт как-никак – два года на внутреннем фронте. Машина в это время притормозила, свернув к воротам, подперла бампером решетчатые створки. Водитель властно загудел клаксоном, охранник, встрепенувшись, бросился открывать, в мутных глазах его промелькнула злость – явились не запылились, покурить не дали. Эко бережется начальство, без конноотрядовцев ни ногой. Значится, белые близко. Эх, ма…
Машины, подымая пыль, въехали за ограду и остановились у подъезда особняка. Охрана в боевом порядке осталась у ворот, кавалеристы, не покидая седел, оглядывались по сторонам, молчали, крепили бдительность – контрреволюция не дремлет, внутренний враг не спит.
– Значит, это губернская? – Петерс вылез из машины, разминая ноги, сделал широкий шаг, по-кроличьи покрутил носом и с усмешечкой повернулся к Лацису: – Да, смотрю, работа у вас спорится.
В воздухе ощущалась вонь неопрятного разделочного цеха.
– Катастрофическая нехватка транспорта. Десять грузовиков на шестнадцать «чрезвычаек»! Не успеваем вывозить. – Лацис вежливо пожал плечами, указав на клумбу, саркастически скривился: – Как говорится, прах к праху. Земля здесь, знаете ли, мягкая.
В негромком его голосе было столько иронии, тонкого юмора и интеллигентного цинизма, что Петерс не выдержал, отбросив чопорность, расхохотался:
– И будет она им пухом.
Ладно, посмеялись, вытерли слезы на глазах, пошли осматривать хозяйство. Председателя «чрезвычайки» Блувштейна с заместителем не оказалось, они с утра работали на выезде, зато все остальное начальство было на местах.
– Секретарь комиссии Шуб, товарищ Петерс!
– Заведующий юротделом Цвибак!
– Заведующий оперотделом Лифшиц!
– Заведующий тюремным подотделом Кац!
– Заведующий хозяйством Коган!
– Командир Особого отряда при ЧК Финкельштейн!
– Заведующий спекулятивным подотделом Гринштейн!
– Секретарь юротдела Рубинштейн!
– Член коллегии юротдела Мантейфель![1]
Высоких гостей сопровождал комендант ЧК товарищ Михайлов, он же Фаерман, ухватками, медоточивым голосом, набриолиненным пробором напоминавший приказчика в галантерейной лавке. Зрачки его были неестественно расширены, как у человека, успевшего хорошо нюхнуть кокаину.
Прошлись по этажам особняка, оценили кресло на манер гинекологического, к которому привязывали в голом виде обвиняемых, заглянули в «мокрые» подвалы с заключенными и отправились во двор инспектировать «бойню». Она располагалась в бывшем гараже, помещении просторном, но мало подходящем для расстрельных нужд. Пол, лишенный стоков, на пару дюймов был залит запекшейся кровью, которая смешалась в густую массу с мозгом, костями черепа и клочьями волос. Мириады откормленных зеленых мух тучами носились в воздухе, покрывали живым ковром внутреннюю поверхность гаража.
– Ну и амбре. – Осторожно ступая, Петерс вошел внутрь, осмотрелся, покачал головой: – Развели антисанитарию – ни стока, ни смыва. Мухи эти дизентерийные. Как вы только работаете здесь…
Он был от рождения слабоват желудком и больше всего на свете боялся летнего поноса.
– Работаем в поте лица своего, товарищ Петерс. – Михайлов-Фаерман цинично хмыкнул, забывшись, провел мизинцем с изумрудом по напомаженным усам. – Взглянуть не желаете? А то начнем пораньше.
Его слезящиеся, чуть навыкате, глаза светились трусостью, жестокостью и нахальством, держался он самоуверенно и спокойно, как и подобает опытному, проверенному в деле палачу.
– А то мы не видели. – Петерс усмехнулся, посмотрел на Лациса, перевел взгляд на свиту: – А, товарищи?
Он обожал водить подчиненных в расстрельные подвалы, на «бойни», в камеры пыток – оценивал мимику и реакцию, фиксировал нюансы поведения, наблюдал за идеомоторикой и речью. На фоне крови и нечистот, вблизи от смерти и муки человек виден сразу, а слюнтяи, хлюпики, эстетствующие белоручки диктатуре пролетариата ни к чему. В накрахмаленных манжетах не свернешь шею мировой буржуазии.
Так что чекисты из окружения Петерса были людьми привычными. Невозмутимо поглядывали они и на полчища мух, и на запекшуюся кровь, и на стены, выщербленные пулями, внимали словесам начальства, кивали вежливо, почтительно и согласно. Кое-кто в душе соболезновал киевским коллегам, правда, про себя, не подавая виду, – в самом деле, работа адова, никаких условий. То ли дело просторные, специально приспособленные лубянские подвалы – с асфальтовыми полами, глубокими желобами и наклонными стоками. Впрочем, на то она и Москва, столица.
– Ладно, товарищи, время не ждет. – Заметив минимум настораживающего в поведении подчиненных, Петерс усмехнулся, удовлетворенно закурил и не спеша, чтобы не поскользнуться, двинулся на выход. Уже на прощание у машины он пожал Фаерману руку и, как бы говоря, что все в порядке, улыбнулся коротко, одними губами.
– А мухам, товарищ Михайлов, вы все-таки устройте последний и решительный бой, раздобудьте хлорки, что ли.
Заурчали двигатели, свита расселась по местам, конники бросили цигарки, взялись за поводья. Кортеж направился на улицу Елисаветинскую, в Уездную чрезвычайную комиссию. Она ничем не отличалась от губернской, разве что на «бойне» внимание гостей привлекла колода, на которой головы приговоренных разбивали ломом. Рядом была выкопана яма с крышкой, куда падал мозг при размозжении черепа, и ее удобное устройство свидетельствовало об изобретательности и вдумчивом подходе к делу. Во всем же остальном никакой изюминки и все те же полчища зеленых, безобразно жужжащих мух.
– Завтра же доставить две, нет, три подводы с хлорной известью. Раздать личному составу мухобойки. – Петерс со значением посмотрел на Лациса, потом на часы, затем снова на заместителя. – Я никому не позволю засиживать идею дизентерийными мухами. Ну, что там у нас по плану?
Честно говоря, ему уже надоело мотаться прямо с поезда по такой жаре. Хотелось есть, только на черта сдался этот хохляцкий борщ, жирный, горячий, с чесноком. Хорошо бы холодного кефирного супа, как готовят его в рижском кабачке «Лайма». На худой конец сойдет и русская окрошка, хотя, по большому счету, варварское хлебово, мешанина для свиней.
С Янисом надо поиграть в догонялки – вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет, пиф, паф, ой-ей-ей, умирает зайчик мой. А то изведет.
– Китайская «чрезвычайка». – Лацис чирканул что-то в блокнотике, с которым не расставался никогда, подмигнул с заговорщицким видом: – Азиатская экзотика, нечто особенное.
– Особенное? – В свите скептически хмыкнули, беззвучно, про себя, вежливо улыбнувшись, выразили интерес. – Да ну?
Что ж такого новенького можно придумать? Ведь, кажется, все уже испробовано, начиная с «измерения черепа»[1] и кончая клизмами из битого стекла. Интересно, интересно.
В китайской «чрезвычайке» высоких гостей встречали с размахом. Во дворе выстроилось в шеренгу все здешнее начальство, узкоглазое, раболепно улыбающееся, числом не менее взвода. Едва кортеж остановился, как самый главный китаец бросился к машине Лациса и, распахнув дверцу, принялся подобострастно кланяться:
– Сдравствуй, мандарина! Зиви долго, генерала!
Если он и притворялся, то по-азиатски тонко, ловко балансируя на грани фарса и искреннего изъявления верноподданических чувств.
«Ну и ну, – Геся вдруг криво усмехнулась и из-под ресниц покосилась на Зотова, – интересно, срисует или нет? А, морщится, значит, вспомнил. Не все еще мозги пропил». В радушном азиате она узнала Чен Ли, своего бывшего сослуживца с Гороховой. Но как же он изменился за год с небольшим! Если раньше был похож на улыбчивого зайца, то теперь больше походил на огромного, отъевшегося хомяка с лоснящимися жирными щеками. В гимнастерочке, перекрещенной ремнями, в галифе с леями, заправленными в сапоги со скрипом, при конвойной шашке, самовзводном нагане и больших наручных часах-браслетке. Цирк зверей дедушки Дурова, красный командир с желтой рожей!
А Чен Ли тем временем все продолжал радоваться – и Лацису, и Петерсу, и усатому водителю в крагах и очках.
– Сдравствуй, полководса! Сдравствуй, сафера!
Увидев Гесю с Зотовым, он восхищенно замер, выкатил вспотевшие глаза и, скаля гниль зубов, начал исходить на приторную медоточивую улыбку.
– Э-э-э, сдравствуй, командира! Э-э-э, сдравствуй, комиссара!
Петерс, настораживаясь, шевельнул бровями, Зотов, глядя в сторону, сдержанно кивнул, Геся с ухмылочкой незаметно подмигнула – здравствуй, здравствуй, хрен мордастый. Значит, не забыл, стервец, узнал, а ведь говорят, что для азиатов все европейцы на одно лицо. Вот тебе и дрессированный хомяк с самовзводным наганом, ишь какой спектакль устроил, балаган – в цирк ходить не надо, в духе Третьего Интернационала. Пламенный прием латышей китайцами на украинской земле в еврейском присутствии. Артист узкоглазый, тот еще Конфуций!
Ах, если бы только Геся знала, что Чен Ли был искренен, как наивная монашка на исповеди. Что нисколько не кривил душой, ну, может быть, чуть-чуть, крайне незначительно, меньше чем на йоту. Потому как всем сердцем прикипел к пролетарской революции, к ответственной своей работе и лично к большому доброму начальнику мандарину Лацису.
А как же не любить Чен Ли власть Советов, если у него теперь есть все, в сладком опиумном сне такого не увидишь. Женщины косяками, да не какие-нибудь там шлюхи, нет, крутобедрые, грудастые, красавицы, страстные и искушенные в любви. Застенчивые, заплаканные девственницы, подобные нераспустившимся цветкам, с телами бархатистыми и нежными, как персик. Надменные аристократки в надушенном белье, теряющие всю свою спесь после десятка шомполов, блондинки, брюнетки, молоденькие и в годах – любая согласится, только помани.
А жратва! А пшеничная адской крепости горилка! Это вам не рис вперемешку с червями, каким кормят в Цзиндэчжэньской тюрьме, и не мутный, словно старческая слеза, любительский самогон тетушки Кхе. Да, раздобрел, попер вширь на украинских харчах, взматерел Чен Ли.
Особо пришлись ему по вкусу борщи, крестьянские супы и рассольники, да не те рассольники, что варят в среднерусской полосе, когда в жиденьком бульоне скучно плещутся огурцы с перловкой, нет, настоящие малороссийские рассольники с почками, курятиной, гусятиной, бараниной, щедро сдобренные смальцем, густо забеленные сметаной, затейливо заправленные перцем, чесноком, укропом и прочими кулинарными вытребеньками. Такие, чтобы ложка стояла и было невозможно оттащить за уши, даже если бы и произрастали они на манер заячьих.
А пампушки, галушки, свиные котлеты, карп в кляре, буженина, вареники с вишней, со сметаной и медом. Да с охлажденным, заправленным корицей медовым взваром! Ох, хорошо жилось Чен Ли, в шелковых подштанниках ходил, чтобы вши не грызли его янг[1], на машине разъезжал, личный граммофон завел, вечерами слушал Шаляпина и Вертинского. Видел бы его дедушка Лин Бяо, которого проклятые империалисты скормили тигру[2]. Так что да здравствует советская власть, и сам бог велел униженно кланяться, подобострастно улыбаться, изображать неописуемую радость и восторг. Не грех и повториться:
– Сдравствуй, мандарина, сдравствуй, генерала, сдравствуй, секиста.
– Здравствуйте, товарищ Ли. – Лацис, улыбаясь, вылез из машины, подал азиату руку. – Да бросьте вы так кланяться, прошли проклятые времена.
Петерс глянул по-начальственному строго, но все же снизошел, протянул узкую, влажную из-за жары ладонь.
– Ну, как дела на внутреннем фронте? Идут?
Собственно, обращался он к Лацису.
В свите вытерли взопревшие затылки, осматриваясь, приветственно кивнули – салют, салют, китайские друзья-однополчане! Сколько же вас…
По-видимому, собиралась гроза. Солнце, побелев, жарило невыносимо, воздух, словно в парной, сделался плотным, раскаленным, тяжелым от влаги. Всем сразу захотелось в тень с выжженного квадрата двора, где никак не переставал кланяться, изображая несказанную радость, взвод улыбающихся китайцев.
Шум, пыль, гвалт, раскосые звероподобные хари. Желтые головные повязки, желтые же шелковые обмотки, желтые прокуренные зубы. Любимый цвет, национальный колорит. Непонятно почему, но и вокруг все тоже отдавало желтизной – и жухлая, вытоптанная трава, и редкая листва на деревьях, и стебли ковылей вдоль чугунной ограды.
Даже особняк, в котором размещалась «чрезвычайка», имел ярко-канареечный, столь любимый в Поднебесной колер. Уж не забыли ли, часом, китайские товарищи, что главный цвет революции красный? Не забыли. В конюшне, где была устроена бойня, красного хватало, всех тонов и оттенков, начиная от алых ручейков свежевыпущенной крови и кончая бурыми натеками. Правда, легионы мух, облепившие пол и стены, еще портили гармонию цвета, но их роковой час уже пробил.
– Кыш, кыш, – Петерс отогнал назойливую тварь, чудом не попавшую ему в рот, инстинктивно сплюнул, вытер губы, разозлившись, повернулся к Лацису: – Подводу хлорки попрошу сюда, завтра же! Черт! Черт! – Он достал часы, снова сплюнул, яростно махнул рукой: – Кыш, кыш! Ну, где там ваш азиатский сюрприз? Давайте смотреть и поедем.
– Момент! – Лацис подозвал Чен Ли, тот коротко кивнул и вежливо, радушно улыбаясь, поманил гостей за собой:
– Посли, позалуста! Будет сюрприса, больсой сюрприса! Сюда, позалуста!
Не уставая оглядываться и улыбаться, Чен Ли привел гостей в каморку, где стояло кресло с железным, в виде короба, сиденьем. Сверху в нем было сделано отверстие, сбоку маленькая дверца с ручкой, снизу, под самым дном, дымилась аккуратная жаровня. Бойкий одноглазый азиат весело подтаскивал уголья из печурки, с ловкостью раздувал их шелковым драным веером. Другой китаец, в роговых очках, старательно водил пером в конторской книге, щурил воспаленные глаза, с важностью сводил дебет с кредитом расстрельной бухгалтерии.
Свет скупо пробивался сквозь узкое оконце, в тяжелом воздухе угадывался сладковатый чад, густой, приторный, навевающий дрему, – как видно, здесь выкурили не одну трубочку опиума.
– Так, так, так. – С видом человека, разгадывающего шараду, Петерс подошел к сооружению, сев на корточки, едко усмехнулся, стукнул пальцами по полому сиденью: – Этому сюрпризу, как говорится, сто лет в обед. Старинное китайское изобретение, еще в эпоху Мин так казнили государственных преступников. В сущности, примитив, поджариваемая крыса ищет выход и вгрызается в человеческое тело, ничего особенного. Еще в восемнадцатом году тамбовские товарищи проделывали нечто подобное, вставляли трубки в задницы буржуям и привязывали рядом с муравейником – эффект примерно одинаковый, а возни куда как меньше. Однако давайте посмотрим, раз уж пришли. Давайте, давайте.
Розовые отсветы падали на его выпуклый, хорошей формы лоб, темные, светящиеся интеллектом глаза казались одухотворенными и мечтательными.
– Сисяса, сисяса.
Чертом из табакерки Чен Ли выскочил из камеры, выкрикнул пронзительно в глубину конюшни и уже через минуту вернулся не один: двое китайцев вели связанную совершенно голую женщину. Это была крупная, хорошо сложенная блондинка бальзаковского возраста, туго скрученные за спиной руки подчеркивали ее большую грудь, похожую на две поникшие молочно-желтые дыни. Их покрывал густой узор укусов, синяков, лиловых точек, какие обычно остаются после папирос, левого соска не было, на его месте чернела рана, формой напоминающая звезду.
Живот, бедра и ягодицы женщины были также в кровоточащей росписи, большое ее тело корчилось от боли, но она шла молча на подгибающихся ногах – глубоко, до самого горла, в рот ей был забит деревянный кляп.
Китайцы взялись за нее с природной деловитостью: усадив пинком, крепко привязали к креслу, одноухий вытащил из клетки крысу и, чему-то громко радуясь, запустил в короб сиденья. В уши врезался протяжный визг, будто заработала циркульная пила, в воздухе повисла вонь паленой шерсти. Все сразу замолчали, дружно, словно по команде, замерли, вытянувшись, затаили дыхание – с интересом слушали, как бьется о железо, борется со смертью живое существо. Внезапно наступила тишина, женщина на кресле дернулась, судорожно ударившись головой о спинку, и из помутившихся ее глаз побежали крупные немые слезы.
– Ай, ай, хараса крыса, – усмехнувшись, Чен Ли подошел к креслу, проверил прочность ремней, – но и бледисса хараса, в теле. Долго зрать будет.
– Почему это блядища? – Петерс недоуменно посмотрел на Лациса, перевел строгий взгляд на китайца, однако сказал как-то мягко, в отеческой манере: – Пора, дорогие вы мои товарищи, покончить со старорежимной лексикой, этим проклятым наследием царизма. Есть же масса синонимов, ну, к примеру, проститутка, продажная женщина, потаскуха, шлюха, блудница, наконец. А вы, блядища, блядища.
Сам он матерных слов никогда не употреблял и считал, что марксизм и отзвуки татарского ига суть вещи несовместимые.
– Не, насяльника. Не гейса, не слюха. Бледисса. – Кивнув на теряющую сознание женщину, Чен Ли с почтением поклонился и что-то резко приказал китайцу в очках. Тот мгновенно сорвался с места и суетливо, подобострастно улыбаясь, принялся шуршать своей конторской книгой:
– Сисяса, сисяса.
Наконец он прочертил ногтем по засаленной бумаге и торжествующе выкрикнул:
– Вота, вота! Бледисса, бледисса, самый главный! Хасяйка дома «Пасаз».
Петерс поверил ему на слово, делопроизводство здесь велось на китайском языке. Между тем женщина в кресле обмякла, бессильно повисла на ремнях, потеряв сознание. Судьба напоследок оказалась милостива к ней. В свите сразу поскучнели, начали поглядывать на часы – ничего себе, время-то уже обеденное! А завтрак, между прочим, был ранним.
– Изнеженная буржуазная психика, – задумчиво произнес Петерс и вытер лоб чистейшим носовым платком. – Крестьянский элемент держится куда как дольше.
Покосился на постные лица свиты, усмехнулся внутренне – что, проголодались, голубчики? – дружески подмигнул Лацису:
– Ну что, обедать?
Плевать, пусть уж будет этот хохляцкий борщ с чесночными пампушками и жареный жидовский гусь с черносливом. А на ужин хорошо бы заказать повару брюкву, фаршированную картофелем с тмином. По-латышски.








