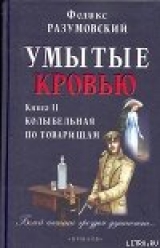
Текст книги "Умытые кровью. Книга II. Колыбельная по товарищам"
Автор книги: Феликс Разумовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Однако, присмотревшись к полковнику внимательнее, Граевский понял, что вся эта суета напускная и проистекает не от тупости и самомнения, а служит своего рода прикрытием для натуры умной, расчетливой и волевой. Граф Ухтомский переменился не только внешне – из балагура, добряка и пьяницы он превратился в циничного и многоопытного ловца человеческих душ. Впрочем, нет, пил он вроде как и раньше – до посинения.
На его фоне ротмистр Качалов казался милым и безобидным молчуном, криво улыбающимся изуродованным ртом, но Граевский без труда разглядел в нем фанатичного иезуита, готового ради идеи на любые преступления. Именно из таких тихих, застенчивых на вид людей и получаются изуверы типа Игнация Лойолы[1] или Генриха Кремера и Якоба Шпренгера[2].
– Нет, из Новохоперского никого не видел, – складно соврал Граевский и, подцепив вилкой ломтик осетрины, невесело хохотнул: – А сам я вольный художник, в свободном полете. Стрелять, слава тебе Господи, пока что не разучился.
Вот так, плевать ему и на монархическую разведку, и на ротмистра Качалова, и на Ухтомского, полковника. Не его ли волок Граевский с нейтральной полосы, бездыханного, контуженного, наклавшего в штаны? Тогда их сиятельство вели себя на удивление тихо, не изволили вызванивать на шпорах турецкий марш.
– Стрелять, говоришь, не разучился? – Словно услышав что-то очень приятное, граф радостно заржал, одним глотком опорожнил бокал и, сверкая бриллиантом, погрозил Граевскому пальцем: – Ну, ты смотри, смотри, поосторожней в полете-то. Тут у нас столько всякой сволоты развелось – майоришко Порталь[3], княже Кочубей[4], их сраное превосходительство пан генерал Бескубский[5], скотина граф Орлов[6], австрийцы, боши, товарищи недорезанные. Смотри, чтобы не ощипали, как цыпленка пареного. Паспорта нету, гони монету, монеты нет, сымай пиджак… Господа, пардон, я на минуту.
Он поднялся и, покачиваясь из стороны в сторону, страшно выкатив глаза, направился в туалетную комнату.
Кабацкое веселье между тем катилось по своим, проложенным вкривь и вкось, рельсам. Бомонд Одессы был неистощим на выдумки, полон жизнеутверждающей экспрессии и пировал красиво, по-римски. Чокались, шумели, горячились, спорили, рассказывали страшные истории, били морды, целовали ручки, лили шампанское на измятые скатерти. Гуляли от души.
В сизой завесе дыма вальсировал с полунагой красавицей французский капитан во всем черном. Четко звенели шпоры, шелестела шелковая юбка, мерно поворачивались, кружась, то полуобморочный женский профиль, то открытая до ягодиц спина, то набриолиненный пробор и шикарные усы офицера. Раз, два, три – сделали последнее па, сели.
– Браво! Бис! – раздались крики за столиками, и зазвенели разбитые бокалы. – За Францию!
К оркестру выскочил тучный кавказский князь, подполковник, выхватил кинжал, дико блеснул глазами:
– Лезгинку в честь Франции!
Бросил музыкантам крупную купюру и полетел на цыпочках, раздувая рукава, ревя оглушительно и страшно.
– Алла Верды! Алла Верды!
– Алла Верды! – подхватили женские голоса, и скоро уже весь ресторан пел:
– Алла Верды, Господь с тобой!
– Слишком много чести для этих паршивых лягушатников. – Ротмистр Качалов гадливо глянул на аплодирующих французов и единым духом осушил лафитник коньяку. – Ведут себя как свиньи.
– Что верно, то верно, как совершеннейшие грязные скоты. – Облегчившийся и повеселевший, Ухтомский плюхнулся на стул, раскрыл свой музыкальный портсигар и вытащил папироску. – Я бы сказал, как собаки на сене. Союзнички называется, сношать их неловко.
Он ничуть не сгущал краски: французы во главе с командующим д'Ансельмом действительно вели себя на редкость неприглядно – сами ничего не делали и к тому же торпедировали все инициативы Доброармии, представленной в Одессе генералом Тимановским.
Опытный командир, ветеран Ледового похода, он сразу стал формировать крупные соединения на базе беженцев, нейтральных офицеров, хлебнувшей лиха большевизма интеллигенции. Казалось бы, сделать это с благословения союзников было проще простого. Как бы не так!
Генерал д'Ансельм запретил мобилизацию, мотивируя это полным бредом о возможности беспорядков и волнений. В качестве альтернативы была выдвинута идея «смешанных бригад», в которых офицерский состав комплектовался бы лишь из украинцев, солдатский – из наемных добровольцев, а в части назначались бы французские инструкторы. Деникин назвал ее пагубной и неприемлемой.
А некрасивая история с военными складами в Тирасполе, Николаеве и на острове Березань близ Очакова! Сколько Тимановский ни убеждал французов оказать содействие в вывозе имущества и вооружения, оставшихся еще со времен царской армии, ответ был один: все это принадлежит украинской директории.
И столь необходимые русским патроны, снаряды, пулеметы, винтовки в конце концов достались большевикам. Ларчик же открывался просто – французов раздражал Деникин, державшийся слишком независимо и пытавшийся говорить с ними на равных, как с союзниками, а не как с хозяевами.
То ли дело хитрый, изворотливый Петлюра, сочинивший вслед за бредом о химических лучах розовую сказочку о якобы формирующемся украинском войске аж в полмиллиона штыков. Очень складно наврал, в три короба, глядя преданно и честно в рачьи глаза генерала Бертелло, командующего силами Антанты на юге России. Обвел ушлый хохол недалеких французов, навешал лапши на уши, и галльская политика окончательно запуталась.
– Кстати о свинине, господа. Не пора ли нам заказывать горячее? – Выпятив губу, граф окинул взором клумбу стола, поблекшую, изрядно повыдерганную, выпыхнул далеко табачный дым и небрежным жестом подозвал официанта. – Поросенка с кашей! Не будет корочки, с тебя шкуру спущу.
– Слушаю-с, все сделаем в лучшем виде-с. – Лакей изобразил улыбку и начал спешно убирать посуду, а тем временем гвалт в зале стих, по знаку дирижера оркестр грянул туш, и кое-кто из офицеров встал, вытянувшись во фрунт. Меж столиков торопливо, стараясь не привлекать к себе внимания, шел видный, с орлиным взглядом, генерал, под руку его держала изящная брюнетка, лицо которой вдруг показалось Граевскому на удивление знакомым.
– Господи, это же… – Поперхнувшись, он поставил бокал, глянул вопросительно на графа: – Неужели?
– Она, она, мадам Холодная. – Тот кивнул и задумчиво сунул в рот маринованную маслину. – Несравненная кинодива с их превосходительством губернатором Одессы Гришиным-Алмазовым. Чертовски пикантна! Из кабинета идут, ужинали. Штучка та еще, вокруг нее кто только и не вьется, и наши, и лягушатники, и прочая сволота. Сегодня, видишь ты, генерал в фаворе, сейчас в машину – и запустят в номера, кувыркаться. Адски шикарно, пирамидально!
Блистательная пара между тем вышла из зала, вслед ей поползли колкости, остроты, сальности, завистливые пересуды, раздался женский визгливый смех и скверный, изломанный голос пропел:
– У нее ножки, как у кошки! Господин полковник, посмотрите лучше на мои! А одесситка, вот она какая, а одесситка юбку поднимает! Оп-па, оп-па, пусть видит вся Европа!
Захлопали ладоши и пробки от шампанского, брызнули во все стороны осколки хрусталя, оркестр ударил по струнам, и полилось чувствительное аргентинское танго. Пары, обнявшись, принялись изнемогать, томно раскачиваясь в табачном полумраке, от звуков музыки кружилась голова, струной натягивались нервы и пробуждались древние, как мир, желанья.
– Ну-с, посмотрим. – Граф отрезал кусочек свинины, с чувством прожевал, почмокал губами, и лицо его расплылось от удовольствия: – Пирамидально!
Что-то в нем было от объевшегося людоеда из детской сказки. Впрочем, молочный поросенок, фаршированный кашей, был и в самом деле неплох, под полусухую «Вдову» и французский коньячок…
– А помнишь, ваше сиятельство, как встречали Новый год под Гимешем, семнадцатый, кажется? Пустую мамалыгу жрали, – черт знает как необдуманно сказал Граевский и сразу вспомнил Страшилу, огромного, небритого, мрачно черпающего ложкой из закопченного котелка. Живого…
Интересно, сколько же надо коньяка, чтобы утопить наконец прошлое? А если мешать его с шампанским?
– Как же, как же, помню, еще винище хлестали, адская кислятина. – Ухтомский загрустил, выпил в одиночку и, неожиданно прослезившись, бухнул кулаком об стол: – Эх, Никита! – Снова выпил, тяжело поднялся и, засопев, полез к Граевскому целоваться. – Чертовски рад, мон шер, встретить товарища! Пирамидально! Колоссальный подъем! Зашататься!
Весь конногвардейский шик разом слетел с него, он был искренен и прост, как тогда, в канун семнадцатого, в чадном дыму фронтовой землянки. Казалось, время на мгновение повернулось вспять…
Они засиделись далеко за полночь, прикончили шампанское, заказали еще и в конце концов набрались в корягу, в дугу, до поросячьего визгу. Какой там поход к веселым дамам – дай бог на ногах-то устоять. Крепче всех, как ни странно, оказался ротмистр Качалов, – едва соображая и шатаясь, словно в шторм, он все же заказал такси, помог швейцару погрузить товарищей и лишь затем свалился сам на сафьяновые подушки автомобиля.
Проснулся Граевский на следующий день, в своем номере, поздно. Вяло потянулся, глубоко вдохнул носом воздух и, разлепив глаза, сел на постели. Похмельной, ни с чем не сравнимой тоской гудело все тело, вкус во рту был кислый, невообразимо мерзкий, словно от долгого сосания медного ключа. Зверски хотелось пить, но от одной только мысли, что придется вставать, желудок поднимался к горлу и содержимое его просилось наружу.
«А все говорят, шампанское легкий напиток». Морщась от колокольного звона в голове, Граевский сполз с постели, чуток передохнул и, придвинувшись к столу, с наслаждением, с животным рычанием сразу выхлестал полсифона, захлебываясь, проливая воду на скатерть, на пол и себе на грудь. Не рассол, конечно, и не опохмельные щи, однако муть перед глазами стала рассеиваться и взбудораженный желудок, разом успокоившись, опустился на предназначенное ему место.
«Ну и нажрался же». Уже подумывая о стопке водки под паюсную и расстегайчик, Граевский вытер губы, закурил и, подойдя к окну, вяло раздвинул шторы.
На улице шел снег, крупный, сразу тающий, похожий на белых бабочек. Он окутывал в саван остовы каштанов, превращался в грязь под ногами прохожих, с плеском разлетался брызгами из-под колес авто. Море бодало волнами камни парапета, по черному его хребту бежали белые барашки – приближался шторм. Все за окном казалось скучным, безрадостным, не представляющим интереса.
«Тоска». Граевский отвернулся и дернул шнур звонка, чтобы вызвать прислугу. Ему вдруг показалось, что он живет в Одессе уже давно и безвылазно. Самое меньшее лет десять.
III
До революции Одесса была главным русским портом на юге, одним из центров хлебного экспорта и средоточием контрабанды, идущей из Румынии, Болгарии и Турции. Если в войну населению пришлось подтянуть пояса потуже, то с восемнадцатого года в городе наступила поистине райская жизнь. Российские таможенные барьеры исчезли, австрийские же оккупационные власти на многое смотрели сквозь пальцы и были весьма падки на презренный металл. А с приходом безалаберных французов жизнь в Одессе и вовсе завертелась нелепым трагикомическим карнавалом.
Город представлял собой невероятное смешение народов, армий, политических течений и бандитских групп, настоящее вавилонское столпотворение. Здесь были моряки английских и французских эскадр, добровольцы генерала Деникина, серожупанники гетмана Скоропадского, петлюровцы, польские легионеры, бельгийские волонтеры, урки всех окрасов, красное большевистское подполье.
Порядка не было никакого – после победы над Германией союзники прибыли в Россию как на пикник и доблестно разлагались в компании спекулянтов, агигаторов всех мастей и портовых проституток. Русскому же губернатору Гришину-Алмазову, пытавшемуся хоть как-то справиться с преступностью, приходилось ездить в машине на полной скорости: в него то и дело стреляли из-за углов – это его приговорила к смерти одесская мафия. Она была здесь сильна и до революции – из-за географического положения, обилия контрабанды, развитой торговли, легкой возможности заработка денег.
А региональные субкультуры – еврейская, греческая, арнаутская, молдаванская, каждая со своей жизнью, традициями, неписаными законами и преступным миром! Годы революции усугубили ситуацию, заполонив город оружием, вызвав крах органов правопорядка и стойкое неверие в существование власти. Контрабанда превратилась в легальный, а бандитизм – в прибыльный и легкий бизнес.
Отовсюду с просторов России в Одессу стекалось жулье, урки, налетчики, воры, чтобы пощипать без помех беженцев из совдепии, обративших все свое состояние в ценности, валюту и деньги.
Королем местной мафии был Мишка Япончик, опытный бандит с туманным прошлым; под его началом состояла разномастная аж двадцатитысячная вольница, которую большевики в знак уважения называли «армией Молдаванки».
Что-что, а умели товарищи заглядывать вперед. Одесское подполье жило с уркачами душа в душу, в полном взаимном понимании, любви и согласии. Чтобы революционная ситуация не застала врасплох и было на кого опереться, когда грянет буря. Пока же, даже не подозревая о своем высоком предназначении, урки занимались привычным делом – воровали, грабили, «выставляли из денег». Брали на хапок[1], с росписью[2], на скок с прихватом[3]. Били людей по головам пятифунтовыми гирями, дробили скулы стальными плашками[4], разворачивали почины[5] отточенными свиноколами.
С ловкостью навешивали галстуки[6], шарашили песочными колбасами[7], втыкали спицы в мочевые пузыри. Подкравшись сзади, хватали жертву за ворот и штаны и, перевернув вверх ногами, устраивали «колокольный звон» – били головой о землю. Хором отоваривали втемную, лихо надевали очки[8], знакомили фраерню с бильярдными шарами, завернутыми в кашне.
Много веселились, шутили, неподражаемо, с одесским шармом, у дам срезали шубы на месте ягодиц, из барышень поаппетитней делали «тюльпаны», завязывая над головами поднятые юбки. Особым шиком считалось, подвалив к бобру[9] с приветственными криками, приласкать его головой в лицо с одновременным хлопком воротника по шее, вычистить карманы и свинтить, оставив жертву в бледном виде. Высший пилотаж, неподражаемое мастерство, международный класс – хоть и не для всех. Куда как проще пятифунтовой гирей-то…
Прожив в Одессе больше месяца, Граевский понаслушался всякого, начиная с россказней про Степку Казака, вышибающего мозги ударом кулака, и кончая ужасами о доценте медике, заказавшем на обед мясо с косточкой и к десерту обнаружившем, что косточка-то человеческая. Однако все равно ходил, где хотел, полагаясь в душе на везение и случай – авось, бог не выдаст, свинья не съест.
Правда, и сам не плошал: ценности держал в гостиничном сейфе, а маузер – наготове, в нагрудном кармане, поближе к сердцу. Гулял неспешно по одесским улочкам, смотрел на суетливую чужую жизнь и, покуривая, усмехался язвительно и тонко, – роль стороннего наблюдателя, умудренного и холодного, очень нравилась ему. Только иногда не получалось быть холодным и умудренным, к горлу подступало одиночество, и тогда Граевский пил в обществе Качалова и Ухтомского, а затем в их же компании закатывался к девкам. Выбирал порыжей, погрудастей, быстренько справлял нужду и в самый ответственный момент кричал, с надрывом, будто звал:
– Варя, Варвара, Варька!
Девицы были не против, хоть чертом назови, лишь бы было уплочено.
Однажды уже в конце зимы Граевского на ночь глядя занесло на Среднефонтанскую, в район вокзала. Мутно горели фонари, прохожие были не часты, изредка под стук копыт дробно проносилась пролетка, и вновь наступала тишина, только льдинок хруст под ногами да паровозный свист откуда-то со стороны путей.
«Эх, Россия, непробудная, дикая сторона. – Граевский подмигнул озябшему кабысдоху, закурил и неспешно двинулся вдоль домишек, двери которых были обшиты досками для защиты от ворья. – Далеко еще, ох как далеко нам до мировой цивилизации! Витрину-то зачем прострелили? Маузер, конечно, дырки аккуратные, без трещин».
Не так давно он хорошо поужинал, выпил коньяку и сейчас пребывал в ленивом благодушии, когда хочется смотреть на мир с легким скептицизмом, незлобивой иронией и мудрой отрешенностью древних. Все суета сует и всяческая суета. И ночь, и тусклый свет луны, и одиночество – все это было, все пройдет. А томление в крови, желание тепла и понимания – обыкновенный сексуальный бред, блажь обожравшегося балыком самца, которому не терпится излить гормоны.
Как скучно-то, черт возьми, как предсказуемо – родиться в муках, прожить в грехе и умереть в грязи и скверне. Нет, истинная мудрость в спокойствии, в непротивлении злу, в бестрепетном принятии перемен.
Однако скоро, на углу Елисаветградского, возвышенный ход его мыслей был прерван появлением незнакомки, скользнувшей из темноты под фонарь, в центр расплывчатого желтого пятна.
– Мужчина, не угостите папироской?
В неверном электрическом мерцании она казалась невероятно броской – стройная, дерзкоглазая, с губами бантиком, и главное, огненно-рыжая. Ее насмешливый негромкий голос разом оглушил Граевского, и он, забыв про отрешенность, с готовностью остановился, вытащил портсигар.
– Какая ты милашка! Как звать-то?
– Марьяна. – Девица затянулась, скользнула по Граевскому бесстыжими зелеными глазами. – Ну что, пойдем за сотню карбованцев[1]? Довольны будете, я ласкучая. Тут, недалеко.
Не очень-то она была похожа на проститутку, скорее на охотницу, заманивающую в свои сети дичь пожирнее. Слишком уж уверенны движения, взгляд оценивающ и тверд, а в голосе ни намека на заигрывание, лишь уничижительное, скрытое за усмешечкой презрение. Такая сама выбирает под кого ложиться.
– Красивое имя. – Граевский придвинулся вплотную и, хмелея от запаха женщины, тронул выбившуюся из-под шляпки золотистую прядь. – Ласкучая, говоришь?
Здравый смысл подсказывал ему, что дело здесь не чисто, что пора давать задний ход, но он лишь плотоядно улыбнулся и обнял девицу за талию.
– Пойдем, проверим.
Ощущение опасности веселило его, разгоняло, будоражило кровь – всяко лучше, чем бродить по улицам с заумными мыслями. А потом, вдруг все эти страхи напрасны и в награду за смелость ему достанется приз – мгновение уличной любви? Ради этого можно и рискнуть, в конце концов, маузер всегда под рукой, на взводе, с патроном в казеннике.
Так думал Граевский, держа девицу за бочок, и сердце его билось легко и свободно, – вот это жизнь, не скука и не дрема. И не нужно одурять себя водкой, мечтами, табаком, чтобы заиграли поджилки и распахнулась, запенилась душа. Все ясно и понятно, как в бою.
– Не так быстро, миленький, заплати сперва. – Девица с легкостью освободилась и, бросив папироску, свернула в узкий, похожий на кишку проулок. – Сюда.
Пошли по дощатым мосткам мимо низеньких, наглухо зашторенных окон, позади домов тянулся длинный, из ракушечника, забор, отгораживающий жилье от железнодорожных рельсов. Пахло углем, мазутом, свежевыплеснутыми помоями. По обочинам грязной булыжной мостовой торчала прошлогодняя трава, одинокий фонарь, раскачиваясь на ветру, жалобно скрипел, угловатые тени казались зыбкими ожившими кошмарами.
«Веселенькое местечко». Инстинкт вытолкнул Граевского с мостков на свет, подальше от стены, а на путях тем временем запыхал паровоз, и Марьяна свистнула, в два пальца, по-разбойничьи, в лучших традициях одесских уркаганов.
Верно выбрала момент: под шум состава трепыхаться без толку, кричи не кричи, никто не услышит. Взревев сиреной, паровоз наддал, где-то визгливо забрехал кабысдох, а из темноты уже метнулись две тени – с расчетливой готовностью, прямиком к Граевскому.
Однако тот был начеку, одного из налетчиков встретил ногой, рантом башмака под ширинку, другому со всего плеча въехал в переносицу, добавил коленом в дых и уже собрался дать деру, как удар в лицо бросил его на землю, выхолостил на мгновение все цвета и звуки, сделав мир черным и немым.
Бог любит троицу – третий бандит оказался мастером-кулачником. Это Граевский понял сразу, едва вынырнув из тошнотворного, путающего мысли тумана. Ему пришлось немало драться в жизни, но никогда еще его не били так точно, цинично и умело. Однако умирать было рановато. Разлепив невидящие глаза, он схватился было за маузер и вдруг услышал голос, негромкий и вроде бы знакомый, боль, горечь, радостное удивление отчетливо сквозили в нем:
– Вот так так! Вовзят взгальный, ты, ваше благородие, клюешь на бабу, кубыть чебак на приваду! Ну что, очунелся трошки?
Сильные руки подняли Граевского, прислонили спиной к стене, и, сбросив, наконец, туманную вуаль, он изумленно прошептал:
– Акимов?
Память сразу же вернула его на три года назад, на Западный фронт, под гул снарядов, в объятия смерти, из которых не выбрался бы, не будь рядом геройского урядника пластуна.
– Значится, ваше благородие, не забыл досе? – Акимов улыбнулся, сдержанно, одними губами, и вытащил карманные часы, покачал их на цепочке перед носом Граевского: – Угадал? Твои. Лакиндровая[1] луковица, без боя, а храню. Тоже о тебе помню.
Он вздохнул, как-то нехотя повернул голову, и голос его переменился, сразу стал жестким и требовательным:
– Гнутый, а ты-то чего застыл, словно памятник Дюку? Лётом, волоки Сивого на хавиру, а ты, Ксюха, лепилу подгони, чикиляя[2] Фраермана со слободы.
Подумать только, рыжую наводчицу звали нежным, ласкающим слух именем Ксения!
– Степа, лады. – Со стоном разогнувшись, один из уркачей присел, придерживая пах, витиевато выругался, сплюнул и, чтоб не так ломило яйца, начал тяжело, бренча подковками, прыгать, опускаясь на пятки. – Сучара тертый, чуть без потомства не оставил…
Затем он выпрямился, с трудом поставил на ноги подельника и, взвалив на хребет, матерясь и хрипя, потащил куда-то в темноту – словно воина с поля брани. Ксения-Марьяна припустила в другую сторону, каблучки ее дробно зацокали по булыжной мостовой, тень призрачно метнулась и растаяла в полумраке.
– Показал ты хист[3], ваше благородие, всю обедню нам споганил. – Акимов незлобиво ухмыльнулся и тронул пальцем огромный, набухающий у Граевского в пол-лица фонарь. – Надо бы кровя пустить, а то засинеет.
В его руке блеснула финка, отточенная сталь вспорола кожу, и в воздухе запахло кровью, как тогда, в августе пятнадцатого, расстрелянного прямой наводкой из австрийских пулеметов.
– Акимов. – Дернув головой, чтобы мозги вернулись на место, Граевский широко, радуясь как ребенок, улыбнулся и порывисто, не задумываясь, обнял казака, похлопал ладонями по спине: – Ну, здравствуй, братец ты мой, вот ведь встреча! Сколько лет, сколько зим…
На какой-то миг ему стало необычайно хорошо, он вновь почувствовал себя лихим поручиком, ни сном ни духом не ведающим ни о царском отречении, ни о революции, ни о жидовском совнаркоме. Еще дядюшка читал Плутарха, а тетушка готовила вкуснейшие, невиданных сортов наливки, Страшила весело ломал подковы, задумчивая Ольга брела в мистическом тумане, хитрюга Кайзер, вытянув хвост трубой, гонялся на веранде за солнечными зайчиками. Еще не вся была измарана слава и ценилась офицерская честь, а письма от Варвары дышали нежностью, страстью и предвкушением счастья. Она еще не жила с комиссаром…
– Здравствуй, товарищ, здравствуй. – Казак ткнул Граевского усом в щеку, тяжело сглотнул и хлопнул его ладонью по груди, где в кармане на босоножке[1] затаился маузер. – Гля, и ты, ваше благородие, музыкант, на волыне играешь. Водку-то пьешь?
От него крепко пахло табаком, смазными сапогами, сильным, пребывающим в движении телом.
– Не отказываюсь, – присев, Граевский поднял шапку, нахлобучил до ушей, поглубже, – было бы предложено.
Воскресный благовест в его голове слабел, быстро замещался малиновыми переливами, казалось, что на резвой тройке он мчится прочь от гудящей звонницы.
– Так пойдем. – Казак сдвинул на затылок кожаную отымалку[1], показав массивный, тускло блеснувший браслет. – Тебя, ваше благородие, вообще-то как кличут?
Длинная пшеничная прядь наискось через лоб молодила его, придавала скуластому лицу выражение отваги и бесшабашности.
– Никитой когда-то звали. – Опять, совсем уже не к месту, Граевскому вспомнилась Варвара, запнувшись, он проглотил слюну и, вытащив папиросницу, со щелчком разломил ее надвое. – Закуривай, Степан Егорович, трофейный. Был асмоловский табачок, да вышел весь.
Имя-отчество казака он назвал непроизвольно, даже не задумываясь, в голове после встряски прояснело, из глубин памяти легко всплывали мелочи, малозначительные детали, забытые физиономии и ненужные факты. И когда теперь вся эта муть осядет…
Они прикурили от бензинового огонька и молча, сталкиваясь плечами, пошли между домов к забору. Сразу же за проулком в нем оказался пролом. Похрустывая щебенкой, пересекли пути и стали забирать левее, к водонапорной башне, – дорога их лежала мимо сортировочной горки в железнодорожную слободу.
Скоро Акимов уже стучал особым образом в узкую, неприметную с улицы дверь, и едва та открылась, как возникший в проеме мужичок расплылся жутковатым оскалом:
– А, Степа, милости прошу, милости прошу.
Цепким оценивающим взглядом он ощупал Граевского и, сразу же признав за своего, чуть заметно кивнул. Хитроватое лицо его почтительно дрогнуло, губы растянулись в уважительную ухмылку – верно, угадал масть уркаганскую, мокрушную и тяжелую.
Это был банальный разбойничий притон, одна из многочисленных нешухерных малин, которыми испокон веков славилась красавица Одесса. В левом углу просторного, скупо освещенного зала пили и жрали, в правом играли в карты, из комнат по соседству доносились женский смех, взвизги, скрип и уханье кроватных пружин. Где-то неподалеку тренькала гитара, и хриплый козлитон выводил с блатными интонациями:
Взял я кольца, мишуру,
Будет чем сыграть в буру…
Душный воздух был ощутимо плотен, крепко отдавал спиртом, табаком, человеческим потом, поминальным звоном по утраченным мечтам дзынькали друг о дружку стаканы. Мягко шелестели карты, падало золотишко в банк, слышались разочарованные присвистывания, шарканье подошв и возбужденные, на взводе, голоса:
– Святой Никола![1]
– Очко!
– Старик Блинов![2]
– Святой Павел![3]
– Не прет! Не со свистом[4] ли святцы[5]?
– Ты, хламидник[6] мелкошанкрный! Пасть закрой, не на стойке[7]!
– И не на торчаке[1]! Давно каши гурьевской не едал?[2]
Урки и циголье радовались жизни и испытывали судьбу, хотя отлично знали, что и первой цена копейка, и вторая никуда, кроме как на сковородку, не годится[3].
– Седай, Никита. – Подмигнув Граевскому, Акимов подошел к столу в центре зала, по-хозяйски сел, глянул по сторонам, и кое-кто опустил глаза. Крики, ругань сразу стихли, шум сделался тоном ниже, чувствовалось, что привлекать к себе внимание особо не хочется никому.
– Здравствуй, Степа, – с улыбкой подскочила крепкая краснолицая баба, не спрашиваясь, поставила на стол бутылку, тарелки с белужиной, холодцом, икрой, брякнула крышкой латки, в которой что-то аппетитно скворчало. – Все, как ты любить изволишь.
Как видно, со вкусами Акимова здесь считались.
– Ладно, милая. – Казак отправил ее взмахом руки, шлепком о донышко откупорил бутылку и начал разливать звенящую, прозрачную как слеза влагу. Наполнив до краев граненые стаканы, он осторожно поднял свой, не расплескав ни капли, взглянул Граевскому в глаза: – За то, что живы, за то, что встренулись.
С чувством сказал, со слезой в голосе, видать, и в самом деле шибко был рад пехотному поручику, которого и знал-то всего сутки с небольшим. Только ведь бывают мгновения, что сближают людей крепче, чем прожитые вместе годы.
Стоя чокнулись, выпили залпом, отдувшись, сели, принялись закусывать.
– Гля, добрая дымка, не хуже «николаевки». – Акимов сразу налил по второй, всыпал в свой стакан перцу, от души, усмехнулся: – Для нутра полезно, от всех хворей.
Снова выпили, заели балыком, обжигаясь, открыли латку – в ней оказалась баранина с чесноком. И только заговорили о том о сем, на незначимые, отвлеченные темы, как в углу, где катали, поднялся шум.
Рыжий толстогубый урка, в чем-то не сойдясь во мнении с карточным партнером, лысым горбоносым крепышом, замахнулся на него бутылкой, но, увидев нож, сел на место, скверно улыбаясь:
– Ты, Филь, воткни перо, где оно торчало. Кабы я и вправду осерчал, я б тебе разворотил харю по-другому, гляди-кось как.
И, заметив, что крепыш уже засунул нож в сапог, он ударил его бутылкой в лицо, раздробив переносицу и едва не убив.
– Во как!
Сразу – кровь, крики, сверканье перьев, грохот опрокинутого стола. Однако обошлось, резать друг друга не стали, оттащив за занавеску недвижимое тело, выпили, закусили, сели играть по новой. Ну что ж, не подфартило Фильке, так ведь сам виноват, попался, словно фраер, на подход[1].
– Чисто валухи[2], только и могут, что мемекать. – Акимов закурил, далеко, с презрением, выпустил дым в сторону картежников и вдруг улыбнулся как-то по-детски, с сожалением: – Да, по-разному петляет жизня. Я как с фронта вернулся, все хотел на хозяйство встать, только Бог не дал. Дочка от глотошной померла, батя, жена, сын – от тифа, сам чуток не преставился. Но, видать, не судьба – очунелся, не взяли черти в пекло. А тут вокат комиссары подвалили, огарновали со всех сторон, стали телешить со своими порядками – лампасы срезай, оружие сдавай, устраивай в церквях нужники. Зачинай новую жизнь. Да чтобы я батину шашку выдал на поругание? Заседлал коня, курень запалил и наметом в степь, в одиночку, ровно бирюк. Никто из соседей со мной не поднялся, навоевались, думали замириться с новой властью. Таперича спапашились, да поздно. Хлебают лиха.
Еще как хлебали. Двадцать четвертого января девятнадцатого года Оргбюро ЦК выпустило циркулярную инструкцию за подписью Якова Моисеевича Свердлова, в которой предписывалось провести массовый террор против богатых казаков и, истребив их поголовно, провести беспощадный массовый террор ко всем вообще казакам, принимавшим прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью.
Лев Давидович Троцкий писал о казаках: «Это своего рода зоологическая среда, не более того. Стомиллионный русский пролетариат даже с точки зрения нравственности не имеет здесь права на какое-то великодушие. Очистительное пламя должно пройти по всему Дону и на всех навести страх и почти религиозный ужас. Старое казачество должно быть сожжено в пламени социальной революции. Пусть последние их остатки, словно евангельские свиньи, будут сброшены в Черное море. Необходимо устроить казакам Карфаген».
И на Дон пришла смерть. Рубили священников, расстреливали офицеров, убивали вахмистров, урядников, путая названия этих чинов с полицейскими. Запрещалось само слово «казак», ношение военной формы и лампасов. Станицы переименовывались в волости, хутора в села. Часть донских земель вычленялась в состав Воронежской и Саратовской губерний и подлежала заселению крестьянской беднотой.








