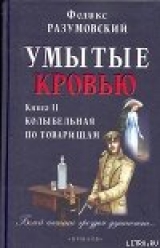
Текст книги "Умытые кровью. Книга II. Колыбельная по товарищам"
Автор книги: Феликс Разумовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Во главе станиц ставили комиссаров, большей частью из еврейских «интернационалистов». Населенные пункты обкладывали денежной контрибуцией, распределяемой по дворам. За неуплату – расстрел. В трехдневный срок объявлялась сдача оружия, в том числе дедовских шашек и кинжалов. За несдачу – расстрел. Люди выселялись из обжитых мест за Урал, в заснеженную степь, на верную гибель.
По хуторам разъезжали трибуналы, производя выездные заседания с немедленными расправами. Рыскали карательные отряды, реквизируя скот и продовольствие. Расстреливали при помощи пулеметов – винтовками было не управиться. Устраивали в храмах нужники, стреляли из наганов по иконам, выкалывали священникам глаза. В Вешенской старику, уличившему комиссара во лжи, вырезали язык, прибили к подбородку и возили по улицам, пока он не умер.
В Боковской, чтобы развлечься, чекисты расстреливали первых встречных, вывозили в степь и запрещали хоронить. В Урюпинской лишали девственности всех девушек казачек, насиловали зверски, взводами и ротами – чтобы были поголовно с пролетарской начинкой. Кошмар на Дону поражал воображение, здесь большевики переплюнули и инквизицию, и опричнину, и французских фанатиков-коммунаров. Устроили Карфаген.
Только кто мог знать, что очень скоро казацкому долготерпенью настанет конец и к началу марта поднимутся станицы Вешенская, Казанская, Еланская, Микулинская и Шумилинская, а следом вспыхнет и весь Верхний Донской округ. Что повстанцы, вооруженные лишь шашками, будут бить чекистские орды, отливать картечь из оловянных мисок, делать пули из свинцовых решет веялок. Что не дрогнут, не попятятся перед пушками бронепоездов. И покатятся в снег буйные чубатые головы, и смешается с грязью алая казацкая кровь, и польется старая степная поминальная:
А украшен-то наш Тихий Дон
малолетними вдовами,
Цветен наш батюшка Тихий Дон сиротами,
И наполнена волна в Тихом Дону отцовскими,
материнскими слезами…
Никто этого еще не знал, стоял конец февраля. Время близилось к полуночи, и Никита Граевский сидел в притоне с одесским уркачом Степаном Акимовым. Пили неспешно, обстоятельно закусывали, разговаривали за жизнь, испытывая друг к друг едкую симпатию. Два матерых волка-одиночки, которым нечего делить. Время летело незаметно – весело гудел бардак, в дымном мареве сновали тени, подходили, подрагивая прелестями, раскрашенные лярвы, зазывно лыбились, дышали перегаром:
– Не кисни, миленький, на морде бифсы фалуй[1].
А в пустых глазах – скука, меркантильный расчет и тщательно скрываемое брезгливое презрение. Те еще девушки.
– Ишь ты, невидя вечор хитнулся[2], – ткнув окурок в пепельницу, Акимов глянул на часы, вылил в стаканы остатки дымки и поставил под ноги порожнюю бутылку. – Давай по стремянной[3], на дорожку.
Хмель как будто не брал его, никто бы не подумал, что он ополовинил староштофную бутылку[4] крепчайшего первача. Чокнулись, выпили, поднялись и, не прощаясь ни с кем, вышли на свежий воздух.
– Ты, Никита, где стоишь-то? – Акимов поддержал Граевского, подобрал с земли его многострадальную шапку. – А то, может, у меня заночуешь, на хавире места хватит.
Он залихватски чиркнул спичкой, уверенно поднес ее к лицу, но так и не прикурил, не попал папиросой в огонек. Выпито все же было сильно.
– Отель «Бристоль», двадцатый нумер. – Глуповато рассмеявшись, Граевский топнул, чтобы мостовую не штормило, резко качнулся, выкинул невиданное коленце, но все-таки удержался на ногах. От убийственного буздыгана[1], от забористой дымки у него шла кругом голова, в глазах мельтешили светящиеся пятна. Акимов вывел его на привокзальную улочку, встал под фонарем:
– Эй, ездовой!
Он погрузил Граевского в пролетку и сказал на прощание сердечно, со сдерживаемым волнением в голосе:
– Дюже рад я тебе, товарищ. Будет в чем нужда, знаешь, где меня искать, спросишь Степу Казака.
Возница сразу же перекрестился, как-то погрузнел, скукожился на козлах и, когда приехали, денег с седока не взял, с почтением ссадил у подъезда гостиницы:
– Приятственно почивать, ваше степенство.
Однако выспаться спокойно Граевскому не дали. Утром чуть свет пожаловал Ухтомский, в прекрасном настроении, сияющий. Усы его воинственно топорщились и благоухали фиксатуаром «Шик паризьен», лаковые сапоги скрипели, шпоры вызванивали марш «Умрем в бою за веру, конногвардейцы!».
– Что, брат, дали в морду? Пирамидально? – Он участливо подмигнул, неизвестно чему обрадовавшись, заржал и, плюхнувшись в кресло, с шипением нацедил сельтерской. – Не беда, башка не жопа, на ней не сидеть. Слышал новость? Мадам Холодная теперь совсем холодная! Какой каламбурец! Застрелиться! Ну да, натурально сыграла в ящик. Не интересно посмотреть?
Еще как интересно. Даже после бессонной ночи, со встряхиванием мозгов, лавиной впечатлений и обильными возлияниями.
– Граф, я тебя когда-нибудь придушу. – Граевский с усилием поднялся и, зевая, пошлепал в туалетную комнату. – Будь другом, расстарайся осетрины, да хрену побольше. И корнишонов закажи, в рассоле.
В голове у него шумело, во рту будто эскадрон ночевал, хотелось чего-нибудь покислей, поперчистей, а после опять на боковую. Нет, право, искусство, конечно, требует жертв, но чтобы вот так, с утра пораньше, с похмелья…
– Все рассолы потом, труба зовет. – С улыбочкой граф открыл французское иллюстрированное чтиво, выбрал статейку позабористее, подымающую на пух и перья некую малютку Мими из парижского мюзик-холла «Олимпия». Пока Граевский брился, чистил зубы и отмокал под душем, он узнал, что раньше актрисулька трудилась в цирке, а теперь не носит лифчиков, подмывается по шесть раз на дню и меняет любовников каждую неделю, дабы всегда быть в форме.
Панегирик сопровождала полудюжина фотографий: мадемуазель Мими в дезабилье – на велосипеде, на стуле, на корточках, на пони, на коленях Виктора Кастера[1], она же во всем великолепии своей красоты – брильянты, чулочки, подвязки, медные, как у валькирии, чашки, закрывающие груди, пучки снежно-белых эспри[1] на химически завитых волосах – на сцене мюзик-холла «Олимпия». Статейка называлась без лишней скромности: «Об этих ножках мечтают все мужчины».
– Лично я пас. – Скрупулезно изучив фотографии, граф пренебрежительно фыркнул, выпятил нижнюю губу и отшвырнул журнал прочь. – О такие коленки можно порезаться. Нос – бушпритом, корма сидит низко, сама плоскодонка, а ноги, как борта у баркаса. Увольте. – В чем в чем, а уж в морском деле и женских прелестях Ухтомский понимал. Не одну сотню барышень прокатил на своем шверботе по просторам Финского залива. Кого с креном, кого с дифферентом, кого на ровном киле. Как дама скажет.
Между тем из туалетной комнаты появился Граевский, не так чтобы как огурчик, но заметно посвежевший. После водных процедур к нему вернулось чувство юмора, ровное настроение и способность здраво рассуждать.
– Миль пардон. – Он не спеша оделся, вздохнув о корнишонах, закурил и обернулся к Ухтомскому: – Я готов, поехали.
Спустились вниз. У подъезда глянцево сверкал вороненый «паккард», за рулем, развалясь и небрежно покуривая, насвистывал попурри из оперетки «Это так любят делать все вдовы» ротмистр Качалов. Его изуродованная физиономия выражала торжество и безмерную веселость, частенько наблюдаемую у идиотов. Чувствовалось, что в душе у него трубят фанфары.
– Бонжур, мон шер ами. – Он дружески кивнул Граевскому, со скрежетом воткнул рычаг и мягко тронул машину с места, ни слова не сказал по поводу фингала, лилово расплывающегося у пассажира в пол-лица, вздохнул тактично и отвел глаза – случается. За одного подбитого двух небитых дают.
«Паккард», шелестя покрышками, весело катился по одесским улицам, плавно покачивался на могучих рессорах, оглушал прохожих ядовитым чадно-сизым выхлопом. Однако сколько ни ревел мощный шестицилиндровый двигатель, как ни давил на газ ротмистр Качалов, на кладбище приехали с опозданием – цинковый гроб с телом кинодивы уже был установлен в склепе, вокруг шумела, волновалась многотысячная толпа. Ни проехать ни пройти.
Штормящее людское море окуталось унынием и скорбью, слышались стоны, плач и досужие пересуды вполголоса:
– А говорят, ее того, Гришин-Алмазов задушил. Да-с, в припадке ревности. Я сам видел, лежит в гробу вся синяя, накрасили ее, словно куклу.
– Несете, господин хороший, чушь. Это самая что ни на есть настоящая внематочная беременность. Генерал д'Ансельм постарался.
– Ах, бросьте, Верочка задохлась от запаха белых лилий, которые ей преподнес французский консул Энно. Ну, тот, что женат на Софе Розенблюм, с Пересыпи.
– Вы не знаете, Лева, зачем весь этот геморрой с «испанкой»? Вся одесская испанка уже вышла полгода назад! Пусть купят петуха на Привозе и пудрят мозги ему!
– Так вот, батенька, у лечившего актриску профессора Усова неизвестные похитили дочь и тем самым вынудили его фальсифицировать историю болезни. Премерзкая история, очень дурно пахнет. Утешает лишь то, что рано или поздно все тайное становится явным.
– Ах, князь, поверьте моему предчувствию, мы-то с вами до этого не доживем.
– Народу – застрелиться! Покойная имеет бешеный успех! – Ухтомский опустил стекло, важно закурив, со значением глянул на Качалова, и оба раскатились хохотом, дружным, торжествующим, до слез. Так смеются триумфаторы над трупами поверженных врагов.
– Граф, у тебя истерика. – Зевнув, Граевский оторвался от созерцания толпы, зябко, как спросонья, шевельнул плечами. – Какого черта ты меня сюда привез? Могил я не видел?
Он уже понял, что поглазеть на звезду в гробу и в белых тапках, увы, не удастся, и испытывал жгучее разочарование. Мысль, едва ли не единственная в голове, – об осетрине под хреном – вызывала бурчание в животе, обильное слюнотечение и отчаянное желание вернуться в гостиницу.
Ну, не каналья ли граф! Притащил с утра пораньше на погост и радуется неизвестно чему. Совсем не смешно!
– А что, друзья, не помянуть ли нам покойную? – Ухтомский наконец перестал смеяться и заговорщицки подмигнул Граевскому: – Никита, ты как насчет осетрины под хреном и молодых корнишончиков?
Ну что тут скажешь, каналья и есть!
Поехали в ресторан клуба «Меридиональ», место шикарное, посещаемое сливками общества, офицерами экспедиционного корпуса и фартовыми одесскими бандюганами. Ухтомский, ничуть не смущаясь ранним временем, заказал шампанского, устриц с бекасами и roti a l'imperatrice[1], устроил пир на весь мир и быстренько, как это бывает с великой радости, наклюкался на пару с Качаловым.
Граевский, живо памятуя о вчерашнем, спиртного пить не стал, с аппетитом расправлялся с французскими разносолами и вполуха – деваться некуда – слушал словоизлияния графа, более походившие на похвальбу.
– Ты, Никита, отстал от жизни, витаешь в розовых облаках. Времена, когда ценились солдафоны, художники, артисты, канули в Лету. Пирамидально! Теперь потребность в талантливом сыщике, в новом Пинкертоне, если тебе угодно. Я, конечно, не говорю о России, здесь каменный век, разруха, разбитое корыто истории. Выследить бандита? Извольте. Видишь две хари с челками до глаз в углу под пальмой? Местные знаменитости – Сережка Крендель и Федька Хряк. Кто позавчера взял лабаз на Пушкинской, приказчику проломил башку кастетом? Они, они, сукины дети, Сережка и Федька! Этих ловить и выслеживать – только портить себе чутье, у них на Пересыпи штаб не хуже нашего, с охраной и телефонной связью. Застрелиться! То ли дело работать за границей, где-нибудь в Лондоне или Париже. Там – борьба умов, высшее напряжение интеллекта, мировой класс. Мы – гениально организованы, мы покрываем агентурной сетью всю Европу, мы – государство в государстве. У нас свои законы долга и чести. Мы работаем во враждующих странах, но сыщик сыщика не предаст никогда. Мы выше всякого национализма и незримо, с абсолютной выверенностью влияем на судьбы мира. Адски шикарно, зашататься! Поверь, мон шер Граевский, основная движущая сила эволюции в будущем – это сыск, сыск и еще раз сыск. Чтоб мне сдохнуть.
Хвалился и заказывал шпигованого поросенка Ухтомский не с пустого места, равно как и не случайно проявлял живейший интерес к безвременно почившей кинодиве – на то имел причины веские, известные лишь ограниченному кругу лиц.
В середине декабря для получения точной информации об интервентах в Одессу прибыл Жорж Лафар, протеже Дзержинского, чекист, резидент-вербовщик. Француз по национальности, он родился в Сестрорецке в семье инженера, до войны учился в Париже, а с ее началом работал в экспедиционной конторе, занимавшейся поставками вооружения для русской армии из стран Антанты. Имея такой послужной список, Лафару практически не нужно было выдумывать легенду. К его фамилии прибавили дворянскую приставку «де» и под кодовым именем «Шарль» забросили в оккупированную Одессу.
Помимо основного задания – сбора информации военного характера – перед новоявленным графом была поставлена еще и суперзадача: проникновение в высшие круги французского командования и по возможности содействие мирному уходу интервентов из города. А поскольку не являлось секретом, что офицеры оккупационного корпуса были весьма неравнодушны к творческой интеллигенции, то чекист облюбовал для своей штаб-квартиры кинофабрику «Мирограф», завербовав большинство ее сотрудников. Сделать это было вовсе не сложно – партнер Веры Холодной по сцене актер Инсаров являлся резидентом ЧК и работал под псевдонимом Апостол.
Дальше все пошло как по маслу. Пользуясь своей блестящей репутацией, граф легко прошел проверку контрразведки Порталя[1] и без труда внедрился во французский экспедиционный корпус переводчиком.
Изучая расстановку сил в командовании интервентов, он вскоре понял, что ключевой фигурой является отнюдь не генерал д'Эспере, главнокомандующий союзными войсками на востоке, а неприметный начальник штаба полковник Фрейденберг, бывший подданный Российской империи. Бездумно и страстно влюбленный в королеву экрана. А поскольку сверхзадачей Шарля являлось оказание сверхсодействия в выводе интервентов из Причерноморья, то он стал искать подходы к пылкому полковнику – естественно, через любвеобильную мадам Холодную, влияние которой на Фрейденберга было безгранично.
Конец у этой истории был жесток и страшен – на войне как на войне. Люди Ухтомского вышли на «красного Шарля», и Вера Холодная за свою отзывчивость поплатилась головой, ее убили расчетливо и умело. Королеву убрали из игры, словно пешку, поставив ей отравленную клизму.
Однако самое ужасное было в другом: де Лафар все же успел найти подходы к влюбленному полковнику. Не потому ли через месяц с небольшим тот безо всяких оснований отдаст Одессу на растерзание красным, а затем, подав в отставку, откроет свой банк в Константинополе? Так что рано радовался Ухтомский, сидя за шампанским в ресторане «Меридионаля», не зная еще, что вирус жадности, подлости и предательства окажется куда сильней героизма добровольцев, двенадцатидюймовых стволов и десяти старозаветных заповедей.
Впрочем, к десерту граф затих, положил голову на скатерть, по-детски улыбаясь во сне. Может, в том и состоит счастье человека, что будущее неведомо ему? Погрузили Ухтомского в машину, пьяненький Качалов сел за руль, и «паккард», порыкивая двигателем, покатил зигзагами по мостовым. Ржали лошади, шарахались пролетки, истеричные авто поднимали визг клаксонами.
– О це дает! – хлопали прохожие себя по ляжкам, оглядывались, прищелкивали языком, кое-кто из понимающих усмехался снисходительно, бряцал шпорами:
– И чего это загуляла контрразведка? С какой это, интересно, радости?
Граевский не поехал, решил пройтись пешком, от раннего подъема, от праздных речей в голове у него гудело, пустые мысли ползли лениво, словно жирные, отъевшиеся гусеницы. Неторопливо брел он по людным тротуарам, глазел по сторонам, курил, и на губах его кривилась улыбочка, чуть ироничная, задумчивая.
Вот ведь вселенский парадокс – светила в вышине звезда, имела власть над толпами поклонников, а нынче, закатившись, лежит в гробу, и ничего не изменилось в этом мире. Будто и не было этих глаз, заглядывающих прямо в душу с кинематографического экрана. Все суетно и преходяще, жизнь человеческая – как спичка на ветру – раз, и все, погасла, быстро растает дымок, хрустнет головешка в чьих-то невидимых пальцах. Знать бы в чьих…
Так, в раздумьях, Граевский добрался до гостиницы, поднялся к себе и, спросив кофе с коньяком, приготовился проскучать до ужина. Чтобы мягкое кресло, журнальная кипа, гаванская сигара и никаких больше мыслей. А после ужина можно будет со спокойной совестью завалиться спать, глядишь, и еще один день уйдет в небытие, отломится от бесконечной вереницы закатов и восходов. Однако скучать Граевскому не пришлось.
– Можно? – В дверь негромко поскреблись, и на пороге появилась Ксения-Марьяна, опасная фартовая наводчица. – Бонжур, миленький.
В номер вместе с ней ворвались свежесть ветра, аромат духов и сложный запах табака, шампанского, цветущей женщины.
– Привет, – удивился Граевский и, отшвырнув журнал, усмехнувшись, поднялся с кресла. – Свистеть больше не будешь?
Настроение его резко переменилось, от былой ипохондрии не осталось и следа. К черту раздумья, надо жить – пока не загасили спичку!
– Казак прислал, за уважуху. – Марьяна сбросила пальто и, оказавшись в платье от Колло – шелковая юбка до колен на двух тоненьких, шелковых же ниточках, – придвинулась к Граевскому. – Вашему столу от нашего стола. Да и я не против.
Она щелкнула застежками на платье и осталась в коротких, по последней моде, панталончиках.
– За две косых. – С видом завоевательницы вытащила заколку, мотнула головой и до пояса окуталась рыжим облаком. – Плюс такси.
Со спины она удивительно напоминала Варвару. Только со спины.
IV
В Одессу пришла весна. Лопнули, разворачиваясь в листву, почки на каштанах, с моря задули влажные ветры, офицеры, прогуливающиеся по Дерибасовской, поменяли папахи на фуражки. Что за наслаждение смотреть, как мартовское солнце играет на золоте погон, как лихие юнкера, взяв под козырек, соляными столбами врастают в землю. Сразу возникает уверенность в незыблемости бытия, в нерушимости основ иерархии, государственности и власти. А тут еще громкие голоса в толпе, возбужденные, на грани истерики:
– Через месяц, батенька вы мой, не позже, будем в Первопрестольной, с колокольным звоном, уже готовится карательная экспедиция. Будьте покойны, сведения самые достоверные.
И хорошо становится на душе, и в сердце стучится радость – может, и вправду дни товарищей сочтены и все их вшивые расхристанные полчища сгинут, пропадут, словно в страшном сне. Господи, море-то какое синее, и солнышко ласково светит, и чайки шумными ангелятами вьются над мурлычащим прибоем. Ах, весна, весна, пора надежд.
Только радоваться-то особо было нечему. Разумеется, никакой путной армии петлюровская Украина создать не смогла, и наскоро мобилизуемые ею ополченцы или сдавались красным, или разбегались, или отступали почти без сопротивления.
Союзнички французы мирно разлагались себе в обстановке праздности, веселья и разгульного легкомыслия, одесское подполье, сидя в катакомбах, содействовало этому пропагандой, агитацией и подстрекательскими выходками. Единственной боеспособной частью была бригада генерала Тимашевского, небольшая, набранная с миру по нитке – всего-то три с половиной тысячи штыков, полторы тысячи сабель при двадцати шести орудиях и шести броневиках.
Однако красные шли на Одессу неспешно, с оглядкой, опасливо присматриваясь к союзным войскам. А когда поняли, что копья никто ломать не собирается, обнаглели и бросили вперед банды атамана Григорьева, печально известного, проделавшего путь от царского офицера до народного вождя и красного командира. Официально его рати назывались бригадой Второй украинской дивизии и являли собой разномастное сборище люмпенов, гопоты, уголовников и всевозможного сброда. Воевали соответственно: отрезали у раненых головы, старикам выдирали бороды и выкалывали глаза, женщинам отрезали груди и вспарывали животы, зверски насиловали девушек и прикладами загоняли в пруд. Эх, смело мы в бой пойдем за власть Советов!
В начале марта Григорьев внезапно атаковал Херсон. Союзники с наивным легкомыслием держали здесь ослабленный гарнизон – полубатальон греков и роту французов при двух орудиях. Естественно, сдержать напор григорьевской армады они были просто не в состоянии и стали отступать. Увидев успехи красных, местные товарищи подняли рабочих, из тюрьмы выпустили арестантов, и политических, и уголовных. Воры и бандиты выступили сами, бросились экспроприировать экспроприаторов, причем при активнейшем участии разложившихся французских матросов: «Э, рюсски, рюсски! Делай революсион! Пиф-паф Деникин! Карашо!»
На кораблях союзников стало прибывать подкрепление, однако пехотинцы 176-го французского полка сначала не захотели высаживаться, а потом отказались идти в бой. Солдатский совет не велел. Стало ясно, что в создавшейся ситуации город не удержать. Войскам было приказано отходить к кораблям для посадки. Однако красные засыпали снарядами причалы, и союзникам пришлось грузиться под огнем. Херсон был сдан, французы и греки потеряли до батальона личного состава, в том числе четырнадцать офицеров.
От поражений и потерь союзное командование впало в шок и по совершенно непонятной причине тут же приказало оставить Николаев. Войска эвакуировали в Одессу, бросив без боя и город, и стопятидесятикилометровый плацдарм между Днепром и Тилигульским лиманом с сильной крепостью Очаков и двумя крупными складами оружия. А тем временем в штабе генерала д'Ансельма родилась новая, совершенно бредовая идея о создании в Одессе «неприступного лагеря» по примеру Солоникского укрепрайона.
Приступили к разметке местности, только-только начали инженерные работы, как дело застопорилось из-за нового серьезного поражения у станции Березовка. Там у союзников были сосредоточены значительные силы: две тысячи человек, шесть орудий, имелось даже пять танков, новейшее по тем временам оружие. Едва красные стали наступать, жидкими цепями, после символической, из двух орудий, артподготовки, французы оставили позиции и начали в беспорядке отходить. Вскоре отступление превратилось в бегство – союзнички пустились наутек, побросав не только танки, пушки и составы с припасами, но даже шинели.
Восемьдесят верст драпали, до самой Одессы. В довершение позора к Березовке подошла горстка добровольцев из бригады Тимановского, всего-то два эскадрона Сводного кавалерийского полка, и стремительной атакой отогнали красных, восстановив, правда ненадолго, статус-кво. Удерживать станцию и прилегающую территорию малочисленный отряд не мог, вывести танки тоже, поэтому их просто привели в негодность. Одно из бронированных чудищ Григорьев, тонко чувствуя момент, послал в Москву в подарок Ленину – нехай знает наших громодяньский вождь!
После Херсона, Николаева и Березовки французы потерялись окончательно. Семнадцатого марта генерал д'Ансельм с подачи небезызвестного Фрейденберга ввел в Одессе осадное положение, приняв всю полноту власти на себя и упразднив деникинскую администрацию.
Чуть позже прибыл главнокомандующий на востоке Франше д'Эспере и открыто выразил нежелание считаться с русскими союзниками. Губернатору Одессы Гришину-Алмазову он предписал немедленно выехать в Екатеринодар к Деникину, а на его место назначил генерала Шварца, человека инертного, ничего общего не имевшего с Добровольческой армией, к тому же запятнавшего себя службой у большевиков. Разменная пешка в чужой игре.
Все эти интриги шли уже в преддверии катастрофы. В Одессе находилось две французских, две греческих и одна румынская дивизия, тридцать пять тысяч кадровых солдат, множество артиллерии, военной техники. Ползали танки, на рейде дымили трубами дредноуты и крейсера. Этого хватило бы не только против Григорьева, но и для взятия Киева, а по большому счету – и для полной ликвидации большевизма на Украине.
Однако основная масса войск продолжала развлекаться в городе, а те, что находились на фронте, от боев уклонялись – галантные французы, благороднейшая нация, наследники традиций сикамбров и франков превратились в тупое, охваченное апатией стадо. Как в свое время под Верденом, под Седаном, под Парижем и на Марне. Фактически фронт удерживала лишь бригада Тимановского. Даже преданные всеми, бесконечно уставшие русские люди были еще в состоянии оборонять Одессу от красных банд.
Но вмешалась политика. Поражения и потери в России взбудоражили французскую общественность, стали козырными картами в игре социалистических партий. Парламент отказал в кредитах на восточные операции. Генералу д'Ансельму надо было как-то оправдываться – не мог же он сослаться на разложение собственных войск. И полетели в Париж шифровки о блестящем состоянии большевистских армад, об их подавляющем численном превосходстве, о прекрасном вооружении и боевом духе. А также о собственных непомерных трудностях, катастрофическом продовольственном положении.
Эта ложь стала последней каплей, определившей судьбы русской политики. Верховный Совет держав победительниц в Париже принял решение о выводе союзных войск из России. Кормчие мировой политики вынесли позорный вердикт «о самостоятельном изживании русскими своего большевизма», а генерал д'Ансельм, с подачи все того же Фрейденберга, приказал провести эвакуацию в фантастические сроки – в течение сорока восьми часов. И это при наличии стабильного фронта, достаточного количества войск и припасов! Вот уж воистину семена тупости, продажности и измены дали на французской ниве обильную жатву!








