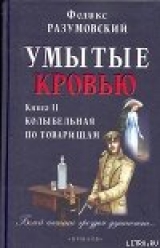
Текст книги "Умытые кровью. Книга II. Колыбельная по товарищам"
Автор книги: Феликс Разумовский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
IV
– Сюта пы тминну попольше и мучных фрикаттелек, – двинув пешку, Инара затянулась, красивое лицо ее приобрело выражение мечтательности, – та кофшичек слифок, та пифа. Шенечка, тепе шах.
Она всегда была неисправимой гастрономической извращенкой. Сало с горчицей и медом, ветчина с малиновым – непременно малиновым – вареньем, сушеная щука с топленым маслом. Впрочем, если желудок позволяет…
– Нет уж, милая, я этого есть не стану. – Страшила помешал в котле, неторопливо снял пробу и, чмокая, с видом знатока, добавил в варево перца. – И так совсем неплохо. Конечно, не тройная казацкая с живыми осетрами, раками и полупотрошенной стерлядью, но все же…
Вчера на ночь глядя он добыл фунтов десять подлещиков, плотвичек и окушков, переложенных по случаю жары крапивой, и теперь варил нечто среднее между обычной ухой, французским буйабесом и рыбной пикантной похлебкой, которую некогда готовил любвеобильный Апулей[1]. Все как полагается, с картошечкой, луком, лавровым листом, перцем.
В комнате было жарко и накурено. Печка раскалилась докрасна и воняла дегтем и окалиной, мухи, ошалев от табаку, бешено метались в сизой дымке, с улицы сквозь распахнутые окна доносились лязг лопат, стук колес на выбитых торцах, рубленые фразы агитатора. Вот ведь гад, не нашел себе другого места!
– Товарищи! Буржуазными мебелями и паркетами классовых хором будем топить пролетарские домны и рабоче-крестьянские мартены. Переплавим на штыки решетки ненавистных дворцов! Калеными железами отбросим от северной коммунии шелудивую свору белогвардейских кабысдохов! Товарищи, каждый удар кайлом – это удар по щупальцу кровавой гидры контрреволюции! Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!
– Господи, какой бред, какой же это чудовищный, нелепый бред! – Паршин нахмурился, сделал рокировку, но кардинально ничего не изменил – похоже, песенка его была спета. Это на девятнадцатом-то ходу!
Не удивительно, в шахматы Инара играла даже лучше Страшилы, и на интерес с ней никто не садился, другое дело – так, убить время. Все помнили, как Яша Брутман, эрудит, тонкий аналитик и большой знаток эндшпилей и гамбитов, как-то на спор просадил ей десять тысяч, да еще отдал колечко с бриллиантом, чтобы, кукарекая, не лезть под стол. Лучше не связываться: хоть и из ребра, а мат поставит в два счета.
– Все. – Сделав ход, Инара затянулась, сунула окурок в пепельницу и сочувственно, без тени торжества, одарила Паршина улыбкой. – Мат! Петный Шенечка, ф третий раз не фезет.
Выглядела она чудесно. Из-под кружевной шелковой блузки соблазнительно просвечивали какие-то ленточки, ноги были обуты в туфельки из золотистой кожи, в пышных волосах сверкал бриллиантами старинный черепаховый гребень. Ничего, дома можно, никто не обвинит в буржуазном разложении, а на службу Инара не ходила уже с неделю, сказалась больной по женской части. Почему не быть нарядной, если на душе хорошо? Если сердце как птица трепещет в груди, от радости захватывает дух и хочется запеть от нахлынувшего счастья? Скоро-скоро не будет ни разрухи, ни войны, ни мерзких рож товарищей, все это как страшный сон скроется в прибрежной дымке. Будет только Евгений, его губы, голос, волосы, стройное тело. На всю отмеренную жизнь, до березки над могилой.
Господи, неужели это будет? Вчера Инара и Паршин сбросили бремя блуда, стали мужем и женой. Обвенчались тайно, в церкви Знамения, что в конце Невского, напротив «Северной» гостиницы, и решили пока никому ничего не говорить – успеется, не до того, да и не любит счастье чужих ушей.
– Что ж он, паразит, так орет-то! – Зевнув, Граевский потянулся, лениво встал и выглянул в окно. – Словно клоп, от земли не видно, а сколько вони.
Жара действовала на него расслабляюще. Все сегодняшнее утро он провел в мягком кресле, с подшивкой «Бегемота»[1] на коленях, кемарил вполглаза, курил, думал о своем, иногда, посматривая на компанию, улыбался, чуть заметно и едко, – братья-сестры разбойники. Куда там Шиллеру.
– Похоже, други мои, готово. – Страшила хлебнул ухи, почмокал, крякнул и отодвинул котелок на угол печки, томиться. – Весьма приятственно, весьма, для души и тела. А где же старички-то наши? Пора бы уже и за стол.
Александр Степанович и Анна Федоровна еще с утра отправились на Мальцевский и обещали непременно быть к обеду. Вот ведь, не сидится им дома.
– Верно, не управились еще, дел много. – Сразу помрачнев, Паршин стал закуривать, от благодушного его настроения не осталось и следа – старая песня, слова все те же. Ведь сколько раз уже было говорено – куда вас только черти носят, в городе стрельба, облавы, товарищи озверели вконец. Сидели бы себе на печи, харчей, что ли, в доме не хватает? Как же, яйца курицу не учат! Будет ли Паршин-старший бока себе отлеживать, когда через какую-то неделю отбывать в Чухню, а у него еще полсклада картузами завалено! Отдать, отдать, побыстрее, хотя бы себе в убыток, в полцены. И так всю жизнь в дураках. А от судьбы не уйти, муха сядет на плешь – брык, и все, помер.
Ладно, решили не торопиться, все равно жара, есть не особо и хочется. Страшила начал накрывать на стол, Инара помогала, нехотя, с ленцой, кончиками пальцев, Граевский, засыпая, читал белиберду, зевал, Паршин хмурился, курил, время от времени выглядывал в окно. Попка-агитатор куда-то испарился, видимо, иссяк. По заросшим трамвайным рельсам медленно катилась платформа с досками, на фасаде дома, что напротив, бился на ветру открепившийся транспарант, истрепанная непогодой кумачовая полоса: «Все… борьбу… власть… изм…»
Наконец, так и не дождавшись, сели, разлили уху, открыли, невзирая на жару, бутылку шустовского. На тарелках лежало сало, ветчина, истекали жиром консервы из банок, роскошь по нынешним-то временам. Похлебка задалась, была хороша, однако же обед проходил в молчании, ели да и пили вяло, без настроения. Полковник со своими харчевался наверху, отдельно, под чутким руководством Сони – прямо-таки Совнарком, программа одна, а фракции разные.
– Пойду-ка я пройдусь. – Не дожидаясь чаю, Паршин встал, сунул в зубы папироску и с мрачным видом, с какой-то нарочитой медлительностью начал собираться – гимнастерку на все пуговицы, ремень потуже, маузер на плечо, защитную с красной звездочкой фуражку на глаза, поглубже.
Он еще не хотел признаться самому себе, что случилась беда, с детской верой в чудо тянул время – вдруг сейчас раздастся стук и войдут живые, невредимые отец с Анной Федоровной, махнут с устатку по чарке, похваливая, примутся за уху. Не пришли.
– И мне, пожалуй, моцион не повредит. Женя, я с тобой. – Вымученно улыбнувшись, Страшила тоже встал, с фальшивой беззаботностью взглянул на Инару: – Не обессудь, милая, не мужское это дело – посуду мыть.
Всем своим видом он старался показать, что ничего страшного не случилось, ну опоздали к обеду дед с бабкой, эко дело, с кем не бывает, сейчас заявятся.
На Невском было суетно и шумно. Там на буграх земли, на кучах мусора, булыжников и торцов копошились сотни людей, махали неумело лопатами и ломами. Сгорбленные старики с породистыми, презрительно удивленными лицами, заплаканные дамы в изящных шляпках и юбках из портьер, какие-то бледные личности с остатками щегольства в одежде. Это буржуазия, ликвидируемая как класс, отбывала трудовую повинность, рыла окопы и укрепления, строила блиндажи. Рядом покуривали матросики, поигрывая наганами, рассматривали женщин, кричали по-революционному, с задором:
– Давай, давай, навались, папаша, не могилу копаешь! Глыбже копай, антиллигент!
По тротуарам вдоль домов рассеянно бродили прохожие, все какие-то оборванные, в одежонке из диванных обивок, с кошелками за спиной. Заторможенно, словно сонные, они оглядывались по сторонам, примеривались к очередям у раздаточных пунктов, вздыхали тяжело и тащились дальше, шаркая по грязным мостовым натруженными, обмотанными в ковровые обрезки ногами. Куда, зачем…
С треском, подскакивая на торцах, пронесся мотоциклист, весь в черной коже, при маузере, усатый, строгий, уже на Знаменской вильнул рулем, выругался семиэтажно и с грохотом, не удержав баланс, свалился в лужу. Мешочники, что полеживали на площади, загалдели, оживились – ну-кось, насмерть али как? Увидев, что поднялся, сплюнули разочарованно, стали дальше пялиться на привокзальную возню, на умственные классовые призывы, прикидывая, чего везти вперед – муки, сала, пшена или овощ какой огородный, трижды едри его в дышло. Нехорошо было на Невском, суетно и шумно.
Только у Мальцевского рынка было неизмеримо хуже, несмотря на людскую неподвижность и онемевшие, будто прикушенные, языки. Там стояла тишина, нарушаемая лишь полчищами мух, сдавленными всхлипами да негромким колесным скрипом. Пьяный мужичок, управлявшийся с тележкой, время от времени вздыхал, сплевывал, матерясь, тряс лысой головой.
– Ишь, настреляли, бусурмане, ироды. В такую-то жару куды девать? Куды девать, растудыть твою в дышло?
Под ветвистой липой, в холодке, он делал остановку, сбрасывал мертвые тела и все так же неспешно, тягуче сплевывая, вез тележку назад, на рынок, чтобы притащить следующую пару трупов – их на земле уже лежало с десяток, окровавленных, полураздетых, облепленных мухами. Люди вокруг крестились, всхлипывали, в гуще толпы перешептывались, тихо, одними губами:
– Из пулемета… Чоновцы… Не разбирая, всех под корень, в упор…
Не было ни криков, ни угроз, ни ропота, ни проклятий, все происходило с какой-то страшной обыденностью, размеренной безысходностью, рожденной равнодушием и страхом. Слава богу, не меня. Пронесло. Авось и дальше Господь не выдаст, свинья не съест, не доберутся комиссарики, депутаты рачьи[1]. У, чтоб их…
На небе не было ни облачка, парило. Солнце пекло немилосердно, воздух загустел от жары, а мужичок все возил и возил свою тележку, и росла гора трупов под ветвями тенистой липы. Чернела, запекаясь, кровь, мерзко жужжали мухи, крупные, отъевшиеся, жирно отливающие зеленым.
Паршин-старший и Анна Федоровна отыскались в цветочном ряду неподалеку от входа. Они лежали рядышком на грязном мраморе, два жалких старческих тела со страшно изуродованными головами – пулеметчик бил в упор и взял слишком высоко. С покойного уже сняли сапоги, на Анне Федоровне остались лишь сорочка и теплые, не по сезону, панталоны, сухонькие ноги с подагрическими ступнями были бысстыдно раскинуты, лицо покрывала сплошная шевелящаяся маска. Александр Степанович держал мертвой хваткой сумку, из которой успели утащить весь табак.
– Эх, отец, отец. – Не обращая внимания на мух, Паршин наклонился над трупом, хотел закрыть глаза, но не смог, не было их, судорожно глотнул, распрямившись, повернулся к Страшиле: – Петя, надо хоронить скорей, жарко.
Хриплый голос его был непривычно тверд и резок, бледное лицо окаменело, застыло, казалось, он сразу постарел на много лет.
Александра Степановича и Анну Федоровну похоронили на следующий день в Лавре. На кладбище было пасмурно и свежо, с неба, не переставая, сочилась морось, ветер шелестел кронами деревьев, гулял меж невских берегов, рябил в частую складку воду. Похоже, бабьему лету наступил конец.
Мокрые гробы с плеском опустились в могилу, пригоршни земли грязью растеклись по крышкам, с чавканьем лопаты зачерпнули вязкую ингерманландскую почву. Ну вот и все, теперь лишь православный крест, черви да хорошо, если память людская. А с неба все так же занудно капало, шумели на ветру желтеющие липы, промокшие копальщики обрадовались мзде и весело пошли отогреваться водкой. Ничто не изменилось в этом мире, жизнь продолжалась. Долго еще мок Паршин на невском берегу, смотрел невидяще на свежий холмик, и лицо его было белым, как алебастр. А после поминок он подошел к полковнику и, кивнув на Инару, сказал:
– Мы уходим. Говорят, под Оршей можно без труда перейти границу. – Негромкий голос его вдруг дрогнул, уперся в горловой спазм, и губы судорожно искривились, обнажив крепкие зубы и вишневые десны. – Это окончательное решение. Товарищей надо давить как гнид. Я хочу крови.
Это был оскал матерого, истосковавшегося без дела убийцы.
– Хозяин барин. Только, голубчик, политика до добра не доводит. Борьба за жизнь – это да, а вот борьба классовая… – Полковник невозмутимо затянулся, шумно выпыхнул сигарный дым и кивнул Фролову, вяло занимавшемуся балыком: – Дмитрий Васильевич, будьте добры, отмусольте молодому человеку его долю.
Умудрен и многоопытен был Паныч Чернобур, отлично разбирался в людях. Добра в банде – не уволочь, на всех хватит, а бешеных собак лучше не злить, тем более накануне отъезда. И когда же наконец этот чертов Тыртов достанет свой проклятый подшипник?
Граевский и Страшила сидели молча, словно в воду опущенные, понимали, что отговаривать Паршина бесполезно – он уже сделал свой выбор. Однако и ехать вместе с ним к Деникину, проливать кровь за белую идею они не собирались – жид, конечно, за компанию удавился, но… Туда ему и дорога. А им в другую сторону.
Утром следующего дня они посадили Паршина и Инару на московский поезд. По документам те значились супругами Орловыми, сотрудниками пензенской ЧК, так что с местами проблем не возникло, военный комендант сразу выделил купе в приличном мягком пульмане.
– Ну вот, хоть поедете по-человечески. – Страшила тяжело вздохнул, зачем-то снял фуражку, покрутил, опять надел. – А помнишь, как тащились с Румынского-то? В сортире?
Кадык его ходил ходуном, низкий голос предательски срывался.
– Да, да, еще спали на толчке, – закивав с преувеличенной веселостью, Граевский закурил, жадно затянулся, пальцы его дрожали, – чуть дуба не врезали потом.
Ему вдруг захотелось бешено встряхнуть Паршина за плечи, крикнуть что есть силы в самое его ухо: «Женя, не дури, мертвых не вернешь, так зачем лезть в пекло! Чего ради? Женя…»
Но он не стал. Вытер повлажневшие глаза, бросил недокуренную папиросу, сказал чужим, плохо повинующимся голосом:
– Не забывай, Женя. Ничего не забывай.
– Не забуду, командир. – Паршин хотел улыбнуться, но не получилось, лицо его по-прежнему было как страшная гипсовая маска, экзема на лбу воспалилась. Инара рядом с ним казалась ослепительно красивой и молодой. Кусая губы, она стояла молча, борясь с подступающими слезами, – сердцем чуяла, что расстаются навсегда. Какое же это страшное слово – навсегда.
– Что ж, давайте прощаться. – Услышав гудок, Паршин встрепенулся, глянул на часы и выщелкнул окурок далеко под колеса. – Не поминайте лихом.
В голосе его слышались грусть, затаенная боль и плохо сдерживаемое нетерпение. Крепко обнялись, молча, до боли сжав веки, будто каждый отдирал что-то с мясом, резал по живому в своем сердце. Снова проревел гудок, паровоз махнул кривошипами, вагоны дернулись, ударились буферами, и состав медленно поплыл вдоль перрона.
– Вот, держи, на память. – Торопясь, боясь не успеть, Граевский что-то протянул Инаре, та улыбнулась, взяла, стала по ступенькам подниматься в вагон.
– Спасипо, спасипо!
– Бог даст, свидимся. – Паршин ловко полез за ней следом, уже в дверях обернулся и громко крикнул: – Не на этом, так на том свете!
Паровоз наддал, поезд выполз из «царского павильона» и, набирая ход, двинулся к Москве. Стучали колеса на рельсовых стыках, лампадкой теплился фонарик в хвосте. Вот он мигнул на прощанье и пропал. Навсегда.
Уже в купе Инара разжала пальцы, развернула влажный, не первой свежести платок. На ее ладони лежал петличный крест с белыми лучами и красным медальоном в центре. На нем святой Георгий поражал копьем змея.
Глава седьмая
I
Было утро. Из окошечка настенного хронометра «Генрих Мозер» выскочила кукушка и прокуковала десять раз. «Жаль, очень жаль, – Глеб Саввич Мартыненко, потомственный дворянин и пехотный полковник, глянул на птицу с сожалением, тяжело вздохнул и элегантным жестом стряхнул с сигары пепел, – в клетку, увы, не пересадишь и с собой не возьмешь. А тащить в Финляндию гроб с циферблатом – себе дороже».
В комнате царил полумрак, окна были зашторены. Пахло керосином, свежемолотым кофе, ветчиной и сильнее всего французскими духами – в углу на примусе Сонька готовила завтрак. Как всегда нарядная, в кружевном батистовом капоте.
«Подмывается она ими, что ли. – Мартыненко чихнул, нахмурился и, поправив на носу пенсне, с резкостью перевернул глянцевую страницу. – Все, хватит тянуть. Сегодня же. Надоела».
Сидел он в одних подштанниках в атласном кресле, курил натощак сигару и в который уже раз перечитывал шедевр адмирала Мэхэна «Господство на море». Нет, не в связи с завтрашним отплытием, так, для отдохновения души. Хотя знал, что увлечение этой книгой не довело до добра ни императора Николая, ни кайзера Вильгельма. Что с них взять, венценосные недоумки.
Соня между тем с проворством опытной горничной накрыла стол – тосты, яйца, жареная ветчина, налила кофе, плеснула рому.
– Глеб Саввич, завтрак!
Мелодичный голос ее звучал устало, был каким-то мятым, неестественным и ломким от затаенного, тщательно скрываемого страха.
– Мерси. – Отбросив книгу, полковник пересел за резной, с богатой инкрустацией стол, тяжело вздохнул: – Вот чертов Тыртов, нет бы завел себе посудину побольше, ничего толком не забрать.
– Перцу хватает? – Мило улыбнувшись, Соня присела с краю, во всей ее позе чувствовалась готовность вскочить и бежать к керосинке. – Рому добавить?
– Не мельтеши, сиди ровно. – Полковник засопел, снял пенсне и принялся за еду, жадно, со звериной торопливостью, мясо он не кусал, рвал зубами и, почти не жуя, быстро проглатывал. – Ветчина жесткая, как подошва. Кофе дерьмо.
Его бакенбарды, усы и подусники находились в постоянном движении, казались существующими сами по себе, живыми. Смотреть на Глеба Саввича было неприятно и страшно.
После завтрака полковник подобрел, скомкав салфетку, поднялся и снова припал к кладезю мудрости, к любимой книге. Соня, управившись с посудой, присела на фигурный стульчик и, чтобы как-то убить время, взяла в руки шитье. Ее длинные пальцы в бриллиантовых кольцах дрожали, путали шелковую нить, время от времени она поднимала голову и, оглядывая комнатный уют, вздыхала тяжело и неслышно. А посмотреть было на что.
На стенах подлинники в золоченых рамах, мебель – из палисандра, под старину, с бронзой, белый рояль, прикрытый занавесью из парчи. Все такое знакомое, дорогое, определенное на свои места с заботой и любовью. Привычный безопасный мирок, осколок прежней безоблачной жизни. Теперь все это коту под хвост.
– Господи, что ж это за жизнь такая. – Уколовшись до крови, Соня отбросила шитье, пососала палец и, не вставая, наугад, вытянула с полки томик – оказалось, Андрей Белый.
Кругом, кругом
Зрю отблеск золотистый
Закатных янтарей,
А над ручьем
Полет в туман волнистый
Немых нетопырей.
– Ах, какой стиль, какой слог! – У Сони от прилива чувств даже выступили слезы, холодом зашлись пальцы на руках – она была натурой возвышенной, склонной к романтизму и восторженности, с коими боролся постоянно жизненный, приобретенный практицизм. Может быть, благодаря тонкости характера, врожденной мечтательности, тяге к прекрасному так и сложилась ее жизнь, к слову сказать, совсем не безоблачная. Родом Соня была из Казани, из семьи купцов Миловидовых, первых миллионщиков, известных по всей Волге. Росла без матери, при отце старообрядце и до семнадцати лет жила, словно катилась на саночках по проторенному зимнику – не тряско, не валко да и не свернуть никуда, колея глубока.
Палаты двухэтажные у площади рядом с пожарной управской каланчой; отец в длиннополом сюртуке, стриженный по-родительски в скобку, всякий день в рядах, по торговой части; в Великий пост – щи со снетками, кисель овсяный с суслом, с сытой, присол из щуки, огнива белужья, в праздники – кульки с яблоками-крымками, пряниками, орехами грецкими, американскими, волошскими. Гимназия, сентиментальные подруги, обожание, по обычаю, преподавателя словесности, первая любовь, чтение переводных романов Маргерита и Гамсуна, вечное соперничество с красавицей Развалихиной из параллельного класса.
Поместье на Верхнем Услоне, корабельные сосны, луга, величавая Волга, уходящая в необъятные дали, кучевые облака словно пена на багряном горизонте. Томление весны, бессонницы по ночам, страстное поклонение театру – Качалин, Шаляпин, Мамонт Дальский, ах! Девичье, до самозабвения, увлечение заезжими артистами… Вот то-то и оно, что до самозабвения. В семнадцать лет Соня Миловидова влюбилась в трагика Соловьевского-Разбойникова, не так чтобы уж очень знаменитого, отыгравшего по сезону в Эрмитаже и у Корша, но писавшегося на афишах с красной строчки. Бросила и гимназию, и родительский кров, позабыв обо всем на свете, уехала с артистом в Москву. Поначалу все было так романтично – театральная богема, ночные ресторации, даже крохотная роль в какой-то пьесе – «Вот свежие артишоки, мон сеньор».
Затем началась проза жизни. Нехватка денег, дешевые номера, неустроенность и сумятица кочевого существования. Фамилия у Соловьевского-Разбойникова оказалась скучной, отдающей плесенью – Зотов. Он редко мыл ноги, но часто менял любовниц и имел патологическую страсть к карточной игре. Кончилось все скверно: трагик залез в долги и позорно бежал в неизвестном направлении. Соня осталась одна в огромном сумасшедшем Петербурге. Ни знакомых, ни друзей, ни денег, только плод, напоминающий о себе утренней рвотой, да невеселая перспектива – панель, мутный свет фонаря и поблескивающие в его лучах пуговицы городового. Вернуться же домой в двухэтажные палаты у пожарной каланчи было совершенно невозможно – Миловидовы все из староверов, нрава крутого, отец бы не простил, скорее утопил бы в Волге.
И неизвестно, куда бы зашвырнула Соню жизнь, если бы не Семен Петрович Варенуха, знаток и почитатель женской красоты. Вытравил бесплатно плод, пригрел, оставил при себе и не ошибся – обрел в Сонином лице и горничную, и кухарку и полуночную забаву. Жаль только, недолго наслаждался ее обществом, пропал куда-то.
«Нуден был старичок, да хоть не страшен, – вздохнув, Соня отложила книгу, вытащила папироску из черепаховой коробочки и украдкой покосилась на полковника, – не то что этот. Зверь».
Глеб Саввич, истомленный чтением, кемарил, сидя в кресле, храпел заливисто и громко, улыбаясь во сне. Завтра наконец-то все, ку-ку, финита, последний звонок. К чертовой матери отсюда, к едрене фене.
«Господи, вылитый вурдалак, напился кровушки – и спать. – Манерно закурив, Соня выпустила дым, шевельнула пальцами, переливающимися бесценным блеском, вздохнула брезгливо и обреченно. – Как же низко я пала! Живу со зверем, с исчадием ада, с разбойником с большой дороги. Растоптана, изломана, брошена в грязь. На этих кольцах еще алеет кровь безвинных жертв, канувших в небытие по воле злого рока…»
Себе в этот миг она казалась героиней из спектакля «Бездна», благородной девушкой из хорошей семьи, оступившейся и попавшей на неверную дорожку. Тоже слезы, нравственный катаклизм, растерзанная любовь, неуверенность во всем. Тем не менее в пьесе, как и положено по жанру, благополучный финал. Ах, суждено ли так в жизни?
«Господи, храпит, будто кончается». Соня сунула окурок в пепельницу, поднялась, зевнула и стала собираться. Кольца, серьги, платиновую браслетку – в шкафчик, подальше от греха, кружевной капот – на плечики и за ширму, чтобы не помялся. Французское белье, дорогое, надушенное «Гонгруазом», пожалуй, можно оставить, наверх кофтенку дерюжную и плюшевую, из занавеси, юбку. Чертова совдепия!
– А? Что? Куда? – Спавший чутко, словно зверь, полковник проснулся, лапнул машинально рукоять нагана. – Ты чего?
– В церковь схожу, свечку поставлю. – Соня вздрогнула, улыбнулась, поправила атласный, в кружавчиках, пояс. – На Екатерининский.
Обнаженная, в одних чулках, она была великолепна – смуглая бархатистая кожа, ладная шапка волос, стройное, классических пропорций тело.
– А-а, давай. К обеду не опаздывай, смотри. – Полковник отнял руку от нагана, кивнул и снова захрапел, противно и раздражающе. Даже не взглянул, как Соня надевает соблазнительные, с пикантным разрезом панталоны. А ведь поначалу души в ней не чаял, ножки целовал, на столе голой заставлял танцевать, слюни пускал: «Диана! Церцея! Артемида! Божественная!» Теперь ночами не приходит, ведет себя по-скотски и замечает, лишь когда хочет жрать, старый, похотливый, мохнорылый козел.
«Ну, ничего, мне бы только выбраться отсюда». Мстительно усмехнувшись, Соня надела серенькое поношенное пальто, шляпку какую-то несуразную, попроще, и, взяв ключи, с яростью, зло хлопнула дверью – темень, вонь, окурки, что за жизнь! Да еще морщинки эти в уголках рта, горестные, едва заметные, раньше их что-то не было видно.
На улице было пасмурно, серо. На провалившихся торцах валялись лошадиные кости, осенний воздух дрожал от звуков труб – на набережной Фонтанки духовой оркестр выплевывал бравурное – «Интернационал», «Варшавянку», «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Продрогшие музыканты под сенью кумача угрюмо дули в начищенную медь, задавая ритм копошащейся в грязи буржуазии. За дирижера был балтиец с маузером.
«Господи, да что же это, сами себе могилу копают». Соня вздрогнула, быстро перекрестилась, вздохнула и бочком-бочком, обходя ямы и грязь, двинулась по Невскому, непроизвольно читая на ходу: «Высший народный партийный университет», «Студия революционной рабочей драмы», «Академия красной пролетарской музыки». Вывески, кособокие, с ошибками, выглядели как насмешка. Это же надо – «Особые рабоче-крестьянские курсы классовой хореографии имени товарища Клары Цеткин»!
«Хорошо хоть, ни Пушкин, ни Толстой не дожили». Не доходя до магазина «Зингер»[1], Соня свернула на набережную канала и мимо гнутых фонарей, вдоль чугунной ограды направилась к Михайловскому саду, туда, где как-то сумасброд-народоволец мучительно прикончил помазанника Божьего[2]. Вода в канале была грязна, на поверхности плавал мусор, какие-то тряпки, ошметки пены и нечистоты. Унылый лодочник, плеща веслом, выуживал обломки досок, складно костерил божественную Троицу, сморкался и харкал за борт. Со стороны он чем-то напоминал Харона.
«Скорей бы отсюда. – Соня отвернулась, прибавила шагу и попыталась представить себе сосны, хрустальные ручьи, звенящие меж камней, тучных коров на зеленых лугах – Финляндию. – Конечно, не Париж, но ведь и не совдеп, ни тебе дерьма на улицах, ни красных тряпок на домах. Неужто завтра все это останется в прошлом?» Перекрестившись на ходу, Соня всхлипнула, поднялась по ступенькам храма, вздохнула тяжело и, открыв дверь, окунулась в душный полумрак.
Внутри густо пахло ладаном и воском, свет скупо лился сквозь витражные оконца, народу было мало – все разошлись, литургию уже отслужили.
– Во имя Отца, Сына и Святого Духа. – Снова осенив себя знамением, Соня зажгла свечу и медленно пошла по церкви, тщательно следя, чтобы не навели порчу. Лихих людей хватает, могут иголку бросить под ноги, или обойти против часовой стрелки, или сделать окрест, перекрестив левой рукой шиворот-навыворот. Время-то бесовское. – Приснодева наша, святая, непорочная. – Чуть слышно шепча молитву, Соня подошла к иконе Богородицы, выбрала подсвечник, облюбовала маленькое, в размер своей свечи, свободное гнездо и вдруг услышала:
– Милочка, огонька не найдется?
Голос был женский, низкий, с хрипотцой, напористый, – так разговаривают цыганки, не сбавляющие цену торговки на рынке и уверенные в себе проститутки.
Позволить кому-то зажечь свечу от своей? Да уж лучше наступить на иголку!
– Посмотрите, сколько свечек горит вокруг. – Соня обернулась с вежливой улыбкой и внезапно замерла, забыла и про порчу, и про сглаз, и про святую Богородицу. – Ты? Здесь?
Бывают же на свете чудеса. Перед ней, криво усмехаясь, стояла ее давняя соперница, первая красавица женской гимназии номер два Нинель Развалихина. Но Боже, в каком виде! Короткое, до колен, пальто, туфли на таких высоких каблуках, что едва гнутся ноги, легкомысленная, прямо-таки проституточья шляпка. А накрашена-то, намазана, словно сельская потаскушка из водевиля «Семь мужей»!
– Я тебя, Миловидова, сразу узнала. – Нинель торжествующе улыбнулась, с какой-то нарочитой брезгливостью окинула Соню взглядом, фыркнула довольно. – Хотя мудрено, выглядишь полнейшей пролетаркой. Ну что, может, пойдем на воздух, почешем языки? Всех грехов не замолишь, каждому попу не дашь.
Она сунула свечу, словно окурок, в гнездо подсвечника, подхватила Соню под руку и чуть ли не силком потащила ее из церкви.
– Вот это встреча! – Чувствовалось, что ей хочется продлить свой триумф до бесконечности.
Все так же под ручку спустились с крыльца, пошли вдоль ограды Михайловского сада. Над кронами кружились галки, деревья желтели, теряли листву, – осень.
– Так ты, Миловидова, как живешь-то? – Развалихина остановилась, вытащила папиросницу и, раскрыв, протянула Соне. – Впрочем, какая теперь жизнь. И пощупаешь – мокро, и понюхаешь – говно. – Она закурила, выпустила дым из точеных, подкрашенных изнутри кармином ноздрей. – А я офицерская вдова. Веселая. В середу – с переду, в пятницу – в задницу.
Глаза у нее были с длинными ресницами, нежно-василькового цвета, очень красивые, но совершенно пустые, словно у большой механической куклы из витрины магазина игрушек, что некогда торговал на Невском неподалеку от Думы.
– Не буду, бросила. – Соня качнула головой и, лишь сейчас заметив, что держит потухшую свечку, сунула ее в карман. – Ты, Развалихина, случаем, не знаешь, как мой батюшка? Мы ведь так ни разу и не виделись, даже не переписываемся.
Ей сразу вспомнился Соловьевский-Разбойников, его рыжеватые усы, самоуверенные манеры, сальные шуточки под хмельком. Бросил ее, гад, в неоплаченном номере, сбежал как последний подлец. Знал ведь, что беременна.
– Жив ли, нет, не знаю, а дом, амбары, склады – сожгли. Все сгорело дотла, у моего, кстати, тоже. – Развалихина вздохнула, бросила недокуренную папиросу и сразу достала следующую. – Эх, Миловидова, здесь толку не будет, совдепия переломанного хрена не стоит. Только мне все это уже как прошлогодний триппер, завтра отбываю в Финляндию.
– В Финляндию? – От смутного предчувствия Соня вздрогнула, но не подала виду, улыбнулась равнодушно и недоверчиво. – Скажешь тоже, в Финляндию.
Развалихина ловко выщелкнула окурок и улыбнулась победносно с видом Клеопатры, сумевшей объегорить Цезаря.
– Да за мной с лета еще бобер один ухлестывает, шикарный, зовут его смешно – Глебушком Саввичем. Не Савва Морозов, конечно, но рыжья, хрустов… Завтра отчаливает и меня забирает с собой, ты представляешь, Миловидова, завтра – все. Эй, Миловидова, ты куда, эй? Миловидова, Миловидова! Ну и хрен с тобой, дура!








