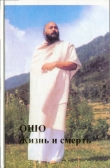Текст книги "Капитализм и шизофрения. Книга 1. Анти-Эдип"
Автор книги: Феликс Гваттари
Соавторы: Жиль Делез
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
Лоуренс хорошо показывает, что сексуальность, включая и целомудрие, является делом потоков, «бесконечностью различных и даже противоположных потоков».
Все зависит от того, как эти потоки – каков бы ни был их объект, источник и цель – кодируются и срезаются согласно постоянным фигурам или же, напротив, захватываются в цепочки раскодирования, которые перекраивают их по подвижным и не фигуративным точкам (потоки-шизы). Лоуренс воюет с нищетой неизменных образов тождества, фигуративных ролей, которые оказываются множеством запруд, в которые заводятся потоки сексуальности: «невесты, любовница, жена, мать» – можно также сказать «гомосексуалисты, гетеросексуалы» и т. д., – все эти роли распределены эдиповым треугольником «папа – мама – я», поскольку «я» представления, как предполагается, определяется в связи с представлениями «отец-мать» посредством фиксации, регрессии, принятия, сублимации… И каким правилом все это руководствуется? Правилом большого Фаллоса, которым никто не владеет, правилом деспотического означающего, оживляющего самую ничтожную борьбу, правилом отсутствия, общего для всех взаимных исключений, в которых потоки иссякают, иссушенные нечистой совестью и рессентиментом. «Помещать женщину, к примеру, на пьедестал или же, напротив, лишать ее всякой значимости, делать из нее образцовую уборщицу, мать или образцовую жену – это лишь способы уклониться от реального контакта с ней. Женщина не изображает нечто, у нее нет отдельного и определенного личностного облика… Женщина – это странное и мягкое дрожание воздуха, которое отправляется, бессознательно и скрытно, на поиски другого дрожания, которое ему соответствует. Или это тягостное дрожание, режущее ухо и наводящее уныние, которое продвигается, раня всех тех, кто оказывается в пределах его действия. И то же самое можно сказать о мужчине»[330]. Не стоит слишком поспешно высмеивать пантеизм потоков, присутствующий в подобных текстах, – не так просто даже природу, даже пейзажи дезэдипизировать в той степени, в какой это умел делать Лоуренс. Фундаментальное различие между психоанализом и шизоанализом состоит в следующем – дело в том, что шизоанализ доходит до нефигуративного и несимволического бессознательного, до чистого абстрактного фигурного в том смысле, в каком говорят об абстрактной живописи, до потоков-шиз или реального-желания, взятых ниже уровня минимальных условий тождества.
А что делает психоанализ и что в первую очередь делает Фрейд, если не удерживает сексуальность под смертоносным игом маленького секрета, находя при этом медицинское средство для его обнародования, для того, чтобы сделать его секретом Полишинеля, аналитическим Эдипом? Нам говорят: смотрите, все нормально, все люди такие, но при этом по-прежнему создается та же самая унизительная и мерзкая концепция сексуальности, та же самая фигуративная концепция, которая есть и у цензоров. Конечно, психоанализ не совершил собственной художественной революции. Есть один тезис, который очень многое значит для Фрейда, – либидо инвестирует общественное поле как таковое только при том условии, что оно десексуализируется и сублимируется. Он придает такое значение этому тезису именно потому, что он исходно стремится удержать сексуальность в узких рамках Нарцисса и Эдипа, Эго и семьи. Поэтому-то любое либидинальное сексуальное инвестирование, обладающее общественной размерностью, как ему кажется, свидетельствует о некоем патогенном состоянии, «фиксации» на нарциссизме или «регрессии» к Эдипу и доэдиповым стадиям, которыми будет объясняться и гомосексуальность как усиленное влечение, и паранойя как средство защиты[331]. Мы же, напротив, видели, что либидо в любви и сексуальности инвестирует именно само общественное поле в его экономических, политических, исторических, расовых и других определениях – либидо беспрестанно бредит Историей, континентами, королевствами, расами, культурами. Дело не в том, что достаточно поставить исторические представления на место семейных представлений фрейдовского бессознательного или даже архетипов коллективного бессознательного. Речь идет только о констатации того, что наши выборы в любви находятся на перекрестье «дрожаний», то есть они выражают коннекции, дизъюнкции, конъюнкции потоков, которые проходят сквозь наше общество, входят в него и выходят, связывая его с другими обществами – древними или современными, далекими или исчезнувшими, мертвыми или только рождающимися – с Африкой и Востоком, всегда соединяемыми потайной нитью либидо. Это не геоисторические фигуры или статуи, хотя нашей культуре ученичества проще иметь дело с ними, с книгами, историями и репродукциями, чем с мамашей. Но потоки и коды социуса, которые ничего не изображают, которые только указывают зоны либидинальной интенсивности на теле без органов, – коды и потоки, которые испускаются, схватываются, перехватываются существом, которое мы отныне детерминированы любить, неким знаком-точкой, сингулярной точкой во всей сети интенсивного – тела, которая соответствует Истории и дрожит вместе с ней. Никогда Фрейд не заходил так далеко, как в «Градиве»[332]…Короче говоря, наши либидинальные инвестирования настолько хорошо скрыты, настолько бессознательны, настолько хорошо прикрыты предсознательными инвестированиями, что они проявляются только в сексуальных выборах нашей любви. Любовь сама по себе не является революционной или реакционной, но она – признак реакционного или революционного характера общественных инвестирований либидо. Сексуальные желающие отношения мужчины и женщины (или мужчины и мужчины, женщины и женщины) являются признаком общественных отношений между людьми. Любовь и сексуальность – экспоненты или показатели, на этот раз бессознательные, либидинальных инвестирований общественного поля. Всякое любимое или желаемое существо значимо в качестве агента коллективного высказывания. И вовсе не гарантировано (как считал Фрейд), что либидо должно десексуализироватьсяи сублимироваться, чтобы инвестировать общество и его потоки, ведь, напротив, любовь, желание и их потоки открыто демонстрируют свой непосредственно общественный характер несублимированного либидо и его сексуальных инвестирований.
– Тем, кто ищет тему для диссертации по психоанализу, следовало бы посоветовать заниматься не пространными рассуждениями об эпистемологии анализа, а скромными и строгими темами, как-то теория служанок или домработниц в текстах Фрейда. Вот где можно найти настоящие указания. Ведь именно в теме служанок, широко представленной в случаях, изученных Фрейдом, выявляется замечательное колебание его мысли, слишком быстро разрешаемое в пользу того, что должно было стать психоаналитической догмой. Филипп Жирар [Philippe Girard] в своих неопубликованных заметках, которые, как нам кажется, представляют немалое значение, ставит эту проблему на разных уровнях. Во-первых, Фрейд открывает «своего собственного» Эдипа в сложном общественном контексте, в котором в игру вводятся старший сводный брат из богатой семейной ветви и служанка-воровка как бедная женщина. Во-вторых, семейный роман и фантазматическая реальность в целом будут представлены Фрейдом как действительный сдвиг социального поля, в каковом сдвиге родители замещаются лицами более высокого или более низкого ранга (сын принцессы, украденный цыганами, или сын бедняка, подобранный представителями буржуазии); это делал уже и сам Эдип, когда считал себя человеком низкого происхождения, имея приемных родителей. В-третьих, «человек с крысами» не только помещает невроз в общественное поле, целиком и полностью определенное в военном ключе, он не только заставляет его вращаться вокруг пытки, которая приходит с Востока, но в самом этом поле он перемещает невроз между двумя полюсами, заданными богатой женщиной и бедной женщиной, странным образом бессознательно связанными с бессознательным отца. Лакан первым выделил эти темы, которых уже достаточно, чтобы поставить под вопрос всего Эдипа; он же демонстрирует существование «общественного комплекса», в котором субъект иногда стремится принять свою собственную роль, но ценой раздвоения объекта желания на богатую женщину и бедную женщину, а иногда обеспечивает единство объекта, но ценой раздвоения «своей собственной общественной функции» – на другом конце цепочки. В-четвертых, «человек с волками» демонстрирует явный вкус к бедной женщине, крестьянке на четвереньках, стирающей белье, или же служанке, моющей пол[333]. Итак, фундаментальная проблема всех этих текстов состоит в следующем – следует ли видеть во всех этих общественно-сексуальных инвестированиях либидо и выборах объектов простые производные семейного Эдипа? Следует ли любой ценой спасать Эдипа, интерпретируя их как защиту от инцеста (семейный роман или желание самого Эдипа быть сыном бедных родителей, что сняло бы с него вину)? Следует ли понимать их как компромиссы и заменители инцеста (пример «Человека с волками», в котором крестьянка выступает заменителем сестры, у которой то же самое имя, а человек на четвереньках, занятый какой-то работой, – заменителем матери, замеченной во время коитуса; в «Человеке с крысами» можно увидеть скрытое повторение родительской ситуации, что может обогатить или расширить Эдипа четвертым «символическим» термином, обязанным объяснить те раздвоения, посредством которых либидо инвестирует общественное поле)? Фрейд с уверенностью выбирает именно это направление; с тем большей уверенностью, что, как он сам признается, ему нужно свести счеты с Юнгом и Адлером. И, отметив в случае человека с волками существование «склонности унижать» женщину как объект любви, он делает вывод, что речь идет только о «рационализации», что «реальное глубинное определение» приводит нас все равно к сестре, к мамочке, которые только и могут считаться «чисто эротическими мотивами»! Снова запевая вечную песню Эдипа, эту вечную колыбельную, он пишет: «Ребенок встает над общественными различиями, которые для него значат немногое, и он причисляет людей более низшего положения к ряду своих родителей, когда эти люди любят его так же, как его любили родители»[334].
Мы все время сталкиваемся с ложной альтернативой, в которую Фрейд был заведен Эдипом, найдя впоследствии подтверждения в полемике с Адлером и Юнгом: он говорит, что или вы оставляете сексуальную позицию либидо ради индивидуальной или общественной воли к власти (или ради доисторического коллективного бессознательного), – или же вы признаете Эдипа, делаете из него сексуальную привязку либидо, а из папы-мамы «чисто эротический мотив». Эдип – оселок чистого психоаналитика, предназначенный для доводки священного ножа удавшейся кастрации. Но каким могло бы быть другое направление, на какое-то мгновение открывшееся Фрейду в теме семейного романа, прежде чем захлопнулась эдипова ловушка? То направление, которое находит, пусть и гипотетически, Филипп Жирар, – нет семьи, в которую не были бы встроены вакуоли, через которую не проходили бы внесемейные срезы, благодаря которым либидо устремляется вовне, сексуально инвестируя все несемейное, то есть другой класс, определенный эмпирическими критериями «более богатого или более бедного», а иногда и обоими сразу. Большой Другой, необходимый для позиции желания, – быть может, это общественный другой, общественное различие, воспринимаемое и инвестируемое в качестве не-семьи в лоне самой семьи? Другой класс никогда не схватывается либидо в качестве увеличенного или уменьшенного образа матери, – а в качестве чужака, не-матери, не-отца, не-семьи – признака того, что есть не-человеческого в поле и без чего либидо не смогло бы собрать свои желающие машины. Классовая борьба развертывается в центре проверки желания. Несемейный роман является производным Эдипа, а Эдип является отклонением от семейного романа и, тем самым, от общественного поля. Нет смысла отрицать важность родительского коитуса и позы матери; однако, когда этой позой она напоминает мойщицу полов или же животное, что позволяет Фрейду сказать, что животное или служанка обозначают мать независимо от общественных или родовых отличий, а не заключить, что мать тоже функционирует в качестве чего-то отличного от матери и вызывает в либидо ребенка некое дифференцированное общественное инвестирование одновременно с отношением к нечеловеческому полу? Ведь независимо от того, работает мать или нет, обладает ли она более знатным происхождением, чем отец, или нет, – все это срезы и потоки, которые проходят сквозь семью и при этом превосходят ее во всех отношениях и не являются семейными. С самого начала мы задаем себе вопрос, знает ли либидо отца-мать или же оно заставляет функционировать родителей точно так же, как любую другую вещь, то есть в качестве агентов производства, соотносящихся с другими агентами в общественно-желающем производстве. С точки зрения либидинального инвестирования родители не только открыты другому, они сами выкроены и раздвоены этим другим, которое дефамилизует их в соответствии с законами общественного производства – мать сама функционирует в качестве богатой женщины или бедной женщины, животного или святой девы, а может быть, в качестве и того и другого одновременно. Все переходит в машину, которая взрывает собственно семейные определения. Сиротское либидо инвестирует не что иное, как общественное поле желания, поле производства и антипроизводства с его срезами и его потоками, в котором родители схвачены в своих функциях и своих неродительских ролях, сталкивающихся с другими функциями и ролями. Значит ли это, что родители не имеют вообще никакой бессознательной роли во всем этом? Конечно, такая роль у них есть, но в двух определенных модусах, которые еще больше-лишают их их предполагаемой автономии. Согласно различию, которое эмбриологи, рассматривая яйцо, проводят между стимулом и организатором, родители являются стимулами произвольной природы, которые запускают распределение градиентов или зон интенсивности на теле без органов: именно по отношению к ним будут в каждом конкретном случае определяться богатство и бедность, самый богатый и самый бедный как эмпирические формы общественного различия, – так что они снова обнаружатся внутри самого этого различия, будут распределены по тем или иным зонам, но уже не в качестве просто родителей. А организатор – это общественное поле желания, которое только и может указывать зоны интенсивности вместе с населяющими их существами и определяет их либидинальноё инвестирование. Во-вторых, родители как родители являются терминами приложения, которые выражают ограничение общественного поля, инвестированного либидо, конечной итоговой системой, в которой либидо может найти только тупики и блокировки, соответствующие механизмам репрессии-подавления, которые реализуются в данном поле: Эдип, всё – Эдип. Какой бы из двух модусов ни брать, третий тезис шизоанализа устанавливает примат либидинальных инвестирований общественного поля по отношению к семейному инвестированию (произвольному исходному стимулу и внешнему конечному результату) – как с точки зрения фактов, так и с точки зрения теории. Отношение к не-семейному всегда является первичным – в форме сексуальности поля общественного производства и в форме нечеловеческого пола в желающем производстве (гигантизм и нанизм).
Часто бывает впечатление, что семьи слишком хорошо усвоили урок психоанализа, хотя обычно он доходит к ним издалека, в весьма смутном виде, как веяние времени, – они играют в Эдипа, в это возвышенное алиби. Но за этой игрой есть экономическая ситуация: мать, ограниченная домашней работой или тяжелой и неинтересной работой за пределами семьи, дети, чье будущее остается весьма туманным, отец, которому надоело всех кормить, – короче говоря, фундаментальное отношение с внешним, от которого психоаналитик отмывает свои руки, будучи излишне внимательным к тому, с чем забавляются его клиенты. Итак, экономическая ситуация, отношение к внешнему – вот что либидо инвестирует и контр-инвестирует именно как сексуальное либидо. Люди связывают потоки и их срезы. Давайте хотя бы на мгновение задумаемся о тех мотивациях, по которым кто-то решает подвергнуться психоанализу, – речь идет о ситуации экономической зависимости, ставшей, невыносимой для желания, или ситуации, полной конфликтов, влияющих на инвестирование желания. Психоаналитик, который так много говорит о необходимости денег для курса лечения, остается в высшей степени безразличным по отношению к вопросу «Кто платит?». Например, аналитик вскрывает бессознательные конфликты женщины и ее мужа, но за анализ жены платит муж. Это не единственный раз, когда мы встречаемся с дуальностью денег как структуры внешнего финансирования и как средства внутреннего платежа – вместе с предполагаемым этой дуальностью объективным «сокрытием», существенным для капиталистической системы. Однако интересно обнаружить это существенное сокрытие в миниатюрном виде, возведенным на трон в кабинете психоаналитика. Аналитик говорит об Эдипе, о кастрации и фаллосе, о необходимости примириться, как говорит Фрейд, со своим полом, то есть с человеческим полом, о том, что женщина должна отказаться от своего желания пениса, а мужчина – от своего мужского протеста… Мы говорим, что нет ни одной женщины, как нет и ни одного ребенка, которые могли бы, оставаясь собой, «примириться» со своим положением в капиталистическом обществе, – именно потому, что это положение не имеет ничего общего с фаллосом и кастрацией, а тесно связано с невыносимой экономической зависимостью. Женщины и дети, которым удается «примириться», примиряются только благодаря уловкам и определениям, которые абсолютно отличаются от их бытия-женщиной или их бытия-ребенком. Ничего общего с фаллосом, но много общего с желанием, с сексуальностью как желанием. Ведь фаллос никогда не был ни объектом, ни причиной – он сам является аппаратом кастрации, машиной для введения нехватки в желание, для иссушения потоков, для превращения всех срезов внешнего и реального в один-единственный отрыв от внешнего и реального. По мнению психоаналитика, в его кабинет всегда пробирается слишком много внешнего. Даже закрытая семейная сцена кажется ему еще слишком избыточным внешним. Он развивает чистую аналитическую сцену, кабинетного Эдипа и кастрацию – сцену, которая должна стать своей собственной реальностью, своим собственным доказательством, и, в противоположность движению, он верифицируется, если только вообще не начинается и никогда не заканчивается. Психоанализ стал отупляющим наркотиком, благодаря которому самая странная личная зависимость позволяет клиентам на время сеанса, когда они лежат на диване, забыть об экономических зависимостях, которые подталкивают их к анализу (примерно так же, как раскодирование потоков влечет рост порабощения). Знают ли они, что они делают, эти психоаналитики, которые эдипизируют женщин, детей, негров, животных? Мы мечтаем зайти к ним, открыть окна и сказать: здесь спертый воздух, не помешает немного отношения ко внешнему… Ведь желание не выживает, если его отрезать от внешнего, отрезать от его общественных и экономических инвестирований и контр-инвестирований. И если есть «чисто эротический мотив», как говорит Фрейд, это, конечно, не Эдип, который его принимает, не фаллос, который его запускает, и не кастрация, которая его передает. Эротический, чисто эротический мотив пробегает по всем четырем углам общественного поля – везде, где желающие машины склеиваются или рассеиваются в общественные машины, везде, где выбор объекта любви осуществляется на перекрестье, проходя по линиям уклонения или интеграции. Отправится ли Аарон в путь со своей флейтой, которая не фаллос, а желающая машина и процесс детерриторизации?
Предположим, нам уступили всё – но это всё уступается нам лишь впоследствии. Только впоследствии либидо якобы инвестирует общественное поле и начинает «заниматься» обществом и метафизикой. Этот тезис позволяет спасти базовую предпосылку Фрейда, согласно которой либидо должно десексуализироваться, чтобы выполнить подобные инвестирования, но начинает оно с Эдипа, с Эго, отца и матери (доэдиповы стадии структурно или эсхатологически соотносятся с эдиповой организацией). Мы видели, что эта концепция «последействия» предполагает радикальное непонимание природы актуальных факторов. Дело в следующем – или либидо включено в молекулярное желающее производство и оно ничего не знает о лицах, как и об Эго, даже о почти недифференцированном Эго нарциссизма, поскольку его инвестирования уже дифференцированы, но безличным режимом частичных объектов, сингулярностей, интенсивностей, шкивов и деталей машин желания, в которых было бы сложно разглядеть мать, отца или Эго (мы видели, к каким противоречиям приводит упоминание частичных объектов, связанное с попыткой превратить их в представителей родительских персонажей или в носителей семейных отношений). Или же либидо инвестирует лица и Эго, но оно уже включено в общественное производство и в общественные машины, которые дифференцируют эти лица не в качестве членов семьи, а в качестве производных молярной системы, которой они принадлежат в этом ином режиме. Совершенно верно то, что общественное и метафизическое возникают в одно и то же время, соответствуя двум одновременно наличествующим смыслам процесса – как исторического процесса общественного производства и как метафизического процесса желающего производства. Но они не появляются вторично. Вспомним снова о картине Линднера, на которой толстый мальчик уже подключил желающую машину к общественной машине, закоротил родителей, которые могут вмешиваться только в качестве агентов производства и антипроизводства как в одном случае, так и в другом. Существует только общественное и метафизическое. Если что-то и приходит после, то это, конечно, не общественные или метафизические инвестирования либидо, синтезы бессознательного; напротив, впоследствии появляются, скорее, именно Эдип, нарциссизм и весь ряд психоаналитических понятий. Факторы производства всегда «актуальны», причем с самого раннего детства – актуальное обозначает не нечто более позднее по отношению к инфантильному, а просто то, что «в акте», что противопоставляется виртуальному, тому, что происходит при определенных условиях. Эдип – виртуален и реакционен. В самом деле, рассмотрим условия, при которых возникает Эдип, – начальная система, трансфинитная и состоящая из объектов, агентов, отношений общественно-желающего производства, оказывается ограниченной конечной семейной системой как системой итоговой (состоящей самое меньшее из трех терминов, число которых можно и даже должно увеличивать, но не до бесконечности). Подобное приложение в действительности предполагает четвертый подвижный, экстраполированный термин, символический абстрактный фаллос, обязанный осуществлять складывание или соответствие; но реально оно действует на три лица, конститутивные для минимальной семейной системы, или на их заменители – то есть на отца, мать и ребенка. На этом дело не заканчивается, поскольку эти три термина стремятся сократиться до двух – либо в сцене кастрации, в которой отец убивает ребенка, либо в сцене инцеста, в которой ребенок убивает отца, либо в сцене ужасной матери, в которой мать убивает отца или ребенка. Затем от двух терминов переходят к одному в нарциссизме, который никогда не предшествует Эдипу, являясь его продуктом. Вот почему мы говорим об эдипово-нарциссической машине, на выходе из которой Эго встречает свою собственную смерть как нулевой термин чистого уничтожения, которое с самого начала преследовало эдипизированное желание и которое теперь, в конце, определяют в качестве Танатоса. 4, 3, 2, 1, 0, Эдип – это бег по направлению к смерти.
С XIX века изучение душевных болезней и безумия остается в плену у фамилиалистского постулата и его коррелятов, персонологического постулата и постулата Эго. Следуя за Фуко, мы рассмотрели, как психиатрия XIX века одновременно представила семью в качестве причины и судьи болезни, а закрытую лечебницу – в качестве искусственной семьи, обязанной интериоризировать вину и вернуть ответственность, покрывая как безумие, так и лечение вездесущим отношением отца к сыну. В этом отношении психоанализ, никоим образом не порывая с психиатрией, переносит ее требования за пределы лечебницы, исходно навязывая некое «свободное», внутреннее, интенсивное, фантазматическое использование семьи, которое казалось особенно подходящим для того, что было изолировано в виде неврозов. Но, с одной стороны, сопротивление психозов, а с другой – необходимость учитывать социальную этиологию привели психиатров и психоаналитиков к повторному развертыванию в открытых условиях порядка расширенной семьи, которая, как предполагалось, должна была по-прежнему хранить секрет как болезни, так и лечения. Интериоризировав семью в Эдипе, они теперь экстериоризируют Эдипа в символическом порядке, в институциональном порядке, в коммунитарном, отраслевом порядке и т. д. Здесь обнаруживается некая константа всех современных попыток. Если эта тенденция в наиболее наивной форме проявляется в коммунитарной психиатрии, нацеленной на адаптацию – «терапевтическое возвращение к семье», к идентичности лиц и к целостности Эго (все это благословляется кастрацией, удавшейся в святой триангулярной форме), то та же самая тенденция в более скрытом виде действует во многих других течениях. Неслучайно, что символический порядок Лакана был извращен и использован для установления структурного Эдипа, прилагаемого к психозу, то есть для расширения фамилиалистских координат за их реальную и даже воображаемую область действия. Неслучайно, что институциональному анализу с трудом удается сопротивляться восстановлению искусственных семей, в которых символический порядок, воплощенный в институции, реформирует группового Эдипа со всеми его летальными качествами порабощенной группы. Но, кроме того, антипсихиатрия искала в повторно развернутых семьях секрет одновременно общественной и шизогенной причинности. Быть может, именно здесь мистификация проявляется в наиболее отчетливом виде, поскольку в некоторых из своих аспектов антипсихиатрия была в наибольшей степени готова к тому, чтобы сломать традиционную систему семейных референций. В самом деле, что можно увидеть в американских фамилиалистских исследованиях, которые были приняты и продолжены антипсихиатрами? В качестве шизогенных в них называют самые обычные семьи, самые обычные семейные механизмы, обычную семейную логику, то есть просто невротизирующую логику. В монографиях о семьях, называемых шизофреническими, каждый легко найдет своего собственного папу и свою собственную маму. Возьмем пример «двойного тупика» или «двойного захвата» Бейтсона: какой отец не отдает одновременно двух противоречивых приказаний – «Сынок, будем друзьями, я твой лучший друг» и «Осторожно, сынок, не принимай меня за своего приятеля»? Здесь нет ничего шизофренического. Поэтому мы решили, что двойной тупик определяет вовсе не особый шизогенный механизм, а всего лишь характеризует Эдипа в системе его расширения. Если и есть настоящий тупик, настоящее противоречие, то это противоречие, в которое впадает сам исследователь, когда он будто бы указывает на общественные шизогенные механизмы, открывая их при этом в порядке семьи, от которой ускользают как общественное производство, так и шизофренический процесс. Быть может, это противоречие особенно заметно у Лэйнга, поскольку он – самый революционный антипсихиатр. Но именно в тот момент, когда он порывает с психиатрической практикой и собирается определить действительный общественный генезис психоза, требуя в качестве условия лечения необходимость продолжения «путешествия» как процесса и как растворения «нормального Эго», он снова возвращается к наихудшим фамилиалистским, персонологическим и эго-логическим постулатам, говоря о том, например, что единственным лекарством может быть «искреннее согласие родителей», «признание личностей» и открытие подлинного Эго или подлинной самости в стиле Мартина Бубера[335]. Быть может, это, а не только враждебность традиционных властей как раз и является причиной наблюдающегося сейчас провала инициатив антипсихиатрии, причиной их встраивания в нацеленные на адаптацию формы семейной психотерапии и секторной психиатрии, бегства самого Лэйнга на Восток. И разве в другой, но аналогичной плоскости не наблюдается противоречия в том, как пытаются исправить учение Лакана, разложить его по семейным и персонологическим осям, тогда как сам Лакан причиной желания считает нечеловеческий «объект», гетерогенный для личности, находящийся ниже минимальных условий тождества, ускользающий как от интерсубъективных координат, так и от мира значений?
Да здравствуют ндембу, ведь, судя по подробному рассказу этнолога Тернера, только доктор ндембу мог обращаться с Эдипом как с видимостью, украшением, поднимаясь к бессознательным либидинальным инвестированиям общественного поля. Эдипов фамилиализм – даже и особенно в его наиболее современных формах – делает невозможным открытие того, что, однако, намереваются искать сегодня, а именно – шизогенного общественного производства. Во-первых, бессмысленно утверждать, что семья выражает наиболее глубокие общественные противоречия, поскольку ей придают значение микрокосма, наделяют ее ролью передаточного механизма, необходимого для превращения общественного отчуждения в душевную болезнь; более того, поступают так, как будто бы либидо не инвестировало напрямую общественные противоречия как таковые и, чтобы возвыситься до них, нуждалось в том, чтобы они были переведены в соответствии с кодом семьи. Тем самым общественное производство уже заменено семейными каузацией и выражением, так что мы снова оказываемся в плену идеалистических категорий. Как бы там ни было, общество получает оправдание – для его обвинения не осталось ничего, кроме смутных соображений относительно больного состояния семьи или же более общих рассуждений о современном стиле жизни. И тем самым обходится стороной самое главное, а именно – общество является шизофренизирующим на уровне его инфраструктуры, его способа производства, его наиболее жестких схем капиталистической экономики; либидо инвестирует это общественное поле не в той форме, в которой оно выражалось бы и переводилось бы семьей-микрокосмом, а в той форме, в которой оно переводит в саму семью свои срезы и свои несемейные потоки, инвестированные непосредственно; следовательно, семейные инвестирования всегда являются результатом общественно-желающих инвестирований, которые только и могут быть первичными; наконец, душевная болезнь непосредственно отсылает к этим инвестированиям и является общественной не в меньшей степени, чем общественное отчуждение, в свою очередь отсылающее к предсознательным инвестированиям интереса.