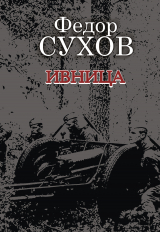
Текст книги "Ивница"
Автор книги: Федор Сухов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
10
Линяли тополя. Закуривая, я обронил на присыпанный тополиным пухом окраек тротуара непогашенную спичку, пух вспыхнул легко и почти невидимо, как спирт. Синевато бегущее по тротуару жидкое пламя никому и ничему не угрожало – деревянных построек вблизи не было, но я забеспокоился: баловство с огнем, как говорят, до добра не доводит. Мог наметиться повод еще одной встречи с работниками милиции. Но быстро вспыхнувший пух так же быстро погас, никем не замеченный, даже милиционером, что проходил мимо меня возле газетного киоска. В киоске я купил книгу Василия Пескова «Шаги по росе», хотелось уединиться, где-то присесть, ознакомиться с книгой. Потянуло к Дону, к его высокому, обрывистому берегу. Присел я неподалеку от набитой прошлогодней листвой, забурьяненной яружины. Было тихо, и мне казалось, что я все время слышу багряный шелест хорошо памятной осени, что приютилась в некогда пораненном, иссеченном осколками лесу, в том лесу, что оглушил меня иволгами, что виделся – как на ладони – с высоко приподнятого, обрывистого берега. Виделась, белела шиферной крышей приютившая мой посох сторожка, она-то и напомнила мне об исписанных за ночь листках, которые я намеревался отослать провожавшей меня в давно задуманное путешествие, не равнодушной к моей окопной лихомани женщине. Листки были исписаны в присутствии хозяина сторожки, крепко спящего Митрофана Ильича. Вот они, эти листки, эти строки, что так и остались неотосланными.
…Итак, через двадцать один год – ты можешь себе представить? – я нахожусь как раз на том месте, на котором был вырыт мой, уже не первый и (не последний) блиндажик, и мне хочется рассказать тебе об одном случае из своей окопной жизни. Насколько помнится, при встречах с тобой, когда мне хотелось что-то поведать из своего окопного бытия, случай этот я старательно умалчивал. А сейчас я расскажу его, и расскажу все так, как было.
Стояла погожая, на редкость теплая осень. В это время в городе, в котором ты живешь, – я знаю, ты не любишь возвышенных слов, но я не найду другого слова, тем более, оно мне бесконечно дорого, – решалась судьба нашей Родины. Враг занял не только значительную часть советской, исконно русской земли, но он настойчиво, обманом и хитростью старался занять некоторые нестойкие сердца. Я тебе как-то говорил, что на войне я был командиром взвода, сначала противотанковых ружей, потом противотанковых пушек. Было у меня во взводе трое бойцов: Корсаков, Стрельцов и… запамятовал фамилию. Один был из-под Саратова, другой из Сибири, третий из-под Курска. Когда мы перед отправкой на фронт стояли под Саратовом, Корсакова навестила мать. Она попросила, чтоб мы «хотя бы на ночку» отпустили ей сына домой. Мы это сделали, отпустили. Он, как и многие из нас, был очень молод. Его испитое, с бескровными, солончаковыми губами лицо мне хорошо запомнилось. Он всегда был послушен и исполнителен. Стрельцов попал в мой взвод после. Я увидел его в то время, когда мы стояли как раз на месте той сторожки, в которой я сейчас нахожусь, сижу за дощатым самодельным столом и при свете керосиновой лампы пишу тебе настоящее послание. На вновь прибывшем рядовом Стрельцове свежо топорщилась не тронутая фронтовым потом гимнастерка. Было видно, что он еще не нюхал пороха, не сидел в окопах. Красивый был мальчик… Однажды, когда осень стала забрасывать наши окопы багряно-желтой листвой, Корсаков попросился сходить к Дону, чтоб осчастливить глубоко окопавшийся взвод кочаном капусты или похрустывающей на зубах, надерганной прямо из земли морковью.
– А с кем бы ты пошел?
– С кем угодно, могу сходить со Стрельцовым.
Стрельцова пускать мне не хотелось, я знал, что пойма Дона заминирована и на ней часто подрывались. Корсаков заметил, что я мнусь, ничего определенного не говорю, тогда он предложил другого бойца, того бойца, фамилию которого я запамятовал.
– Идите, но с вами пойдет старшина Капустин.
Старшина был участник финской войны, человек уже в годах, и я на него мог смело положиться.
Товарищи ушли на закате солнца. Долго не возвращались, а когда стемнело, вернулся один старшина. Я спросил старшину: а где другие бахчевники?
Последовал неопределенный ответ:
– Как-то разошлись…
Я встревожился. Тревога моя была небезосновательной, из моего взвода один боец дезертировал, и я был крепко предупрежден. Пришлось сказать старшине, чтоб он отправился снова на пойму и нашел бесследно исчезнувших товарищей.
Нашлись только шинели. Доложил командиру роты. Командир роты строго посмотрел на меня и приказал найти пропавших – живых или мертвых.
– Иначе, – сказал командир роты, – не возвращайся во взвод.
Осень, хотя она и была теплой, но по вечерам, как это всегда бывает осенью, ощутимо свежило. А когда мы со старшиной стали подходить к Дону, к его пойме, совсем захолодало. Взошла и четко обозначилась полная, с таинственными пятнами луна. Серебряно чешуился притихший, огороженный тальниковыми зарослями Дон. Слышно было, как тревожно шушукался тронутый сизоватой окалиной камыш. Пожалуй, он один мог сказать что-то о бесследно исчезнувших товарищах, но кроме таинственного шушуканья мы ничего не слышали. Сам я не возлагал особых надежд на наш ночной поиск, но, памятуя слова командира роты, вернуться во взвод с пустыми руками я не мог. Так пусть лучше убьет меня или ранит тут вот, возле камышей, возле прибрежного донского песка… Но, странное дело, ни одного выстрела ни с нашей стороны, ни со стороны немцев. Только камыши шушукаются да мельтешат под ногами опадающие тальниковые листья, они – как мыши в лунном обосененном свете. Я молчал, старшина тоже молчал. Мы ничем не могли утешить друг друга, и я ускорил шаг, слышней заговорили мои яловые с широкими голенищами сапоги.
– Ты куда? К немцам?
Эти страшные слова остановили меня. Не знал старшина Капустин, что при любых обстоятельствах, при любой ситуации я и помыслить не мог о переходе к немцам, плен, и тот исключался. Я всегда помнил строки из «Слова о полку Игореве»: «Луче жъ бы потяту быти, неже полонену быти»».
Всю ночь мы проходили по залитой луной, прохладно дышащей пойме и никого, ни живых, ни мертвых, не нашли. Только к утру, когда от Дона, низко стелясь, расхолстился густой туман, мы услышали хриплый, остуженный пойменной сыростью голос:
– Стой! Кто идет?
Ответили, что идут свои.
– Кто свои? Откуда?
Старшина Капустин нашелся что сказать, он сказал, что идем из разведки.
– А вы что, не знаете, что здесь минное поле?
О минном поле мы ничего не знали.
Старый, прикрытый натянутой на уши пилоткой сапер сожалеючи проговорил, что, если бы он вовремя не заметил нас, мы бы непременно попали в Могилевскую губернию по путевке наркомзема. Старик попросил у нас закурить. Я тогда не курил, не курил и старшина.
– Значит, плохо дело.
Дела наши были действительно плохи, и мы спросили сидящего на бруствере сапера: не видел ли он на своем минном поле двух молодых бойцов? Сапер бережно придержал нашаренную в шинельном кармане махорочную труху, ответил, что никого не видел.
Туман стал расходиться, редеть, чувствовалось, что взошло солнце, оно пробиралось из-за дубового, кое-где просветленного березами леса, возле которого бугрились наши противотанковые позиции. Не знаю почему, но мне вспомнился обитавший со мной в одном блиндаже сибирский, с пушистыми лапами и зелено горящими глазами, кот. Попал он ко мне, как говорят, незвано-непрошено, но я увидел, что с ним можно поладить: кот хорошо ловил мышей, по ночам ловко хватал их. За эту ловкость он получал маленькую дольку из моего скудного доппайка, две-три кильки из только что открытой консервной банки. Впрочем, о коте не стоило бы и говорить, но он принял какое-то участие в моей судьбе.
Когда я заявился после суточного отсутствия в блиндаж командира роты, чтобы доложить о своем возвращении, я увидел низко опущенную, зажатую в ладони голову. Хотел было ретироваться, но отчужденный, процеженный сквозь зубы голос спросил меня:
– Нашли?
– Нет.
– Иди.
Я ушел. Через несколько часов участь моя была решена: по приказу командира бригады я отдавался в штрафной батальон. Может, ты удивишься: за что? Об этом я расскажу после. А сейчас под шиферной крышей садовой сторожки я сижу и вспоминаю, как я дожидался своего рокового часа, того момента, когда с меня должны были снять дареный (особо памятный) комсоставский ремень и под конвоем отправить неведомо куда. И хотя я знал, что дальше фронта меня отправить никуда не могут, и все же я боялся штрафного батальона, и твердо решил самолично расправиться (расплатиться) за свою вину. К бойцам своего взвода я уже не выходил, мне было стыдно показываться им на глаза, но до моего блиндажа доносились больно бьющие по сердцу слова:
– Кому?
– Тютюннику.
– Кому?
– Адаркину.
– Кому?
– Симонову.
– Кому?
– Лейтенанту.
И мне приносят пайку хлеба или шесть ржаных сухарей. Сухари я еще ем, но хлеб, он не лезет мне в рот, и не потому, что кажется горьким, а потому, что я не заслужил его, я проштрафился. Раз так… И я стал нащупывать спрятанным в железный кожух, тупо срезанным стволом то, что виновато билось под моей выцветшей до белизны хлопчатобумажной гимнастеркой. Но кто это? Я хотел, чтоб никто не видел, никто не знал… Ах, это кот, это он открыл своими пушистыми лапами угол плащ-палатки, что висела над входом в могильно стихший блиндаж. Кот прыгнул ко мне на колени и замурлыкал, да так жалостно, что я чуть-чуть не заплакал. Потом стал лизать мои руки. Одной рукой я прикоснулся к мурлыкающей, мягкой, как одуванчиковый пух, спине, другой отложил взведенный и не поставленный на предохранитель автомат. Прошло сколько-то минут, и я смирился, решил, что и в штрафном батальоне можно воевать, а раз так, поставил автомат на предохранитель.
Шли дни, проходили ночи, но меня почему-то никто не беспокоил. Я стал выходить к бойцам. Я даже подумал, что командир бригады, возможно, забыл об отданном им приказе. Но как-то раз, когда было еще солнечно и тепло, я увидел идущего навстречь лейтенанта, я не знал его должности, встречался с ним только в штабе батальона, да и то мимоходом, мельком. Старший лейтенант подозвал меня к себе и, присев на бруствер траншеи, долго интересовался моими биографическими данными: кто мои родители, где я родился, где учился, спрашивал вежливо, с какой-то доброжелательностью ко мне, и я опять подумал, что, может, меня и вправду помилуют. Но не тут-то было. На другое утро меня вызвали в штаб бригады. Штаб бригады был далеко, километров за десять от наших позиций, и, чтоб веселее было идти, я попросил у командира роты разрешения взять с собой одного бойца.
– Для сопровождения одного мало, но тебя и один доведет, – так сказал командир роты, сказал не глядя на меня, как будто меня уже не было среди тех, кто защищал свою Родину, свою землю.
Я понял, что дело пахнет, вероятно, уже не штрафным батальоном, а чем-то более серьезным. Сопровождающим был выделен ефрейтор Заика. Все десять километров мы шли лесом по усыпанной листьями, мягко стелющейся дороге. Осенний, как бы капающий воском, желто и багряно воспламенившийся лес на какое-то время успокаивал меня, прибадривал своим муравьиным спиртом и той кисловатой брагой, что цедилась молочной белизной берез, он, этот лес, шел вместе со мной, осторожно ступая медвежьими лапами по вечно зеленому вереску, по непролазно переплетенному проволочно-колючему ежевичнику. Над головой что-то стукнуло, я поднял глаза: стучал дятел. Пролетел и рассыпался жидкой дробью дрозд, тревожным звоном захлебывалась синица. Я глянул на сопровождающего, на его белое, припорошенное гречневым пушком лицо, и мне стало жалко самого себя. Я ведь думал, что честно послужу Родине, и никогда не думал, что мне доведется идти под конвоем своего сослуживца, своего окопного товарища. А конвоир мой сделался чудным. Закинув за спину автомат, он остановился возле орешника и рвал не успевшие опасть орехи, заходил в глубь леса и возвращался с веткой бересклета или с волчьими ягодами.
– Товарищ лейтенант, давайте поищем грибов…
Смешной какой, не знает, что ли, что я уже не лейтенант, я штрафник и мне не до грибов. Я вспомнил, как сурово разговаривал со мной командир бригады, когда впервые предстал перед его хитровато прищуренными, ледяными глазами.
– Ты знаешь своих бойцов?
Я знал своих бойцов, знал их фамилии, знал каждого, откуда он родом, кто его родители, где работал или учился до войны.
– А Миронов откуда?
– Какой Миронов?
Я долго не мог понять, о ком идет речь, потом догадался, что речь идет о давно забытом мной старшем сержанте Миронове.
– Значит, не знаешь, откуда Миронов?
– Из Ельца. Был домуправом.
– А где он сейчас??
– Убит, товарищ полковник!
– А где его могила?
– Я не знаю…
– Не знаешь, так я покажу.
Командир бригады подвел меня к одиноко стоящему часовому. Под стволом его винтовки в глубоко вырытой яме переминался с ноги на ногу какой-то жалкий, тщедушный человечек, без ремня и без звездочки на измятой, как будто изжеванной пилотке. Я с трудом узнал своего старшего сержанта.
– Предупреждаю, если что-то подобное у тебя еще случится, пеняй на самого себя.
Полковник брезгливо отвернулся от ямы и дал понять, что его разговор со мной окончен.
– О чем вы задумались, товарищ лейтенант?
О чем я задумался… Мы уже подходили к памятному мне многонакатно возвышающемуся блиндажу.
– Давайте присядем, отдохнем, – совсем не по-конвоирски предложил, светло улыбаясь, знать, и вправду беспечный Заика.
Мы присели на дубовый, круглящийся, как тележное колесо, осыпанный свежими опилками пень. Заика увидел желуди, стал собирать их, класть в карман шинели. А я все посматривал на многонакатно возвышающийся блиндаж. У его входа стоял постовой с самозарядной, приставленной к ноге винтовкой. По ее кинжальному штыку стекало проглянувшее сквозь желтизну листьев хоть и остывшее, но все еще ласковое солнце. Часов у нас не было, время мы привыкли узнавать если не по солнцу, так по собственному желудку, к середине дня обычно начинало сосать под ложечкой, хотелось есть. И я слышал, как Заика за моей спиной грыз желуди, давясь их древесной зеленцой. Из блиндажа, распружинясь, выпрямясь во весь рост, вытолкнулся (как пробка из бутылки) перекрещенный подтяжками, тронутый стальной ежиной проседью человек. Полковник Цукарев, я узнал его по ежиной, колючей проседи, по сгармоненным, зеркально блестящим сапогам. Потом я увидел полковничий свежо подстриженный затылок, пунцово налитую, крепкую, без ямочки, шею. Полковник умывался, он подставил густо заволосатевшую грудь под прибитый к хлюпкой осине умывальник, потом стал приседать, раскинув руки, выполнял незамысловатые физические упражнения, прибодрясь, возвысил свои подтяжки, опять пружинисто выпрямился. Полковник глянул на постового, постовой недвижимо замер, ждал, когда заволосатевшая грудь спустится в многонакатно возвысившийся блиндаж. Спустилась, а вскоре опять показалась, вышла из блиндажа, теперь уже не в подтяжках, в ловко обхватывающих, блестящих ремнях. Полковник отдал какое-то распоряжение, и мгновенно на дороге, возле которой стоял постовой, появились бойцы с самодельными березовыми вениками. Командир бригады, видимо, решил встретить меня как желанного гостя…
– Смирно! Товарищ командующий…
Зычный голос отдался где-то на опушке леса, а сам лес загудел, как колокол, еще гуще осыпал поблекшую подножную траву шелестящей медью опавшей листвы. Я немного воспрял духом: приехал генерал, может, командующий фронтом, и полковнику Цукареву будет не до меня. Но тут же подумал: что будет с Заикой, ведь ему приказано доставить меня по назначению, так пусть же он скорее доложит, что приказ командира бригады выполнен, бывший командир второго противотанкового взвода доставлен…
Я не без опаски ступил на чисто подметенную, посыпанную свежим песком дорожку. Навстречь вышел весь в ремнях и блестящих пуговицах капитан… Я попросил своего сопровождающего доложить о нашем прибытии.
– Товарищ лейтенант, а почему вы сами не доложите…
Капитан сам спросил, кто мы и откуда.
Я назвал свою фамилию, свой батальон, добавив, что явился по вызову командира бригады.
Через несколько минут со мной разговаривал старший батальонный комиссар Кудрявцев. Комиссар бригады был в курсе моего дела. Он как-то грустно спрашивал меня:
– Значит, не нашли ни живых, ни мертвых?
– Нет, не нашли.
– А откуда были эти бойцы, ты их домашние адреса знаешь?
Я сказал, откуда Корсаков, откуда тот боец, фамилию которого я запамятовал.
– А сам ты откуда?
Я сказал свою область, свой район, свое село.
– Отец есть, мать?
И тут я чуть не задохнулся от вставшей в горле горькой-горькой обиды, и не на кого-то – на самого себя. Старший батальонный комиссар все понял и оставил меня одного. Неслышно и горько падали листья – давние слезы моей первой окопной осени.
Вскоре я предстал перед молодым генерал-майором. Таких молодых генералов мне не приходилось видеть даже на портретах. Генерал ни о чем меня не спрашивал. Он повернулся к рядом стоящему полковнику Цукареву и как-то обыденно, не по-генеральски сказал:
– Дайте ему десять суток ареста. И пусть идет командовать взводом.
После я узнал, что спас меня от штрафного батальона генерал Черняховский.
А сейчас я расскажу, что случилось с моими пропавшими бойцами.
Служил в одном из взводов нашей роты некий Гутовский. Говорили, что он из Донбасса и до войны был шахтером. Но по своей внешности на шахтера он не походил. Высокий, хорошо сложенный, со скульптурно вылепленным лицом, от такого мужчины женщины обычно теряют головы, но женщин в нашей роте не было, поэтому на Гутовского особого внимания никто не обращал. Он, как и все мы, молчаливо и терпеливо (как нам казалось) нес нелегкую ношу солдата-фронтовика. Не знаю, как он вел себя в бою, но знаю, каким усердным и исполнительным он был, когда стихли бои. Он стал видным человеком не только в роте, но и в батальоне. У него была хорошая бритва, и он хорошо брил, была машинка, и он хорошо стриг, он рьяно собирал и сжигал немецкие листовки. Короче говоря, парень был свой, его уважали и любили.
И вот как-то ночью, во время моего дежурства по батальону, когда Гутовский стоял на посту, я увидел на позициях нашей роты того самого старшего лейтенанта с неизвестной мне должностью и начальника штаба батальона. Они спросили меня, где, на каком посту стоит Гутовский. Я сказал им. Они попросили узнать, что делает мой постовой. Я сходил, узнал. Потом вернулся и доложил, что Гутовский караульную службу несет бдительно, так, как положено по уставу.
– Еще сходи и узнай, сколько у него патронов, – приказал начальник штаба.
«Нечего делать этим штабникам, решили поразвлечься», – подумал я и снова неохотно подошел к Гутовскому, спросил, сколько у него в магазине патронов?
– Вот еще, товарищ лейтенант, что, вы не знаете: десять, – как-то по-дружески, доверчиво проговорил бывший шахтер.
– Дай погляжу.
Гутовский нажал на защелку магазинной коробки и подал коробку мне. И тогда-то я услышал сразу изменившийся, отчужденно-сурово прозвучавший голос начальника штаба:
– Руки вверх!
Постовой мой рванулся, но за его спиной с вынутым из кобуры пистолетом стоял старший лейтенант.
Я не понимал, что случилось, и узнал только после, что искусный парикмахер был немецким агентом, «обрабатывал» наших бойцов, подсказывал им, как и когда можно перейти линию фронта, сдаться в плен, тем самым спасти свою жизнь. Таким образом попался на вражескую удочку Корсаков и… попался на нее и красивый мальчик-сибиряк Стрельцов. Его арестовали в ту ночь, когда я был дежурным. У него нашли надежно припрятанную листовку с паролем: «Штыки в землю. Сталин капут».
Письмо мое неимоверно затянулось. Напоследок несколько слов.
Возвращаясь во взвод, на позиции своего батальона, я спохватился, решил узнать: цел ли у меня комсомольский билет. Расстегнул карман гимнастерки – билет цел. Обрадовался. Глянул на свою фотокарточку и совсем неожиданно увидел неотправленный треугольничек, адресованный моим родителям. В треугольничке было всего три слова: «Больше меня не ждите». Стало как-то неловко за самого себя. Глянул на Заику, он ничего не знал, но я боялся, как бы мой сопровождающий не догадался о том, что я так долго сохранял в величайшем секрете.
11
Арест Гутовского и красивого мальчика-сибиряка Стрельцова прошел как-то мимо меня. Мне долгое время и не сообщали, за что их арестовали. Но с командиром роты, видимо, крепко поговорили.
Лейтенант Шульгин стал реже выходить из своего блиндажа, а когда выходил, сапоги его уже не светились, в них не гляделась даже пожухлая, лежащая под ногами листва. Не гляделось в них и солнце, а оно не забывало нас, заглядывало в наши окопы, отрытые в полный профиль, с разветвленной сетью траншей и ходов сообщений. Сладко потягиваясь, выходил на солнышко мой зеленоглазый квартирант Тимофей, он садился на присыпанный землей накат блиндажа и, подобрав под себя хвост, подолгу смотрел на испепеленное, чернеющее остовами печей Подгорное. Пролетал мимо осиновый или кленовый лист, кот настораживался и, ежели лист замирал, ложился на землю, мой зеленоглазый квартирант шевелил его смешно приподнятой лапой.
Осень 1942 года… Следует отметить, она ознаменовалась важными событиями не только в нашей роте, но и во всей Красной Армии: был отменен институт комиссаров, вводились единые воинские звания для политического и командного состава, значительно изменен и дополнен боевой устав пехоты, появились ординарцы.
Мне, как командиру взвода, тоже полагался ординарец, им стал ефрейтор Заика. Однажды, низко пригибаясь, он заглянул в мой блиндаж и сообщил неожиданную весть: ранило командира роты.
Как ранило? Когда? Артналета не было, немецкие самолеты тоже давно не появлялись над нами. Может, наступил на мину? Но и минного поля возле нас не было. Я вышел из блиндажа и направился к опушке леса, туда, где был командный пункт роты, где окопался лейтенант Шульгин. Через какое-то время я был среди тех, кто вынес лейтенанта из укрытия и положил его под двумя уже начавшими опадать дубами. Ладное, перехваченное широким ремнем, крепко сбитое тело странно корежилось, рот синел и пузырился тягуче-липкой пеной, скрежетали зубы.
– Что с ним? – спросил, округлив удивленные глаза, пришедший с позиций своего взвода младший лейтенант Заруцкий.
Никто ничего не ответил.
А я вспомнил низко опущенную, зажатую в ладони голову, надо полагать, что ей тоже нелегко было, когда бесследно исчез Корсаков и тот боец, что был из-под Курска… А тут еще Гутовский и Стрельцов.
Командира роты положили на плащ-палатку и унесли в глубь леса. Туда же последовал и младший лейтенант Заруцкий, а я остался возле двух дубков, мучительно остро ощущая свою вину, теперь уж не только перед Родиной, но и непосредственно перед людьми. Как-никак Гутовский сумел «обработать» бойцов моего взвода. Почему так произошло, я не мог понять. Наверно, потому, что я плохой командир, а у плохого командира всегда случаются разные истории…
Накрапывал мелкий дождь, предвестник близкой мокрети, непролазной непогоди. Выцвела синева низко опущенного неба, со всех сторон надвигались темные сверху и холстинно-выбеленные снизу торопливо бегущие облака. Все чаще стали обваливаться не забранные досками стенки траншей, песчаная земля уже не выносила навалившейся на нее сырости. На душе тоже стало сыро и неуютно. Уходить с опушки леса не хотелось, хотя я и знал, что она метко пристреляна немецкими батареями.
Вернулся младший лейтенант Заруцкий, глаза его шарнирно круглились, по ним нельзя было понять, что случилось с лейтенантом Шульгиным, но я заметил в них ту искорку, которая обычно появляется тогда, когда сбывается давнее, тщательно скрываемое желание. Младший лейтенант оглядел позиции моего взвода и, увидев праздно сидящего у входа в общий блиндаж Тютюнника, спросил: чем занимаются мои бойцы? Я ответил: подчищают траншеи.
– Незаметно, чтоб подчищали…
Такой тон разговора сразу же дал понять, что Заруцкий получил повышение в должности, стал временно, а может быть и не временно, командиром роты. Ради справедливости следует сказать: это повышение вполне заслуженное, вернее – выслуженное. Старый кадровик, много лет оттопавший взводным пехотинцем, младший лейтенант не шел ни в какое сравнение с теми командирами, которых принято было называть сосунками, инкубаторно выпускаемыми ускоренным методом разными военными училищами и подготовительными курсами.
– Иди во взвод и наведи порядок, – не повышая голоса, спокойно проговорил только что назначенный командир роты.
Я молча повиновался, повернулся спиной к лесу и спустился в ход сообщения, однако я не придал особого значения словам, призывающим навести какой-то порядок. Порядок обычно наводится перед приходом высокого начальства, но о его приходе не было слышно. Возможно, младший лейтенант, получив должность командира роты, сам себя считает высоким начальством, тогда да… А что тогда? Да ничего. Тютюнник все так же будет сидеть у входа в блиндаж и тоскливо ждать вечера, того часа, когда из лесу потянет дымком всегда запаздывающей кухни. Но я ошибся, Тютюнник встал, он стоял перед неизвестным мне человеком с двумя кубиками на зеленых полевых петлицах добротно сшитой гимнастерки.
– Лейтенант Брэм, – назвался поставистый, в добром теле, весьма приглядный человек, когда я представился ему, доложив, чем занимается вверенный мне взвод. А сопровождающий неизвестного мне лейтенанта младший лейтенант Заруцкий таинственно прошептал:
– Новый командир батальона.
Принято говорить, что новая метла по-новому метет, но я не получил никаких распоряжений, чтоб что-то перерыть, что-то переиначить, лейтенант Брэм больше присматривался к людям, к бойцам моего взвода, чем к брустверам ружейных площадок, к нишам для противотанковых гранат, не мог я не ощутить и на себе тот пристальный взгляд, который как-то роднит, сближает человека с человеком.
На другой день я был вызван в штаб батальона. В штабе встретился с лейтенантом Захаровым. Встретился и удивился: Захаров предстал передо мной в полном боевом снаряжении: автомат, запасные диски, гранаты…
– Иду немцев глушить, – обнажив вместе с деснами кипенно-белые зубы, поспешил сообщить цель своего появления в глубине леса мой давний новоузенский сослуживец.
– А еще кто идет?
– Ты пойдешь. Комбат пойдет.
Мне не верилось, что я могу куда-то пойти, участвовать в каком-то деле. Я тайно ожидал новой встречи с полковником Цукаревым и мысленно прощался сам с собой.
– А ты не знаешь, что случилось с нашим командиром роты? – спросил я своего давнего сослуживца, зная, что ему все ведомо, все известно.
– С лейтенантом Шульгиным случился припадок. Эпилепсия.
Появился комбат, он приблизился к березе, под которой стоял лейтенант Захаров, под которой начала оживать повинная во всем моя несуразная душа.
– Доложи командиру роты, что ты находишься в моем распоряжении, – сказал комбат, сказал так, что я совсем оживел, воспрял духом.
Мне нравилось быть в чьем-то распоряжении и отвечать только за самого себя, к тому же предвиделось что-то такое, что не могло не льстить моему уязвленному самолюбию: наконец-то представился случай достойно искупить свою вину.
Младший лейтенант Заруцкий уже знал, что я нахожусь в распоряжении комбата, он даже пожал мне руку и вышел из блиндажа, когда я покидал позиции своей роты, когда ступил на тропинку, что вела к штабу батальона. Глянул на сапоги, они нуждались в чистке, и я пожалел, что не обзавелся сапожной щеткой, оказывается, ее щетина могла пригодиться и на фронте. Но, как всегда в таких случаях, на помощь приходит обыкновенная водица, и я стал поглядывать по сторонам, надеясь найти какую-нибудь колдобину, канаву с опрокинутым в нее невысоким небом. Колдобины, канавы я не нашел, но набрел на большую, как колокол, воронку, в ней-то я и освежил свои окопные «скороходы», в полный рост, как в большом зеркале, увидел самого себя. Пришлось еще раз одернуть гимнастерку, туже подтянуть ремень и, сняв каску, обеими пятернями проборонить длинно отросшие «командирские» волосы, которыми я дорожил, пожалуй, больше, чем своей головой. И все-таки я долго не решался приблизиться к штабу батальона, все прихорашивался (так говорила моя мать), а когда приблизился, сразу же предстал перед новым комбатом, доложился.
– Бегом к машине! – услышал я твердо сказанные, непререкаемо волевые слова.
Под неохотно расстающимся со своей листвой старым коряжистым дубом стоял зелено окрашенный отечественный грузовик, в его кузове я увидел лейтенанта Захарова, рядом с ним сидели два бойца, одного из них я часто видел еще под Саратовом возле капитана Банюка.
Я незамедлительно вскочил в кузов и только тогда, когда грузовик вовсю мотался по лесной ухабистой дороге, то ли самого себя, то ли сидящего напротив Захарова спросил:
– Куда мы едем?
– Глушить фрицев, – последовал далекий от какой-либо шутки, вполне серьезный ответ.
Я знал, что глушить фрицев на грузовиках не ездят, да и едем-то мы совсем не туда, едем в тыл, к штабу бригады, откуда не так-то легко накрыть этих фрицев даже дальнобойной артиллерией.
Не знал я, что, прежде чем побыть на другой стороне Дона, нам нужно было освоиться с берегами неведомого мне лесного озера.
Двое суток на сбитом из поваленных, ровно распиленных осин продолговатом плоту толкались мы от берега к берегу. Было похоже, что мы впали в детство и вдали от материнских глаз занялись довольно опасной, но весьма увлекательной игрой. Были минуты, когда мне казалось, что надо идти домой, я даже слышал голос матери, который грозил вдвое сложенной веревкой, готовой походить по моей спине, и только начальствующий, резкий голос комбата выводил меня из минутного забытья, заставлял более сноровисто действовать длинным шестом, а когда плот приближался к противоположному берегу, я бросался в остуженную палыми листьями посмурневшую воду, извлекая из карманов брюк увесистые, как гусиные яйца, квадратно исполосованные лимонки. Эта операция проводилась без особого труда, куда труднее было снова вернуться на плот и, лежа, не приподнимая головы, толкать его обратно к приметно запунцовевшему вязу. А вяз тихо-тихо осыпался, клал свои пунцово рдеющие ладони и на берег, и на зеленое железо наших касок.
Приблизился вечер, тот осенний особо памятный вечер, когда по приказу комбата мы повытаскивали из воды ровно распиленные осины, сложили их на приметном взгорке, сложили так, чтоб можно было быстро покидать в кузов грузовика, но грузовика долго не было, поэтому мы имели возможность приглядеться друг к другу, пошутить, поговорить. Правда, тревожно настороженный, шелестящий осыпающейся листвою лес не располагал к шуткам, может, потому-то я отдалился от своих товарищей, уединился, вспомнил, как по такому же лесу приближался к блиндажу полковника Цукарева. А тут еще и озеро, оно омутово темнеет в пригоршнях своих берегов, оно успокоилось, позабыло наши шесты. И – что за диво! – темная омуть вдруг обагрилась, начала кровенеть. Я уже успел увидеть немало пролитой крови, но целое озеро крови не видел… Вскоре я понял: озеро кровенело от зари.








