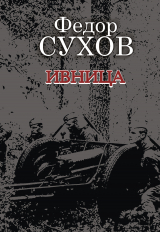
Текст книги "Ивница"
Автор книги: Федор Сухов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
На закатной заре, восседая на попарно скрепленных железными скобами осинах, мы двинулись к штабу бригады, двинулись на том же грузовике, по той же ухабистой дороге. Я не думал, что мне еще раз представится случай увидеть многонакатно возвышающийся блиндаж, не думал, что сам полковник Цукарев будет напутствовать нас, пожелает нам удачи, благополучного возвращения.
– И не с пустыми руками, – так сказал полковник, сказал тогда, когда, спрыгнув с грузовика, мы приблизились к многонакатному блиндажу. – С вами, – продолжал полковник, – по моему личному распоряжению отправятся опытные товарищи: лейтенант Белоус и старший сержант Чернышев, из взвода разведки.
Они оба, и лейтенант Белоус, и старший сержант Чернышев, появились как из-под земли, а появившись, присоединились к нам, к нашей небольшой группе.
– Общее руководство операцией возлагаю на лейтенанта Брэма, – сказал полковник, сказав, он приложил руку к козырьку едва различимой в надвинувшихся сумерках фуражке.
– По местам! – скомандовал лейтенант Брэм, он и сам легко подбежал к сердито фыркающему грузовику, легко сел в его пробитую осколками кабину.
Когда мы выкатилась из лесу я глянул на небо, неба не увидел, непроглядная темь, ни единой звездочки, привстал, глянул в ту сторону, куда мы катились, в сторону переднего края, и удивился: ни кланяющихся ракет, ни стежек трассирующих пуль. Странно. Загадочно.
Не могу сказать, сколько времени, наверное, не меньше часа тряслись мы на своем грузовике, слышали, как приглушенно рокотал мотор, больше ничего не слышали…
Принято думать: на фронте, на войне все время стоит трамтарарам, и чем ближе к переднему краю, тем больше этого тарарама, но те, кто сидел подолгу в окопах, могут подтвердить, что и на войне бывает такая тишина, какая сродни кладбищенской тишине, кладбищенскому безмолвию. Пожалуй, я бы не догадался, не сообразил, где остановился наш грузовик, если б не ракета, она так близко положила свой поклон, что все мы припали к своим осинам, а потом по команде лейтенанта Брэма спрыгнули на землю, припали к земле. Чувствовалась близость реки, близость Дона.
Не так долго горит, недолго светит ракета, но ее ядовито-зеленый свет дал возможность нашим глазам увидеть наш передний край, он оказался пустынным, только траншеи, они – как морщины на ладонях моей матери, моей покойной бабушки…
Мы вошли в одну из траншей, первым вошел лейтенант Брэм, он повел нас по ее зигзагам, а куда, я и представить не мог, шел, предоставив себя воле комбата, вскоре все мы остановились, впереди что-то бугрилось, возможно, какое-то укрытие. Никто из нас не проронил ни единого слова, боялись, нет, не близости противника, боялись нарушить загадочно настороженную тишину, ее настораживающее таинство, мы были как на дне глубоко вырытого колодца.
– Иди!
Кто это? Ах, это лейтенант Захаров, это он приблизился к моему автомату, к моей плащ-накидке (забыл сказать: все мы вместо плащ-палаток получили плащ-накидки), мой давний товарищ обнажил белую кипень зубов и еще раз сказал:
– Иди.
– Куда?
– Прямо.
Я пошел прямо и совсем неожиданно очутился в неглубоко вырытом блиндаже перед обильно чадящей, приспособленной для ночного освещения патронной гильзой, перед приподнятым стаканом, до краев наполненным нашей русской водкой.
– Держи, – как-то не по-армейски обратился ко мне сидящий за сплетенным из придонского лозняка столом капитан-пехотинец.
Я посмотрел на комбата, он сидел рядом с капитаном, комбат кивнул светлой коротковолосой головой.
Стакан был выпит.
– Молодец! – похвалил меня чернявый, весь закудрявившейся капитан, должно быть, командир пехотного батальона.
Я чувствовал, что в блиндаже мне больше нечего делать, поэтому опять оказался на дне глубоко вырытого колодца, из колодца даже днем можно увидеть звезды, и я увидел, правда, всего-навсего одну звездочку, она была моей звездой, она не покидала меня до самого конца войны, больше тысячи ночей светилась над моей головой.
– Ты знаешь, где мы находимся? – спросил меня лейтенант Захаров, спросил тогда, когда я приобщился к своей звезде, к ее едва приметному свету.
Я представлял, где мы находимся, по крайней мере, ощущал дыхание плотно укрытого ночной темью недалекого Дона.
– На самом передке, – уточнил мой давний товарищ.
– А когда будем немцев глушить? – спросил я своего всеведущего товарища.
– В 12.00.
Я не мог определить время по своей звезде, но я чувствовал, до полночи, до 12.00 далеко.
Положила свой земной поклон еще одна ракета, она осветила всю донскую пойму, пожалуй, я мог бы заприметить свои следы, которые оставил на этой пойме, когда искал бесследно исчезнувших бахчевников.
Что-то отдаленно прохрипело, что-то заговорило. Радио? Знать, и вправду радио…
Простуженно, бескровно хрипел неужто Корсаков? Хрипел с возвышенного правобережья, говорил о том, как он долгое время не решался покинуть свой окоп, но все-таки решился, покинул и очутился чуть ли не в раю, досыта ест, пьет чай, кофий…
Я слышал, как стучал зубами лейтенант Захаров, как он старался сдержать себя, не сдержался, презрительно проговорил:
– Предатель… Изменник…
Впрочем, хрипел не Корсаков, кто-то другой, хрипел не очень-то долго, немцы не так уж доверялись идущим к ним на службу перебежчикам, они (немцы) охотней предоставляли свой микрофон русской музыке, русской песне. «Вниз по Волге-реке» – заливался, захлебывался удивительный, до боли родной голос, притих лейтенант Захаров, а в моем горле что-то застряло, я задыхался от обиды, от прилипшей к губам полынной горечи. Мне казалось, по моей вине русская земля, русская песня оказалась в немецком плену, в немецкой неволе.
– Комбат зовет. – Я не слышал зова комбата, я слышал только песню и еще стоящего возле моей плащ-палатки лейтенанта Захарова, это он уловил голос комбата, он первым кинулся к не услышанному мной зову.
– В 12.00 мы приступаем к выполнению особо важного задания, – ровно, не повышая голоса, говорил наш предводитель, наш командир, – нам предстоит переправиться на правый берег Дона, снять немецких часовых, забросать гранатами два-три блиндажа и захватить языка. Время сейчас 11.45, через пятнадцать минут всем быть на плоту, плот собран и спущен на воду.
– А кто его спустил? – спросил лейтенант Белоус, он выделялся не только своей внушительной фигурой, но и своим внушительным голосом, своим басом.
– Приданные нашей группе саперы, – ответил лейтенант Брэм и добавил: – Когда мы выплывем на середину Дона, будет открыт сначала пулеметный, потом орудийный огонь, поднимутся осветительные ракеты.
Не знаю, не могу сказать, ровно в 12.00 или на несколько минут раньше мы ступили на крепко сбитый (железными скобами), спущенный на воду плот, до этого я не ощущал никакого холода, но, когда взялся за поданный самим комбатом шест, ощутил, наверное, от воды, а может быть, от чего-то другого…
Не так уж велик, даже совсем невелик в своем верхнем течении Дон, но попробуй переплыви, плот наш сразу попал на быстрину, трудно было удержать его, шест мой перехватил лейтенант Белоус, он ловко опускал и приподнимал побывавшую в моих руках увесистую штуковину и все-таки не смог обрести нужное направление, плот уносило куда-то в сторону, в самую верть-коловерть. Приподнял свой шест старший сержант Чернышев, я поспешил к нему на помощь, вдвоем опускали и приподнимали срубленную где-то в глубине леса длинно вытянутую кленину. Застучали наши станковые пулеметы, над нашими головами обозначились стежки трассирующих пуль.
– Не паниковать, – тихо проговорил наш предводитель, наш командир, проговорил он, не оборачиваясь, продолжая смотреть на укрытый полуночной темью возвышенный берег, проговорил так, что никому из нас не было обидно за оскорбительно звучащее в иных случаях слово, оно не обижало, скорее всего, тихо-тихо предупреждало. А о чем? Никто из нас не догадывался… Поднялась с нашей передовой, с нашего поемного берега осветительная ракета, слышнее застучали наши пулеметы, но всем нам казалось, что стукают они не всерьез, как бы нарочно.
Наш плот выбрался на самый стрежень, представлялось: тут-то и нужно приложить все наши усилия, чтоб удержаться, не потерять избранное направление, но лейтенант Брэм приказал особо не усердствовать, он все так же пристально всматривался в показавшийся нам при свете нашей высоко взлетевшей ракеты сумрачно насупившийся берег.
Грохнули наши батареи, над нашими головами с журавлиным придыханием пролетели тяжелые, должно быть, гаубичные снаряды. Немцы не замедлили ответить, но было заметно, что они не хотели ввязываться в перестрелку. В это время наш плот вплотную придвинулся к отвесной крутизне сумрачно насупленного берега. Лейтенант Брэм первым сошел на берег, сошел не пригибаясь, сошел так, чтоб немцы услышали проскрежетавший под подошвами сапог ракушечник. Засветился своим круглым оком электрофонарик, и тогда-то я услышал вопросительно произнесенные слова:
– Stalin kaput?[2]2
Сталин капут? – Здесь и далее пер. с нем.
[Закрыть]
Ответа не последовало, но я видел, как лейтенант Брэм приложил к каске руку, потом сделал один шаг в сторону, как бы давая нам взглянуть на грузно стоящих, как бы на другой планете живущих людей, они сами освещали себя все тем же круглящимся оком. Зашевелились упрятанные в карманы моих брюк гранаты, стала ощутимей их тяжесть, но я терпеливо ждал, когда лейтенант Брэм даст условный сигнал. Был ли он, этот условный сигнал, или не был, может, все получилось само собой: рухнули без шума, без крика два черепашьих панциря, упали они на стеклянную россыпь ракушечника, а третий панцирь оказался на плечах лейтенанта Белоуса, лейтенант Белоус легко справился со своей ношей, невредимо возвратился к приткнутому к песчаному мыску надежно сбитому плоту. И тогда-то я услышал взрывы наших гранат, лейтенант Захаров глушил какой-то блиндаж, выскочили и из моего кармана увесистые лимонки…
Нанесенный прибрежным немцам удар был так ошеломляющ, что все мы беспрепятственно возвратились на свой плот, беспрепятственно оттолкнулись от песчаного мыска.
Взмыла ядовито-зеленая ракета, осветила всю ширину реки, сделала ее похожей на весеннюю луговину, и тогда-то торопливой косой прошелся по этой луговине скорострельный немецкий пулемет. Признаюсь, на меня нашел страх, но я боялся только за себя, а лейтенант Белоус, он боялся еще за прихваченного немецкого офицера, его надо было во что бы то ни стало доставить живым. А обезоруженный, схваченный железным капканом удивительно цепких рук офицер, видимо, решил лучше умереть от своих пуль, чем предстать в качестве языка в русской штабной землянке. Он попытался привстать, попытался кинуться в воду. Лейтенант Белоус никак не мог укротить своего подопечного, пришлось навалиться на него всей тяжестью крепко сбитого тела и держать до тех пор, до той минуты, когда плот подвалит к песчаной косе, к той косе, что памятна нетронутой, девственно-чистой белизной. Усилился пулеметной огонь, он не давал возможности взяться за шесты, и мы долго не могли добраться до упомянутой косы, до ее девственной белизны. Кого-то осенила мысль опустить себя в воду, добираться самоплавом, поодиночке. Первым, сбросив сапоги, поплыл Захаров, за ним старший сержант Чернышев, за старшим сержантом совсем неведомый мне, не проронивший ни единого слова рядовой боец, на плоту остался лейтенант Брэм и его ординарец, которого все звали Лешкой, и еще лейтенант Белоус с подмятым им немецким офицером. Кто-то из отплывших подал голос, на этот голос с дрейфующего плота была брошена длинная веревка.
Падали, шипели, как гусыни, осветительные ракеты, они перестали шипеть только тогда, когда вторично ударили наши батареи. Гаубичные снаряды рвались, вприпрыжку бегали по самой кромке передовой, по ее высокой береговой крутизне. Пулеметный огонь заметно ослаб, и мы благополучно добрались до песчаной косы. Я был среди тех, кто добирался самоплавом, я видел, как старший сержант Чернышев схватил сброшенную с плота веревку, минут через десять все самоплавцы ухватились за ее пеньковый конец, стали подтягивать дрейфующий плот, а когда подтянули, не услышали густого баса лейтенанта Белоуса, он недвижимо припал к кругло бугрящимся осинам, выпустив из рук нехотя привставшего офицера, привставшего для того, чтоб ступить на влажный, прилизанный неторопливой волной песок, рашпильно зашаркать по ее выбрезжившейся белизне.
Не знаю, может, час, а может, два часа просидел я на крутом донском берегу. Я разобиделся на милицейских работников, обида моя, правда, не сразу, но все же испарилась. Больше того, я уже был готов поблагодарить бдительного оперуполномоченного за то, что он мне предоставил возможность побыть в Семилуках. Во-первых, хорошо, зелено-уютен сам городок, во-вторых, я увидел следы, правда, не своих, немецких окопов. Что ж, иногда и по чужим следам можно выйти на свою дорогу.
В Семилуках я решил заночевать, и не где-нибудь, не в какой-нибудь сторожке, надумал заночевать в гостинице. Она как раз за моей спиной. Бессонно проведенная ночь в отделении стала оказываться, в глазах рябило, а тут еще и солнце, нещадно палящее, стоймя стоящее над моей непокрытой головой.
Места в гостинице не оказалось. Приехала делегация. Что за делегация?
– А шут ее знает, – ответила администраторша, – говорят, немецкая, из Германской Демократической Республики…
Не знаю почему, но я неравнодушен к делегациям, мне всякий раз хочется взглянуть на людей другой страны. Хотелось мне увидеть и немцев, сегодняшних мирных немцев.
Я сел на аккуратно зачехленный диван, раскрыл недочитанную книгу, но читать не мог, буквы сливались, заволакивались каким-то туманом. Запрокинув голову, я плотнее придвинулся к спинке дивана и задремал, перед глазами что-то сыпалось: то ли тополиный пух, то ли снег. Вскоре все побелело, свалилась настоящая зима. Себя я увидел в валенках, опять с автоматом в руках, но не сидящим в окопе, а бегущим по снежной целине, явственно увидел и своих побратимов.
12
Щедро, направо и налево разбросала осень свое богатство – червонное золото, а потом спохватилась и разрыдалась. А отрыдав, отдождясь до последней капли, прихватила заморозком раскисшую землю и незаметно ушла.
Вплотную приблизилась вторая военная зима, она, как и первая, началась активными действиями наших войск. Все мы следили за той великой битвой, которая развернулась в Нижнем Поволжье, у стен легендарного города, именуемого ныне Волгоградом. И когда мы узнали, что враг умело взят в крепко зажатые клещи, за спиной у нас распахнулись крылья и, окрыленные, в любую минуту были готовы двинуться вперед. С нетерпением ждали приказа о наступлении. Стоять на одном и том же месте, каждодневно слышать: «Кому?» – «Тютюннику». – «Кому?» – «Адаркину». – «Кому?» – «Лейтенанту», – до тошноты надоело. От скуки длинными вечерами стали ходить друг к другу в гости. Однажды в мой блиндаж заглянул не так давно присланный в нашу роту замполит Гудуадзе. Близко я с ним не успел сойтись, замполит годился мне в отцы, он был старше меня лет на тридцать, но я чувствовал: замполит неравнодушен ко мне, и не только как к командиру взвода, но и как к человеку. Он как-то говорил мне:
– Закончим войну, в Грузию вместе поедем, женим тебя, такую свадьбу сыграем, какой ты и во сне не видел.
– А на ком жените, товарищ старший лейтенант?
– Эх, чудак-человек! На девушке, на нашей девушке. Какие девушки есть в Грузии! Эх, чудак-человек, если б ты увидел их, ослеп бы, как от солнца.
– А что бы я тогда стал делать? Вы женить меня собираетесь, а кто за слепого-то пойдет?
– Чудак-человек! Душа была бы не слепая, сердце не слепое. Сердцем надо смотреть, душой смотреть.
Да, замполит Гудуадзе умел смотреть сердцем и душой. Большой, по-медвежьи неуклюжий, в шинели, надетой на телогрейку, он с немалым трудом пролез в мой блиндажик и, отрывая примерзшие к усам сосульки, спросил:
– Ну как, тебя тут не замело?
– Как видите, товарищ старший лейтенант, пока нет.
На улице вторую неделю бушевала метель. Замполит поспешил рассказать историю, которая произошла с командиром третьей роты лейтенантом Полянским. На позициях его роты неожиданно глубокой ночью появился командир бригады полковник Цукарев, появился в сопровождении женщины в комсоставской, по заказу сшитой шинели. Полковник выстрелом из ракетницы дал сигнал боевой тревоги. Расчеты, выбежав из блиндажей, припали к своим заваленным снегом ружьям. На свои места встали и командиры взводов, не было только командира роты, он был в блиндаже и не мог из него выйти: снег завьюжил выход. Тогда командир бригады приказал вылопатить лейтенанта Полянского. Вылопатили. Лейтенант стал подниматься на ноги, но в этот момент раздался выстрел. Полковник был сильно пьян и промахнулся, лейтенант невредимо встал и виновато опустил руки. Возможно, полковник выстрелил бы еще раз, но его пистолет оказался в руках рядом стоящей женщины. Все притихло, слышен был только женский голос:
– Полковник Цукарев, одумайтесь!
Полковник одумался, не дал волю своим кулакам, зато зло и угрожающе проскрипел железными вставными зубами. Лейтенант, он стоял, не проронив ни единого олова. Утром его вызвали в штаб бригады.
Командир третьей роты мне хорошо запомнился по Новоузенску. Чернявые, прикрытые слегка сдвинутой на затылок пилоткой, мягко вьющиеся волосы, увалистая, неторопливая походка. И широкая, зовущая к себе улыбка.
– А где он сейчас? – спросил я грустно смолкшего, прищуренно смотрящего замполита.
– Полянский где? Отправили в штрафной. По приказу командира бригады.
В это время в блиндажик бочком пролез ефрейтор Заика с беременем метко наколотых досок. Увидев замполита, Заика смутился, а замполит, вынув из кармана гребешок спичек[3]3
Во время войны в большом ходу были спички, которые не укладывались в коробок, они щепочками, похожими на гребешки, носились в карманах шаровар или гимнастерок.
[Закрыть] и привстав, попросил скорее зажечь печку.
Заика сам любил всякий огонек, он одной спичкой расшевелил печурку и, подкладывая в нее мелко наколотые смолистые дощечки, весь светился блаженной, умильной радостью.
Из-за вещевого мешка на весело взыгравший огонек глянул мой зеленоглазый сибиряк. Учуяв незнакомого человека, хотел было опять спрятаться, но замполит заметил его, удивленно спросил:
– Откуда он, этот генацвали?
Я впервые услышал «генацвали», но старший лейтенант произнес его так, как будто увидел самого близкого друга.
Я погладил своего «генацвали» по мягкой с темными пятнами, пушистой спине, и он, мурлыкая, стал ласкать мои колени сладко прищуренной усатой мордой.
– Дорогой! Продай мне его. Тыщу рублей дам! Две тыщи дам!
Я не мог не улыбнуться, потому что давным-давно знал, что на свете существуют деньги и на них можно что-то купить. А «генацвали» разлегся на моих коленях, подобрал хвост и, надо полагать, был очень доволен, что по достоинству оценен. Он стал острить свои когти о мои ватные штаны, острил осторожно, чтоб не задеть за живое и не вызвать нарекания со стороны хозяина.
Не хотелось мне расставаться со своим давним окопным жильцом, а Гудуадзе, поняв, что увиденный им зеленоглазый сибиряк выше всяких денег, предложил полевую из добротной кожи сумку.
– Товарищ старший лейтенант, я вам так отдам…
– Зачем так, такого кота так не отдают.
– Тогда подарю.
От подарка не принято отказываться, но я думал, что все равно не навсегда расстаюсь с сидящей на моих коленях кошачьей песенкой, я знал, что она возвратится в мой блиндаж, по крайней мере, будет жить на два двора.
Опять, умильно светясь и улыбаясь, заглянул Заика, он торжественно сообщил, что прибыли очередные наркомовские сто грамм, и хитровато спросил, что с ними делать?
– Неси сюда, пить будем, – проговорил замполит, проговорил так, что я забыл о той субординации, которая соблюдалась и на фронте, держала на определенном расстоянии не равных по должности или по званию людей.
Заика принес мою и свою долю, принес прямо с улицы на донышке прихваченного изморозью алюминиевого котелка.
Мне хотелось, чтоб замполит без моего участия опорожнил принесенный котелок, не опорожнил, котелок пребывал в моих руках, и я не знал, что с ним делать.
– Пей, сам пей!
– Я не пью, товарищ старший лейтенант.
– Как не пьешь? От наркомовской пайки грешно отказываться. Наливай, себе наливай и мне наливай.
Налили в гильзу ружейного патрона. Пили, ощущая на губах сладкий привкус жарко горящей меди. После первой опрокинутой гильзы у меня появилось желание рассказать об одном забавном случае, который не мог бесследно улетучиться из памяти.
Уходил я в армию, уходил не с одними сухарями, в мой чемодан провожающие меня односельчане не забыли вложить литровую бутыль с соответствующей зеленоватой наклейкой. Случилось так, что бутыль эта так и осталась нераспитой, вместе с ней я прибыл в запасной полк, что располагался в городе Бугульма. Пожалуй, я и не вспомнил бы о покоящейся в моем чемодане бутыли, если б не услышал, как грозно отчитывали одного новобранца за самовольную отлучку, за то, что он не удержался, соблазнился сорокаградусной отравой, новобранца отчитывали перед строем, правда, еще не обмундированным, но все же обязанным воспринимать воинскую дисциплину.
– Есть случаи, – говорил командир запасного полка, – когда недозволенные напитки приносят в расположение части. Это уже преступление, за которое виновные будут подвергнуты строжайшему наказанию, вплоть до предания суду военного трибунала.
У меня задрожали поджилки. Мой чемодан с бутылью недозволенного напитка давно находился в расположении части. Достаточно кому-то проявить некий оперативный нюх, и преступление налицо, трибунал неминуем. Что ж делать? Как быть? Как избавиться от злосчастной, пока что неунюханной бутыли? Я притворился больным, надеясь, что у меня будет свободное время и некоторая свобода. Я жестоко просчитался, ни того, ни другого у меня не было, меня сразу же направили в санчасть, и не одного, с целой командой таких же, как я, мнимых больных, сачков. Фельдшера, медсестры легко распознавали даже хитро придуманные болезни и особо не утруждали себя в определении диагноза, приступали прямо к профилактике: болящих незамедлительно передавали в распоряжение специально прикомандированного к санчасти старшины. Старшина выстраивал их и, вооружив совковыми лопатами, сопровождал на станцию на разгрузку каменного угля. Таким образом я впервые спознался с совковой лопатой, впервые подышал угольной пылью и больше никогда не заикался о какой-либо болезни, старался скрыть любое недомогание. Что касается недозволенного напитка, я долго мучился, не зная, что делать, как быть, как избавиться от него, и только глубокой ночью, когда убедился, что дневальный потерял надлежащую бдительность, по-воровски раскрыл свой чемодан и ужаснулся – бутыль круглилась на виду, зеленела своей компрометирующей наклейкой. Под полой пиджака вынес ее на улицу и без какой-либо жалости бросил в уборную.
Замполит укоризненно посмотрел на меня и сожалеючи проговорил:
– Чудак-человек! Не надо бросать, ничего не надо бросать, поднимать надо!
И он поднял, приблизил к своим усам наполненную наркомовскими граммами жарко горящую гильзу.
Доски в печурке догорели, и мы решили «погреться» в общем совсем неподалеку вырытом блиндаже. У входа в блиндаж в неглубокой, все время заметаемой траншее стоял часовой. На этот раз стоял рядовой Наурбиев, который отличался не одной любовью к кинжальному штыку, но и кошачьей неусыпной зоркостью. Наурбиев заметил, сразу увидел, что я иду не один, что со мной идет замполит, а раз так, он остановил нас не в меру строгим окриком:
– Стой! Кто идет?
– Свои, кацо, свои.
Замполит не мог не поинтересоваться делами своего земляка, кавказского человека.
– Дела… Нет дела. Часовой не разговаривать.
Метель не утихала, все западерилось, замшилось, но темноты особой не было, над примкнутым штыком наурбиевской винтовки угадывалось желтое пятно давно взошедшей расплывчатой луны. А из-под земли, из блиндажа робко проклевывался свет подвешенного к бревенчатому накату дымно горящего провода. Слышалась вонь чадящей смолы.
Замполит шмыгнул ноздрями, а я приподнял заледенелую, дубком скореженную плащ-палатку.
– Смирно! Товарищ старший лейтенант, – голос моего помощника старшего сержанта Ковалева прервался, но ненадолго, старший сержант сообразил, как доложить о том, чем занимается сидящий перед дымно чадящим проводом взвод, он отчеканил: – Взвод занимается самоподготовкой…
Старший сержант Ковалев не так давно прибыл в мой взвод и по рекомендации командира роты стал моим помощником вместо куда-то убывшего старшины Капустина, дисциплина во взводе намного повысилась. Раньше я не слышал, чтоб кто-то подал команду «смирно» даже при появлении более высокого начальства, чем замполит. Беда вся в том, что нельзя было встать, вытянуть по швам руки, и все же глуховатый Симонов расправил плечи, выкатил приподнятую грудь, а Тютюнник стукнулся головой о зализанный чадящим проводом накат и после долго почесывал давно не стриженный затылок.
– Товарищ старший лейтенант, садитесь…
Гудуадзе поблагодарил за проявленное внимание и грузно опустился на земляные, прикрытые плащ-палаткой нары, он успел уже осмотреться и, потирая увлажненные снежинками пухлые руки, спросил: как дышат товарищи-противотанкисты?
– Полной грудью, товарищ старший лейтенант!
– Молодцы.
– Молодцы для овцы, для коровы не здоровы…
– Почему не здоровы?
– Тютюнник на тот свет собрался.
Прерванный нашим появлением рассказ Тютюнника о том. как он собрался побывать на том свете, незамедлительно возобновился.
– Я чув, – рассказывал Тютюнник, – що командир роты все дивится на мэне и чикае, колы зи мною ще яка напасть стромтиться. Так воно и сталось. Поднялся я у вись зрист и побиг за снеданком. Добиг. Помятуете, колы це було? Тоди знову зувстрился з командиром поты. «Ты що на весь зрист выставился?» – хмарно напустився вин на мэне. «С радощи, товарищ лейтенант». – «С якой-такой радощи?» – «Як з якой? Снеданок привезли». – «Добре, цый радощи я у тебе не вызийму, забирай ее в свой окоп, но ривно через полгодины будь знову тут, я тебе растрюляю». – «За що, товарищ лейтенант?» – За твою радисть». – «Та ее бильше нема, вона вся выйшла». – «Тоди за твою дурну голову». Я сам разумив, що голова у мэне не дюже мудра, и спробовав вразумить командира роты, що не след выбрачати на нее нашу руску кулю, нехай краше загине вид немецкой кули… Не знаю, скилько хвилин я лиз до своего окопу, але з снеданком я справился за едну хвилину. Хлиб весь зьив, цукер зьив, все зьив до крохи. И не наевся. Думав, на тим свите наемся. Повертался до командира роты. «Молодец Тютюнник, зробив все вчасно. Берти лопату та копай соби могилу». – «Товарищ лейтенант, може, я обойдусь и без могилы?» – «Приказав тоби копать, так копай!» Взялся за лопату и став копать, копав до ночи, выкопав не могилу, а целый хид сообщения. Командир роты подивился и сказав: «Добре, Тютюнник, добре. Теперь з котелками ползать не треба. Иди видпичивай». А я исти хочу, як волк. Чекаю, колы привезут вечерю. Але ее не привезли. Тоди я дюже пожалковав, що на тим свите не попав на довольствие и на цьему остався голодным…
Украинская мова Тютюнника едва ли полностью доходила до замполита, да он и не мог знать, что за историю рассказывал винницкий колгоспник. А я, я не мог не вспомнить, как Тютюнник слизывал с длиннопалой ладони только что полученный цукор, как он быстро опростал свой вещмешок от всех съестных припасов, но я не знал, что лейтенант Шульгин так жестоко наказал винницкого колгоспника за то, что он «во весь зрист з котелками биг».
– Товарищ старший лейтенант, а вы нам что скажете? – подставляя к уху тяжелый ковшик ладони, по-уральски проокал сидящий неподалеку от чадящего провода рядовой Симонов.
– Ты все равно не услышишь… Лучше обратись к генералу, чтоб он тебе еще две порции добавил.
Слова эти были сказаны младшим сержантом Адаркиным, который частенько жаловался на не то чтобы скудный, но все же недостаточный наркомовский паек, его недостаточность особо остро ощущал уральский рудокоп. Как-то на опушке леса в сопровождении нового командира батальона и других более видных командиров появился командующий Воронежским фронтом генерал-лейтенант Ватутин. Командующий заинтересовался, как питаются товарищи-противотанкисты, и решил пройти к кухне. Навстречъ попался рядовой Симонов. Командующий остановился, спросил глуховатого уральца, что у него в котелке.
– Каша, товарищ генерал!
– С маслом или без масла?
Симонов не расслышал этого вопроса, ему показалось, что командующий спросил: мало или немало?
– Мало, товарищ генерал!
На другой день Симонов стал получать удвоенную порцию, хотя давно уже получал внушительную добавку, так как, когда заболел и убыл Селиванчик, уральскому рудокопу пришлось быть первым и вторым номером, а это значит: он один носил и ружье, и патроны к нему, и противотанковые гранаты – всего килограммов шестьдесят. А когда перешли к долговременной обороне, один вырыл самый большой ход сообщения, да и общий блиндаж он один выкопал, остальные заготовляли накат, поэтому уральский рудокоп и не обратил внимания на едко сказанные слова младшего сержанта Адаркина.
В проходе блиндажа, откинув скореженную, забитую снегом плащ-палатку появился весь замятюженный Наурбиев. Он что-то говорил, но что – понять было трудно.
– Снег кричит… Земля кричит…
– Да говори ты толком, что случилось?
– Кричит, кричит… Послушать… Пойдем.
Почти всем взводом вместе с замполитом мы высыпали на улицу. Стали прислушиваться, но долго ничего не могли услышать: все так же неутешно голосила метель, задиристо кидалась из стороны в сторону змеино шипящая поземка, поблизости, покачиваясь, топтался глухо ревущий, дерево о дерево постукивающий лес. И вдруг откуда-то из-под снега послышался придавленный, взывающий о помощи человеческий голос. Армейская находчивость помогла нам, мы быстро сообразили, откуда исходил этот голос: он вырывался из перекрытого от заносов хода сообщения. Электрофонариков у нас не было, нащепали лучины, с зажженной лучиной двинулись навстречь взывающему голосу. Первым в ход сообщения вошел Заика, он оказался более расторопным, более чутким к исходящей истошным криком человеческой душе. Заика вскоре вернулся, доложил, что ход перемело, замятюжило до самого перекрытия. Взяли в руки лопаты, но лопатами не смогли докопаться теперь уже до едва слышного, с каждой минутой слабеющего стона. Пришлось взяться за ломы и кирки, ими-то разворотили весь смерзшийся ход сообщения и в его засугробленной горловине увидели перехлестнутую портупеей шинель и приподнятую, засыпанную снегом шапку-ушанку.
– Та це товарищ капитан, – недоуменно пробалакал по-журавлиному стоящий в короткой, ошарпанной шинелишке все время хватающийся за уши Тютюнник.








