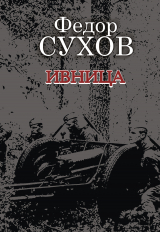
Текст книги "Ивница"
Автор книги: Федор Сухов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
15
Круто, до ломоты зубов завернул уныло гудящий в телеграфных столбах нахрапистый мороз. В колодезную, бездонную стынь предутреннего неба встолбился над каждой хатой, вырос, как мачтовый лес, отдающий навозной, распаренной сладковатостью соломенный дым. И непонятно, то ли от дыма, то ли от нестерпимо крутого мороза слезилось все небо крупными, блескучими звездами.
Простуженно зачихали, дрожа укутанными радиаторами, выползающие на дорогу грузовики. Сердито взвизгивал под их буксующими колесами комковато спрессованный снег. Комки попадали под носки валенок, стеклянно позванивали. Кто-то вспомнил наркомовские сто грамм, их обычно выдавали к ужину, но на этот раз не выдали и к завтраку.
– А за що вьдавати, мы же зараз не на фронте, – мудро рассудил впряженный в ледащий вещмешок Тютюнник.
– По машинам!
Поданная командиром батальона команда подхватила меня и легко бросила в кузов утробно взвывающего грузовика. Первым делом оглядываю своих бойцов, все ли на месте, не остался ли кто в хате? Никто не остался, все на месте. И сидят все тихо, не переговариваясь, сидят, зажав в коленях скользкие от мороза винтовки.
Качнулось усыпанное учащенно дышащими звездами высоко приподнятое небо. Легла под колеса все та же широко расчищенная дорога, она не огласилась обычным в таких случаях собачьим лаем. Собаки, ежели они и были в Левой Россоши, что-то учуяли и загадочно молчали. Да и все молчало, не потому ли я больше смотрел на небо, чем на землю. Небо жило, шевелилось, дышало звездами, земля, она – как умерла, испустила последний дух: ни единого огонька, ни единой искорки, только встречный ветер, сердитый, пронзающий насквозь и жгучий, как раскаленное железо. Чудно как-то, была Левая Россошь и нет ее, этой Левой Россоши, был генацвали, его тоже нет, пустота за моей пазухой, но я по привычке нет-нет да спохвачусь, загляну за борт глухо запахнутой шинели.
Прискакнул, ударился о доски кузова приклад зажатого в коленях автомата, ударился так, что, если б затвор не был поставлен на предохранитель, мог бы получиться непроизвольный выстрел. Значит, бережет меня какая-то неведомая сила от немецкой и от нашей, русской пули. И все-таки я не обольщался, не думал, что меня минует любая пуля. В сущности, я еще не участвовал ни в одном серьезном бою. Очутись я рядом с Ваняхиным, может, и меня бы не было.
Три секунды осталось жить… Шутил Ваняхин или не шутил, когда он говорил эти слова, но я не мог не заметить: младший лейтенант боялся смерти, боялся своей пули, своего осколка.
«А кто не боится, кто не страшится, – сказала бы бабка Груня, – трава, и та сама под косу не ляжет».
Мне ничего не было сказано, куда катились наши колеса, но я сам знал, куда они катились. Катились не так чтобы шибко, но на рассвете они успели докатиться до леса, из которого можно было увидеть лебединые шеи низко кланяющихся ракет. Их потусторонний, мертвый свет касался наших лиц, но – команда дана – и мы повзводно, поротно, теперь уже пешим порядком двинулись на этот свет, на эти лебединые шеи, двинулись не по дороге, по снежной целине, сшибая вскинутыми на плечи ружьями еще несгасшие, низкие звезды. Они всегда снижаются и крупнеют по паутри, и что мы хорошо знали, что звезды точней любых часов чуют время, чуют они и смерть, умирает человек, звезда гаснет. Должен сказать, последнее утверждение вряд ли правдоподобно, за полтора года войны столько сгинуло людей, что, вероятно, все звезды давно бы могли погаснуть…
Не знаю, сколько километров мы прошли пешком, думается, не так уж много, километров пять, не больше, так как на рассвете мы заняли новые позиции, заняли их в селе, окопались под стенами кирпичных, не так уж ошарпанных домов. К немалому нашему удивлению, даже деревянные дома, и те стояли, правда, с вывернутыми потрохами, но стояли, смотрели глазницами выбитых окон. Было бы наивно предполагать, что мы в точности выполнили приказ командира роты: никуда не отходить от ружей, зорко следить за поведением противника, держать себя в полной боевой готовности… Следить за поведением противника следили, держать себя в боевой готовности – держали, но до тех пор, пока не уяснили, что мы находимся в не очень-то угрожающей обстановке. Поднимем головы, и – ничего, головы наши остаются целыми. А дня через два мы настолько осмелели, что повылазили из своих с великим трудом выдолбленных нор и решили обосноваться более комфортабельно, под крышами домов, возле давно не топленных печей. Печи мы не топили, но грубки мы стали топить, правда, робко, чтоб не заметил не только младший лейтенант Заруцкий, но и его ординарец сержант Афанасьев. Топили по-черному предусмотрительно прикрыв чугунной задвижкой устланный лохматой сажей коленчато выгнутый дымоход. Особое старание проявил Тютюнник, он готов был задохнуться в дыму, лишь бы спочивать в тепле и не стоять на скаженном морозе. Но случилось так, что мороз неожиданно сник, поробел, как будто напугался нашего дыма. С крыш посыпалась капель, осел и, присмирев, посинел снег, запахло мочеными яблоками, так всегда пахнет тающий, исклеванный капелью снег. Оттаяли завалины, запахли прелым навозом, запахли землей, а запах земли, он – как спирт, хмельно кружил голову. В сенцах в куче мусора я заметил вырванный из старого дореволюционного журнала листок, поднял его, поднял потому, что на нем беспризорно мокрели строфы льнущих к глазам, прилипающих к сердцу стихотворных строк:
Черны проталины. Навозом.
Капустной прелью тянет с гряд.
Ушли метелицы с морозом,
Оставив марту снежный плат.
И за неделю март-портняжка
Из плата выкроил зипун.
Наделал дыр, где пол запашка,
На воротник нашил галун.
Кому достанется обнова?..
Трухлявы кочки, в поле сырь.
И на заре в глуши еловой,
Как ангелок, поет снегирь.
Капели реже, тропки суше,
Ручьи скатилися в долок…
И на припеке лен кукуший
Вздувает синий огонек[4]4
Стихи Н. А. Клюева.
[Закрыть].
Вряд ли когда-нибудь вернется ко мне то ощущение, то первобытно-языческое блаженство, которое нашло на меня, вошло в меня с листа старой брошенной бумаги, пожалуй, только в детстве я испытал что-то подобное, и не от стихов, испытал от испеченного из ржаной муки и привязанного на суровую нитку жаворонка в один из дней Великого поста, когда я выбегал со своим жаворонком на первую весеннюю проталину, мне страшно хотелось, чтоб мой жаворонок взлетел и запел.
«Капустной прелью тянет с гряд…» Невольно глянул на огород, гряд не увидел, но снег, его бледная синева напоминала синеву капустного листа. И снегирь с утренней зарей на груди, он подпрыгивал, как палый листок с осеннего вяза, как яблоко, свежее анисовое. На заостренном, косо срезанном столбе сидела сорока, то и дело оглядывалась, опасливо озиралась, поводила черно и длинно торчащим хвостом, залезала клювом к себе под крапленые белыми пятнами скособоченные крылья. И вдруг ни снегиря, ни сороки – большое черное пятно на снегу и облако густого, подхваченного ветром дыма. Мина. Но когда она прилетела, я не слышал. Сорока оказалась предусмотрительной, вовремя сменила свой наблюдательный пункт, да и снегирь не такой уж ротозей, быстро вскрылил, как мячик перекатился на другую, более выгодную позицию.
Если мина упала без звука, без обычного длинного завывания, значит, противник близко, надо быть настороже, а то мы совсем по-домашнему зажили, парили откуда-то принесенную Заикой свеклу, подумывали даже о самогонке, об открытии винокуренного заводика. И мы бы запросто соорудили такой заводик. Тютюнник объявил себя мичным мастером по изготовлению не менее мичной горилки. И все же не противник помешал нашим далеко идущим замыслам, помешал ординарец командира роты сержант Афанасьев, он явился во взвод и передал приказ младшего лейтенанта Заруцкого о немедленном переходе всей роты на новые позиции, передал как раз в то время, когда Тютюнник раздобыл железный бачок и крутил в руках какую-то трубу, по которой должна была течь выпаренная из свеклы чудотворная водица.
Старший сержант Ковалев косо глянул на винницкого колгоспника и, раздосадованный неосуществившейся соблазнительной затеей, гневно приказал бросить все бачки и трубы.
– Як бросить? Сам балакал, що будьмо пить свою горилку…
Как всегда, снимались ночью. Снег после оттепели занастел, и, наверно, было слышно, как шмыгали наши валенки, наши шаги, а возможно, их глушила темнота, глушило непроглядное небо, что прилипло к земле, к погасшей белизне завьюженного поля. Уткнулись в сплошную темь, темь стеклянно позванивала. Прислушались – звенел лес, звенел примерзшими к сучьям льдинками. Уткнули в наст ружья, передохнули, глазами ощупали друг друга.
– Товарищ лейтенант, не видно Симонова, – обеспокоенно проговорил по-кошачьи зоркий Заика.
И вправду, всегда видного, издалека приметного Симонова не было видно. Зато виден был его напарник – рядовой Фомин, который по своему росту мог уместиться в воронке от любого мелкокалиберного снаряда.
– Фомин, где Симонов?
– Я не знаю.
– Как не знаю?
Я пожалел, что впряг в одни сани уральского рудокопа и моршанского махорочника, но я руководствовался весьма благими намерениями: глуховатый Симонов всегда мог положиться на чуткого, все слышащего Фомина. И еще. Расчеты рекомендовалось формировать из непохожих друг на друга людей, тут учитывалось даже соцположение и происхождение. Поначалу расчет Симонова и Фомина не вызывал никаких подозрений. Все шло ладно, и вдруг – на тебе – все разладилось, распалось.
Старший сержант Ковалев отправился на поиски глуховатого уральца, нашел, привел к опушке леса.
– У меня ведь, товарищ лейтенант, куричья слепота, – не оправдываясь, а как бы между прочим сообщил пятидесятилетний тихий и незлобивый человек.
– И тетерья глухота, – съязвил младший сержант Адаркин.
Вошли в глубь все так же позванивающего льдинками лесного урочища. Остановились возле пугающей непроглядной темью яружины. Приказ – окопаться. Стали окапываться. Земля глубоко не промерзла, легко поддавалась лопате, и мы быстро вырыли несколько щелей, но сидеть в них не сидели, на валенки налипал сыроватый подзол, он грязнил стерильную белизну нашей русской зимы, пятнал ее великокняжье убранство.
Долга зимняя ночь, но никто из нас не томился, не тяготился медленно движущейся, осыпанной крупными звездами вороной кобылицей, мы привыкли к ней, обострилось наше зрение, даже Симонов, и тот не жаловался на свою куриную слепоту. Правда, мы давно не читали газет, они до нас все почему-то не доходили. Может быть, потому Тютюнник и заинтересовался старыми, довоенными газетами, приклеенными к потолку уже позабытой нами левороссийской хаты. Упущение это было кем-то учтено. И вот вместе с первыми лучами восходящего солнца в руках наших фронтовые и тыловые (московские) газеты. Прочитали утвержденное Президиумом Верховного Совета положение о переходе на новую форму одежды и введение новых знаков различия – погонов, лычек, звездочек на погонах.
«Все в точности так, как было в царской армии», – авторитетно утверждали те, кто помнил старую армию или служил в ней. Утверждали не во весь голос, побаивались рискованного сравнения: царская армия и Красная Армия, это же… Не остался равнодушен к новым знакам различия и Тютюнник, он свернул газету, свернул так, как был отпечатан на ней погон высшего комсостава, возложил на плечи и сразу произвел себя в генералы. Тютюннику больше всего приглянулись генеральские погоны.
– Товарищ старший сержант, генерал-майор Тютюнник…
Вытирает под носом сопли.
Злой помкомвзвода Ковалев сразу смазал блестящую карьеру винницкого колгоспника, генерала Тютюнника как не бывало, видно, быть Тютюннику всю жизнь рядовым.
Плох тот сержант, который не мечтает стать генералом, попробуй помечтай, тут даже пошутковать и то дюже не расшуткуешься: сопли, а що сопли, у всех вони текут, зима и то слюньки пустила, – так, наверно, про себя думал Тютюнник, развертывая еще не прочитанную газету.
Недели две протоптались мы в зазелененном горечью осин, стеклянно позванивающем лесу. Протоптались – вроде бы не то слово, если принять во внимание, что набитый до отказа всевозможными воинскими соединениями лес (я даже моряков видел) вскоре стал трамплином одной из самых удачных операций выжидательно притихшего Воронежского фронта.
Не только я, но, мне думается, и другие, более умудренные в жизни, более сметливые люди, находясь непосредственно в ротах, в батальонах, вряд ли представляли, что на войне есть некая невидимая пружина, от разжатия или сжатия которой зависит судьба не одного рядового Тютюнника, но судьба многих и многих тысяч людей, независимо от их звания и положения. Нам-то казалось, что мы давным-давно должны наступать, что мы напрасно топчемся в заляпанном вылопаченным подзолом, задымленном все время разогреваемыми танками лесу, но надо было приподнять чей-то палец, чтоб пружина разжалась, чтоб Тютюнник и Наурбиев не шомполами, а метко выпущенной пулей прочистили свои самозарядные винтовки.
Успел народиться чистый, как слезинка, новогодний месяц. Его крестная мамаша, позванивающая льдинками старуха-зима заметно приободрилась. Она прибрала распущенные было слюни, не капризилась и не задиралась, стояла ровная, мягко стелясь легкими снежинками. Высоко приподнимала она новорожденного младенца, который весь кругло обозначился, но светился одним правым краешком.
Я уже говорил, что занимаемый нами лес был набит всевозможными воинскими соединениями. В нем было тесно от пушек, от повозок, а больше всего от людей, много-много людей. Запала в голову одна ночь, с 13 на 14 января, как раз ночь под старый Новый год. В эту ночь я был назначен дежурным по батальону. Не знаю почему, но я всегда охотно соглашался на любое дежурство, наверно, потому, что еще до ухода в армию стал полуночником, не спал ночами. Зарницы во мне играли, а зимой совы кричали, филины ухали, а еще хотелось мне подследить домового, он выл в печной трубе, из трубы вылетал на волю, садился на круто выгнутый месяц и скакал на нем до самого утра.
Не скажу, что я уж больно чуток, но как-то привык если слышать, так всем телом, всем существом откликаться ну хотя бы на горечь осиновой коры. Почудилось мне в ней что-то весеннее, да и весь лес дышал предчувствием брезжущейся весны. Может, надутые, заледенелые почки бересклета обманулись, соблазнились краткой оттепелью? Нет, в нем что-то заходило, он как бы воспрял духом, он так же, как и я, всем телом слышал легкую поступь солнцеворота, солнце повернулось лицом к лету, спиной к зиме.
Глянул на небо, хотелось узнать, сколько времени, не узнал, звезд не увидел, а месяц, он круто выгнулся – к морозу. Решил – уже в который раз – пройтись по ротам, по взводам. Везде, как о частокол, натыкался на строгий окрик: «Стой! Кто идет?» Один только часовой не откликнул, из взвода лейтенанта Захарова.
– Задремал, что ли?
– Нет, не задремал.
– А что молчишь?
– Я хорошо знаю вас, поэтому и молчу.
Ответ явно не соответствовал параграфам устава караульной службы, а раз так, надо как-то припугнуть довольно-таки вольно чувствующего себя часового.
– А командира бригады полковника Цукарева знаешь?
– Доводилось встречаться.
– И ничего? Все в порядке?
– Жалко, что больше уж не встречусь с ним.
Молодцевато надвинутая на лоб с нераспущенными, угловато загнутыми ушами шапка, автомат на груди, ствол слегка приподнят, на нем рука в меховой, немного подогнутой варежке. Нет, такой орел задремать не мог. Откуда же такое пренебрежение ко мне как к дежурному? Так мог сказать только Тютюнник, да и то в оправдание своей явной промашки, долго раздумывая, как ему наикраще отвести от себя неминуемую притугу.
– Товарищ лейтенант, вы помните Семилуки?
Семилуки я не забыл, но я уже успел забыть старшего сержанта Чернышева, с которым вместе переправлялся через Дон, вместе глушил фрицев. И вот он стоял передо мной, этот старший сержант, в шинели, в валенках, стоял твердо, не переминаясь с ноги на ногу.
– Ты же в разведроте был, при штабе?
– Был да сплыл, был разведчиком, стал бронебойщиком. Ружье большое на одного, котелок маленький – на двоих…
В армии так уж заведено, такова традиция, всякий считает, что та часть, в которой он служит, самая лучшая часть, что оружие, которое он носит, самое лучшее оружие, и всякий горд, что он артиллерист, что он разведчик, поэтому переход из одной части в другую всегда ощущался болезненно. И я не мог не посочувствовать старшему сержанту, но сказать ничего не сказал, знал, что ружье действительно большое и – на одного.
Вероятно, в другое время, в другой обстановке мы бы предались воспоминаниям о нашем ночном визите на другой берег Дона, но на войне войну обычно не вспоминают, ни словом не обмолвились о лейтенанте Белоусе, как будто его и не было…
Позванивал лес, позванивала хрупкая ночная тишина. До войны я не слышал звона хрустальных новогодних рюмок, если б слышал, наверное, сравнил бы звенящие деревья с высоко поднятыми звенящими бокалами, наполненными похожим на свет месяца, как будто тоже звенящим вином. Тишина, хрупкая ночная тишина, хрупкая и очень чуткая, слышен каждый мой шаг, еще слышнее шаги часовых. Повернул к своему взводу, шел между осин, прошел мимо двух крапленых черными пятнами берез.
Плащ-палатки, приставленные к березам ружья. Поджатые длинные, в сибирских пимах ноги Тютюнника. Спит Тютюнник, прикрыв воротником шинели положенную на вещмешок голову. Спит и Наурбиев, тянет на себя соскальзывающий с заснеженного, стянутого откуда-то брезента мелким бесом рассыпающийся месяц.
Никто меня не окликнул, нашлась дыра в частоколе, и я стою в этой дыре, размышляя, что мне делать, как быть? Ничего не буду делать, пускай спят ребята, одно охота знать: кто же самовольно покинул пост? Наурбиев, Симонов? Нет, такого за ними не водилось. Пересмотрел всех спящих, по подшлемнику узнал Фомина, узнал Адаркина, Волкова, Заику, они спали к спине спина в вырытой в снегу ямине, неподалеку от хрустально позванивающей бересклетины. Не видно было Загоруйко, он-то и должен стоять на посту. Может, он и стоит?
Он стоял, притулясь к комлистой свилеватой березе, стоял лицом к уходящему в прозелень, теперь не так уж ярко и чисто светящемуся месяцу. Лениво припадали, садились на шапку-ушанку тихие, какие-то смешные и милые снежинки. Садились они и на ресницы ими же усыпленных и убаюканных глаз. Возможно, другой дежурный вспылил бы, разругал бы рядового Загоруйко – уснуть на посту, это же неслыханное… В том-то и суть, много раз слыханное и виданное дело. Да и сам я еще ни разу не был так заворожен лениво падающими снежинами, меня самого потянуло в сон…
16
Рванулся, подался вместе с восходящей зарей, сошел с места неожиданно грохнувший сотнями батарей зимний, исхоженный красноармейскими валенками, сразу всполошившийся лес. Было время, когда мне казалось, что только немцы, что только они способны по два, по три часа глушить ну хотя бы те памятные, и не одному мне, воронежские подсолнечники. Подхваченный, легко приподнятый, вразнобой, то басовито, то трескуче-раскатисто, как будто неслаженный, но единый в своем порыве, хватающей за душу канонадой, я даже не могу выразить, как я добежал до штаба батальона, чтоб доложить, нет, не о Загоруйко, не о том, что он уснул, доложить о том, что подмывало и хватало за душу, что сдвинуло с места не только лес, всю землю сдвинуло, окрылило ее, русскую землю окрылило… Белоснежные, лебединые крылья русской земли, они плескались, били мне в уши, и я не зажимал ушей, я слышал, как весело запела моя подогретая утренней зарей, тоже русская и тоже окрыленная кровь.
Старший лейтенант Брэм (он стал старшим лейтенантом) строго глянул на меня и пригасил мой мальчишеский восторг совсем обычно и привычно сказанными словами:
– Иди во взвод и жди дальнейших распоряжений.
А во взводе все встали на ноги, все впряглись в вещевые мешки. Набивали патронами подсумки, трогали защелки магазинных коробок, с оттяжкой чмокали затворами ружей.
– Вот и до нас докатился Сталинград, – проокал неизвестно кому, наверно, самому себе, уже готовый двинуться, готовый ступить на заснеженное поле брезентово опоясанный, на все крючки застегнутый Симонов. В нем есть что-то от Ермака Тимофеевича, от его дружины: широко расставленные ноги и взгляд, куда-то вдаль устремленный, все охватывающий, чутко настороженный взгляд.
– Что ты, Симонов, говоришь?
– Сталинград, говорю, до нас докатился.
Батареи били сначала во глубине леса, били без обычных (как летом) раскатов – отрывисто, резко, залпы не только слышались, но и виделись во всей своей огненной запальчивости, по отдельным звукам, по тону звука, по залпам уже научился отличать калибры как наших, так и немецких орудий, били наши 152-мм орудия. Потом шарахнули стоящие неподалеку от отрытых нами щелей 122-мм гаубицы, они как бы рвали на себе стесняющую их одежду и устремлялись вперед, подпрыгивая после каждого выстрела.
Не примятый, не исхоженный валенками снег до черноты надышался пороховой копотью. Прибежал сержант Афанасьев, что-то начал говорить, но я ничего не мог расслышать, за моей спиной ударила батарея 76-мм пушек, ударила так, что на мою шапку посыпались ледышки с тронутой черными пятнами комлистой березы.
– Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант…
Сержант приподнял руку, вытянул ее туда, где пребывал командир роты, я понял, что меня вызывает мое непосредственное начальство, мигом предстал перед его черно круглящимися глазами.
– Выводи взвод на опушку, – выждав кратковременной паузы в грохоте все еще не стихающей, довольно продолжительной артподготовки, приказал младший лейтенант Заруцкий, он и сам подался к хорошо памятной мне опушине.
Я шел впереди взвода, шел с готовым к бою автоматом, сейчас я могу даже в мельчайших подробностях восстановить внешнюю картину нашего наступления, но трудно после стольких лет передать – и не чьи-нибудь – собственные ощущения, я знал, как и всякий человек, идущий в атаку, что мне предстоит встреча – лицом к лицу – с противником, не исключена и рукопашная схватка, по всему чувствовалось, что мы будем действовать как стрелки-пехотинцы, впрочем, так и должно быть, я ведь даже кончал пехотное училище, бронебойщиком стал только потому, что была большая нужда в тех, кто мог противопоставить себя вражеской броне, ее ползущим гусеницам. На опушке я увидел старшего лейтенанта Брэма, он был в белом нагольном полушубке, полушубок был застегнут на деревянные палочки, и, что меня удивило: старший лейтенант с автоматом на груди, значит, он тоже пойдет в атаку… Артподготовка, близость комбата, всеобщая приподнятость, все это окрыляло, и я не могу сказать, что меня что-то могло остановить, придержать, я был похож на молодого жеребчика, неподалеку от смерти я не думал о смерти.
На правом фланге, в полосе наступления соседней с нами части, уже слышалось «ура», уже учащенно стучали пулеметы, а в воздухе стояли дымки от разрывов шрапнельных снарядов. Видел я и идущие, как по воде, брызжущие снегом наши тридцатьчетверки.
Взвилась серия красных ракет, я знал, что это сигнал нашего броска, нашей атаки. Первым двинулся взвод лейтенанта Захарова, двинулся рассредоточенно, поначалу вроде бы легко, но противотанковые ружья, патроны к ним пригибали взвод к замятюженной земле, ноги тяжелели, они с трудом выбирались из мятюга. Двинулся мой взвод, я знал, что по новому боевому уставу мое место в наступлении позади своих бойцов, но я был так легок на ноги, что сразу вырвался вперед, да и как не вырваться, я был отягощен одним автоматом, а тот же Загоруйко, тот же Волков – винтовкой, противотанковым ружьем, противотанковыми гранатами.
– За Родину! За Сталина!
Придерживаю себя, оглядываюсь, вижу капитана Салахутдинова, это он кричит, он воодушевляет приотставшего Наурбиева. Капитан догоняет Наурбиева, догоняет Тютюнника, он обнажил, поднял над головой свой пистолет, он бежит неустрашимо и неудержимо, так что рассказанная Ваняхиным колодезная история теперь могла показаться явно неправдоподобной.
Резанула пулеметная очередь, резанула так, что пули, как мне казалось, застряли в моих ушах. Застряли они и в ушах Адаркина, даже Симонов, и тот услышал их причмокивающий посвист.
Чох-чох… тик-тью… фью-фью-фью…
Взвод залег. Ударился зашинеленной грудью о волноватое, зыбучее стекло наста и – замер.
Я знал, что надо стрелять, надо вести ответный огонь. Все это знали, но попробуй приподними голову, а не приподнимешь – не стрельнешь. Примечаю какой-то бугорок, ползу, вижу припорошенный, заледенелый труп нашего пехотинца, а вон еще труп, много-много трупов. Значит, какая-то пехотная рота раньше нас пыталась прорвать оборону противника. Не прорвала, полегла.
Приподнимаюсь, бегу, как на комки сахара, на вылопаченный из траншей снег.
Чох-чох… тик-тью… фью-фью-фью…
Нет, я не упаду на стекло наста, не спрячу приподнятую голову за какой-то бугорок. Я знаю, что упасть куда легче, чем встать, а не встанешь, не приблизишься к комкам блистающего под холодным низким солнцем ослепляющего сахара.
Бегу, бегу так, что на какое-то время забываю об Адаркине, Тютюннике, Наурбиеве и не слышу ни ветра, ни посвиста пуль, ничего не слышу, слышу только треск своего автомата, я приближаю свой автомат к вылопаченному снегу, но стрелять не стреляю, я вижу черные бараньи шапки, вижу поднятые руки. Кричу:
– Gewer wey![5]5
Оружие прочь!
[Закрыть]
Поднятые руки зашевелились, дали понять, что к оружию они уже не прикоснутся.
– Мы не немец, мадьяр мы. Плен… Плен…
Мадьяр я никогда не видел, может, поэтому жестом скользнувшей по шинели руки я потребовал от близко стоящего солдата, чтоб он предъявил мне свои документы.
Взял вынутый дрожащими пальцами глянцевито-черный бумажник. Увидел в нем, по всей вероятности, солдатскую книжку и голубые маленькие конвертики. В одном из конвертов хранилась фотография миловидной девушки.
– Das ist deine Frau?[6]6
Это твоя жена?
[Закрыть]
Солдат отрицательно покачал головой. Потом он сказал так, что я сразу все понял:
– Это моя… Любишь… Кохать…
Я возвратил, передал в дрожащие, может, от холода, а может, от страха руки глянцевито-черный бумажник, руки эти благодарили меня, благодарили и глаза, прикрытые длинными, мохнатыми от инея ресницами.
Они выходили из траншей, из ходов сообщений, молодые и пожилые, усатые и безусые, они, как сурепкой, зажелтили своими шинелями белоснежное русское поле, они, сыны голубого Дуная, наконец-то отвоевались. Плен… Плен…
На некоторое время я сделался как бы начальником по приему военнопленных. Если б не капитан Салахутдинов, я бы, наверное, еще долго перебирал в памяти знакомые мне со школьной скамьи немецкие слова, доказывал бы охотно соглашающимся солдатам, что Hitler nicht gut[7]7
Гитлер нехороший.
[Закрыть].
– Хорти, Хорти…
Я не мог не знать, кто такой Хорти, и говорил:
– Хорти auch nicht gut[8]8
Хорти тоже нехороший.
[Закрыть].
Капитан Салахутдинов все еще не выпускал из рук пистолета, он вытащил из какой-то норы странного человека и привел его на сборный пункт. Человек был одет в рваный русский полушубок, обут в какие-то соломенные морозоступы. Капитан, надо полагать, думал, что он поймал важную птицу, возможно, переодетого генерала, которого надлежит сдать в начальственные руки, хорошо бы самому командиру бригады. Но начальства поблизости не было, были Наурбиев, Тютюнник, Адаркин, люди невысокого полета.
Пленные переглянулись, увидели более представительного командира, чем я, и молча, с какой-то жалкой покорностью дожидались своей участи. Капитан ткнул пистолетом в рваный полушубок и спросил:
– Кто он?
– Я русин, пан. Холоп. Карпата. Ужгород, – сам за себя ответил длинный, с обвислыми чумацкими усами обитатель ведомой мне по прочитанным книгам Закарпатской Руси.
Капитан понял, что он дал маху, холоп сам бы мог найти дорогу в плен, он давно ждал случая, когда можно будет сбросить шинель и надеть овчинный полушубок, полагая, что овчина спасет его и от мороза, и от той усталости, которая неминуемо должна была постигнуть его далеких по крови, но близких по месту рождения, забредших в гущу придунайского славянства потомков азиатских кочевников.








