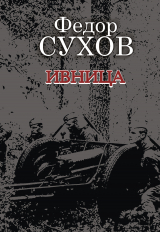
Текст книги "Ивница"
Автор книги: Федор Сухов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Федор Сухов
Ивница
© ГБУК «Издатель», оформление, 2019
© Сухов Г. А., 2019
* * *
Повесть Федора Сухова «Ивница», по всему чувствуется, создавалась долго, основательно, с предельным, я бы сказал, даже мученическим пристрастием к правде, к тому лично пережитому им во фронтовой действительности, что осталось и десятилетиями живет в памяти, мучает душу и требует исхода. «Ивница» – это обнаженная исповедь лейтенанта, командира взвода противотанковых ружей, именно так осознавшего свой долг солдата и человека перед своим прошлым, перед памятью о погибших своих товарищах.
Читается повесть с напряжением, с обостренным вниманием, и солдатская правда минувшей войны полынной горечью наполняет душу. Сухов написал правду и только правду о пережитом им под курской деревней Ивницей, что может засвидетельствовать каждый из пехотинцев, прошедших через фронт. Неудачный ночной бой, месть фашистов, почти поголовно истребивших жителей села, нервозность командиров, то приказывающих наступать, то отменяющих свои приказы и снова приказывающих наступать, и новые неоправданные жертвы.
Так было в боях первой половины войны. Да, некоторым читателям, смотрящим на уже отошедшую в историю войну из нынешнего времени, которое всегда сглаживает горечи минувшего и поднимает на поверхность только результат войны, тем читателям, которые пребывают в убеждении, что только отражением в литературе военных побед можно воспитывать молодые поколения, правда пережитого конкретными людьми в конкретных обстоятельствах войны кажется если не совсем запретной, то, по крайней мере, нежелательной.
Но общественное призвание литературы никогда не ограничивалось созданием пасторалей. Главным назначением художественной литературы всегда было пробуждение общественного сознания правдой жизни, раскрытие в образах закономерностей общественного бытия. Верным это было для литературы критического реализма, верным остается и для литературы реализма социалистического. С тем лишь добавлением, что художественный мир, воссозданный по методу социалистического реализма, не отходя от правды жизни, имеет общий утверждающий характер (поскольку такой характер имеет само бытие социалистического общества).
Почему-то, часто ссылаясь на В. И. Ленина, мы обходим такое его требование: «Нам нужна полная и правдивая информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить» (Полн. собр. соч. Т. 54. С. 446).
Если говорить о действительности окопного солдатского быта, то вопрос, видимо, в том, как эта правда будет действовать на современного читателя? Может ли такая обнаженная правда воспитывать?
Но почему, собственно, нет? Все дело в том, как будет осознана эта правда. Конечно, не без помощи автора.
У Федора Сухова заботы о правильном осознании описываемых им событий как будто бы нет – он заботится только о том, чтобы как можно точнее передать прожитые события этого боя. Но все тревожное, скорбное и совестливое, о чем он рассказал, независимо от автора рассказано с позиции одержанной общей победы. Чудом оставшийся в живых в бою за Ивницу лейтенант через три десятилетия возвращается на место не ушедшего из памяти боя. Он видит возродившуюся в Ивнице жизнь, и в ней тех немногих, кто таким же чудом уцелел в те трагические февральские дни 1943 года. Он становится свидетелем благодарной памяти ныне живущих в Ивнице людей тем, кто отдал свои жизни в далеко отстоящем от сегодняшних дней бою, отдал, чтобы жизнь продолжалась в Ивнице по прежни, принятым людьми советским законам. Концовка эта другим светом освещает трагизм пережитого в том далеком ночном бою за деревню. Бой понимается уже не как напрасное усилие со скорбными его итогами, а как необходимость, как закономерность войны, потому что другого пути к общей нашей победе в войне не было. И сам факт того, что враг оказался в этом ночном бою удачливее и сильнее, обретает в общем итоге войны уже иной, утверждающий смысл – как ни опытен и силен враг, он все-таки был побежден, и побежден был усилиями тех же, и таких же, солдат, какими были сержант Чернышев, рядовые Александров и Наурбиев, лейтенант Захаров и тысячи тысяч таких, как они.
Мне видится именно таким идейно-художественный смысл повести Федора Сухова.
Читатель нынешний стремится осмыслить минувшую войну, исходя из правды самой войны. И писатель Федор Сухов доносит (хотя и в части ее) эту правду и ведет читателя к раздумью, не перечеркивающему трагизмом отдельных боев смысл общей нашей победы.
Владимир КОРНИЛОВ, лауреат Государственной премии РСФСР
Часть первая

1
В окно сторожки глянуло разбуженное петухами дымно-росистое, удивительно теплое утро. Как от постороннего глаза, спрятал в нагрудный карман накинутой на плечи грубошерстной полынно-голубоватой куртки исписанные за ночь листки мелко разлинованной бумаги. Тоненько загундосил пойманный в паучьи сети несмышленый комар.
– Рано проснулся, – проговорил, приподняв маленькую, как будто вывалянную в золе голову, хозяин приютившей меня сторожки, «сослуживец» мой Митрофан Ильич.
– Так, значит, в нашей дивизии воевал. Бяда.
Я уже объяснял Митрофану Ильичу, что воевал я в другой части, но старику казалось, что все, кто воевал под Воронежем, были его сослуживцами.
– А с командиром полка полковником Дубининым случайно не встречался? Такой пузыристый был, а отойдет – рубаха-парень. Где он зараз прибортился?
– Наверно, на пенсии…
– А может, армией командует, ракетами управляется. Я все смотрю его посредь маршалов, да нет, не видать. Я ведь еще с австрияком воевал. Бяда. А зараз с воробьями воюю. Вишни клюют. Спасу никакого нет. Да что, птица, она тоже не святым духом жива.
Старик потянулся к ружьишку, вышел на улицу с ним. Я думал, что начнется утренняя артподготовка, и тоже вышел на улицу, но меня оглушил не вскинутый к вишням самопал, а оглушило меня буйное половодье многоголосого хора пернатых жильцов лесной обители. Модулирующий, родниковой чистоты и свежести высвист – неужели соловей?.. Второй высвист, третий. Нет, не соловей. Так кто же, что же так самозабвенно то на низкой, то на высокой ноте исходит в средине заметно утомленного, окунутого в росу, голубомлеющего лета?
– Бяда. Как соловьи-разбойники свистят. Аж земля дрожит.
Митрофан Ильич, видать, не равнодушен к флейтовым, свежо и важно раскатывающимся высвистам. Они сыпались сначала с одиночных молодых деревьев, потом заполонили весь торжественно стоящий, просветленный березами лес. И невольно показалось: весь лес запел, пел каждым листком, каждой веткой, всем нутром пел, как зеленый, высоко вознесенный орган.
И тут-то старик, почувствовав, что я пришиблен такой уймищей сольного пения, рассказал любопытную историю.
Хорошо памятный мне лес когда-то весь был иссечен осколками, осколки остались в белом теле берез, в крепких мускулах дубов, в квелой зелени осин. Шло время. Заживали раны, окольцовывались свежей кожицей, но затянуться не могли, остались дупла. И эти дупла обжили иволги[1]1
Старик приврал: иволги в дуплах не живут, они пели в орешнике, в мелком ивняке.
[Закрыть].
– Вот они-то и орут как оглашенные. Мне-то что, я привык ко всякой музыке…
Митрофан Ильич вскинул на плечо ружьишко и предложил мне пощипать малинки. Может, я бы и пощипал, но меня неудержимо тянуло к другим, тоже хорошо памятным местам. Я спросил своего «сослуживца», как мне добраться до Ново-Животинного?
– По Задонскому шоссе на автобусе вмиг доберешься.
Задонское шоссе… Где-то неподалеку убило моего первого окопного друга. Мы схоронили его в том самом окопчике, который он сам себе вырыл. Потом нашли фанерную дощечку, написали на ней слова и цифры: мл. л-т Ваняхин. 12.08.42. Дощечку прикрепили к дубовому столбику, столбик врыли в могильный холмик. И все.
– Я бы тебя спроводил, да ко мне старуха должна прийти. Завтрак принесет. Может, вместе позавтракаем?
– Спасибо, Митрофан Ильич.
Митрофан Ильич подошел к яблоне, тряхнул ее, о землю заколотились крупные, исполосованные утренними зорями наливные яблоки.
– Кладите в мешок.
Не хотелось обижать старика: взял штук пять самых крупных, нарядных яблок, сунул их в широко разинутый желтовато-коричневый рюкзак из искусственной замши и, приминая ландыши обильно выпавшей росы, зашагал к недалекому лесу.
Поющий, орущий иволгами лес удивил меня редко встречаемой на нашей русской земле бережливой порядливостью. Неизъезженная, неисхоженная, позванивающая лиловыми колокольчиками трава-мурава, нетронутый, вольно растущий подлесок, заросли ивняка, заросли опрятного, не заваленного сушняком орешника. Вольно или невольно я задержался, стал разглядывать увешанные зелеными желудями суковатые, довольно почтенного возраста дубки. Мне хотелось увидеть их старые раны, которые, отболев, превратились, по словам Митрофана Ильича, в летние резиденции пернатых солистов. Редко так случается, но я увидел, нет, не иволгу, – вынырнувшего из окольцованного гладкой кожицей дупла щупленького, похожего на мышонка, настоящего живого соловья! Лесной кудесник стал на свои тоненькие ножонки, растопырил крылышки и решил поприветствовать если не меня, так восходящее, играющее на зеленых клавишах листвы большое, не затененное ни единой тучкой малиново-красное солнце. Растопыренные крылышки, разинутый клювик и… тишина, пустота в соловьином обезголосевшем горле. Как это мучительно, когда задумана песня, а спеть ее не можешь, нету голоса… Да неужели нету? И что-то похожее на хрип вырвалось из широко разинутой, некогда оглушающей всю округу раскатисто-громыхающей глотки. Хрип повторился и закончился протяжным, быть может, прощальным вздохом.
А солнце уже вошло в лес, разлеглось на заполоненных, окропленных незабудками полянах, заиграло в ландышах еще не сошедшей росы.
Я свернул на песчаную, глубоко разъезженную дорогу и вскоре почувствовал на своем лбу жаркую ладонь воронежского лета. Встретил выматывающего последние силенки велосипедиста, спросил:
– Задонское шоссе… далеко?
– Прямо.
Дорога расползлась, как пальца протянутой руки, но я уже слышал завывание автомобильных моторов, чуялся запах отработанного, сожженного бензина.
Я не дошел до Задонского шоссе, остановился в низкорослом, исковерканном рахитом сосеннике. Ступил на покрытую лишайником бесплодную супесь. Она вся в яминах, в ржавом перекрученном железе. Откуда-то взялась покрышка автомобильного колеса, его калошина. Я сел на нее, как на спасательный круг, поглядывая на идущие из Воронежа автобусы. Низкорослый, рахитичный, весь в каких-то непонятных гнойных отеках сосенник мне показался знакомым. Я стал пристальней присматриваться и к яминам, и к железу, надеясь найти какой-нибудь след все еще грохочущей в памяти войны. Пробежала, змеясь зеленым хвостом, ящерица, она забралась па припорошенную песком железяку и, стрельнув в меня влажными дробинками широко расставленных глаз, сползла в затененную, как бы облитую купоросом ямину. Железяка походила на смятый солдатский котелок. Поднялся, тронул ее носком ботинка, так и есть – котелок. Глянул в ямину, ящерицы в ней уже не было, остался только еле уловимый купоросный запах, вероятно, от окислившейся меди. Вскоре на моей ладони лежал тронутый ядовитой прозеленью обыкновенный с выржавленным пистоном винтовочный патрон.
2
Командир 1-го отдельного противотанкового батальона капитан Банюк знал, что такое воинская дисциплина, и не допускал каких-либо отклонений от буквы устава караульной или строевой службы. Каждодневно, на протяжении месяца, степной, открытый всем ветрам городишко Новоузенск наблюдал, как по выбитой, плоской, как гумно, непахоти топтались повзводно, поротно опоясанные брезентовыми ремнями, одинаково гладко, под нуль, стриженные люди. Каждодневно видел степной городишко одиноко сидящего на курганно возвышающемся взгорке уже не молодого, малиново окантованного по обшлагам диагоналевой гимнастерки, запортупеенного человека. Человек иногда поднимался, разминал длинные, не сгибаемые в коленях ноги. Тогда-то можно было услыхать его голос, властно вызывающий кого-нибудь из непосредственно подчиненных ему командиров.
– Лейтенант Шульгин!
Вызов немедленно подхватывался:
– Командира второй роты к командиру батальона!
На ходу одергивая гимнастерку, лейтенант стремглав бросался к возвышающемуся взгорку и, стукнув каблуками хромовых щеголеватых сапог, с приподнятой к козырьку ладонью недвижимо замирал перед своим вышестоящим начальством.
Капитан что-то недовольно говорил, вытягивая длинную, как шлагбаум, руку в сторону моего все еще неумело марширующего взвода. И что самое страшное – комбат не ограничился разговором с командиром роты, он решил снизойти и до моей ничем не примечательной особы, сделать мне соответствующее внушение. Как на грех, с моей головы сдуло пилотку, и я без пилотки предстал перед глубоко спрятанными, насквозь пронизывающими глазами комбата, приложил руку.
– К пустой голове руку не прикладывают, – услыхал я едко сказанные слова.
Редко у меня так бывает, но я нашелся что ответить:
– Откуда вы знаете, товарищ капитан, что у меня голова пустая?
– Не знаю, в рентген не смотрел, по пустую голову и так видно.
Мне стало горько и обидно за свою голову, за самого себя, к горлу подкатил ком, который я не мог никак проглотить.
– Нюни распустил… А что ты будешь делать на фронте?
Я не знал, что я буду делать на фронте, но я знал, что буду воевать.
– И бойцы у тебя такие же, как ты. Посмотри на Селиванчика, что это – мокрая курица?
Я удивился цепкой памяти капитана. Оказывается, он знает фамилии не только командиров, но и рядовых бойцов.
Вскоре нас перебросили под Саратов, там мы получили новые, прямо с завода, противотанковые ружья системы Симонова, получили легкое оружие: полуавтоматические десятизарядные винтовки и автоматы. Боевая учеба приобрела не формальный характер, она была приближена к фронтовой обстановке.
Входил в полную силу медоносный, гречично цветущий, осыпанный лесными ягодами июнь. Мы стояли на опушке смешанного, по преимуществу осинового, леса, невдалеке от старообрядческой деревушки Курдом. Она, эта деревушка, как бы овдовела – ни одного мужчины, ни одного парня. Где-то на другом краю леса, на другой опушине металлически звонко, то и дело прерываясь, куковала кукушка. Многим из нас она отсчитывала не года – слишком много! – может быть, последние дни. Поэтому и куковала осторожно, не торопясь, боясь ошибиться. Предчувствие кукушки сбылось: дня через три мы погрузились в эшелон и взяли курс на Воронеж.
Наш дорожный эшелонный быт, естественно, во многом отличался от лагерного быта, но армейский уставной порядок строго соблюдался. Капитан Банюк не допускал никаких вольностей, в каждом взводе назначались дневальные, они, как обычно, подчинялись дежурному, назначался усиленный караул, в его задачу входило неустанно наблюдать за воздухом. Почти все противотанковые ружья были приспособлены к стрельбе по воздушным целям. Перед Грязями эшелон остановился. Был передан приказ: из вагонов никуда не выходить, не сходить с платформ. Через несколько минут капитан Банюк вызвал к себе весь командный состав батальона. Комбат кратко доложил обстановку: немцы прорвались к Воронежу, 14-й истребительно-противотанковой бригаде поставлена боевая задача – после разгрузки оборонять этот город. Весь личный состав держать в боевой готовности, у начальника боепитания получить полный боекомплект ружейных и винтовочных патронов, строго следить за их сохранностью.
Эшелон не двигался. На его платформы спустилась степная черноземная ночь. Она не светилась даже звездами. И вдруг эта чутко настороженная непроглядная темь осветилась грозовым сполохом, послышался глуховатый грохот. Кто-то сказал: бьют наши зенитки… Шарахались из стороны в сторону лучи прожекторов, они, перекрещиваясь, походили на огромные ножницы, полосовали черный бархат беззвездного неба. Послышался отдаленный топот откуда-то бегущего конского табуна. Кто-то сказал: рвутся бомбы. Бомбы рвались всю ночь, всю ночь над Грязями висели немецкие ночные бомбардировщики.
Выбрезжилось утро, за нашей спиной поднялась прозелень опечаленной, тихой-тихой зари. А когда совсем обутрело, комбат решил обойти платформы и лично проверить наличие боеприпасов у каждого бойца. О приходе вышестоящего начальства командир роты обычно предупреждал через своего посыльного, но на этот раз капитан Банюк появился перед занятой моим взводом платформой совершенно неожиданно. Я было хотел доложить, чем занимается вверенный мне взвод, но отстраняющий взмах деревянно согнутой в локте руки остановил меня.
– Прикажи расстегнуть подсумки и пересчитать патроны.
Поначалу все шло вроде бы сносно, потом я заметил бледного, как бы убитого громом Селиванчика.
Если я, командир взвода, заметил, а командир батальона исподлобья смотрящими ястребиными глазами давно уже видел, как дрожащие пальцы моего подчиненного то и дело ныряли в подсумок, как подкашивались его колени, как он поднимал и опускал с яично выкатившимися белками озерно-зеленоватые глаза.
И все же Селиванчик набрался смелости, сам оказал, что у него не хватает одного патрона.
Есть армейская поговорка: ешь глазами начальство. Капитан Банюк, наверно, потому и не жаловал тех, кто стоял пред ним с опущенной головой, но редкие могли выстоять пред его остолбеняющим взглядом. Такой взгляд был брошен и на меня, и я понял, что мне несдобровать, ежели не найдется патрон.
Патрон не нашелся.
Эшелон наш, ежели не считать истории с патроном, благополучно прибыл на станцию Елец, благополучно сошедшая на зелень пристанционных лужаек 14-я истребительно-противотанковая бригада спешно на своих грузовиках, утыканных ветками всевозможных деревьев, так же благополучно приблизилась к станции Усмань. В ночь перед нашим прибытием эта станция была начисто разбомблена. Деревянные строения уже успели сгореть, а от кирпичных остались остовы, скелеты все еще дымящихся стен и перекрытий, по ним по-беличьи юрко, как будто играя в прятки, бегали огоньки. Командир роты приказал мне расположиться на противоположной стороне станционной площадки, и тут-то я увидел первый сбитый самолет – наш советский истребитель. И – какое счастье! – под его крылышком лежали ленты с настоящими боевыми, с черной головкой, патронами. Я сразу же притащил свой чемодан и к прихваченным из дома тетрадям, книгам присоседил патронную ленту. Вдруг послышался чей-то голос:
– Командира второго взвода к командиру батальона!
В голове неожиданно мелькнула самообольщающая мысль: наконец-то напитан Банюк похвалит меня за мою находчивость. Но не тут-то было. До войны я никогда не бывал в гостиницах, знал о них только по книгам. И когда я предстал со своим чемоданом перед хорошо памятными глазами, я услышал слова, которые меня серьезно озадачили:
– Ты что, в гранд-отель приехал?
Что такое гранд-отель, мне было неизвестно, капитан Банюк это понял и переспросил:
– Я спрашиваю: ты в гостиницу приехал?
– На фронт, товарищ капитан.
По заклекшему, никогда не улыбающемуся лицу скользнула горькая усмешка.
– Товарищ лейтенант, на фронт с чемоданами не ездят, немцев мы чемоданами не победим.
Я знал, что немцев чемоданами не победишь, и решил открыть тайну своей находчивости, сказал, что мой чемодан полон настоящими боевыми патронами. Мне было приказано забросить чемодан и рассредоточить взвод, приспособиться к стрельбе по воздушным целям.
Со станции, пробыв на ней не больше получаса, рассредоточенно, повзводно, поротно мы перебрались в хвойный, я бы мог сказать, смолистый, но не помню, пах ли он тогда смолой, этот прифронтовой лес. По дороге то и дело встречались разрозненные группы отступающих бойцов. Среди них было много раненых, шли они в накинутых на плечи шинелях, несли кто правую, кто левую руку на белых, запятнанных кровью бинтах. Нам, необстрелянным новичкам, скорее хотелось узнать, что происходит там, откуда бежали отступающие, но безнадежно брошенные слова «сами узнаете» красноречиво говорили, что на фронте дела обстоят неважно.
Когда надвинулись сумерки, батальон занял огневые позиции невдалеке от Задонского шоссе, перед селом Ново-Животинное. До наступления рассвета надо было окопаться и тщательно замаскироваться. Маскироваться было чем: кругом стояла высокая, поспевающая рожь. Расчеты противотанковых ружей окапывались, а я с автоматом в руках стоял на посту, зорко всматриваясь в бегущее к Задонскому шоссе ржаное поле. Вдруг я услышал певучий, с оттяжкой голос глуховатого на оба уха уральца Симонова. Он звал меня к своему еще не вырытому окопу, чтоб я посмотрел, чем занимается его первый номер, младший сержант Селиванчик. Я подошел и удивился: Селиванчик ползал на коленях и все чего-то искал. Я спросил, что он ищет?
– Патрон я потерял.
– Какой патрон?
– Обыкновенный, винтовочный.
Потеря одного патрона меня уже не волновала, сам комбат приказал мне вместе с чемоданом забросить целую ленту патронов, я сказал младшему сержанту, чтоб он взял лопату и окапывался, но не успел я отойти и десяти шагов, как снова увидел ползающего на коленях Селиванчика. Вероятно, я еще бы раз подошел к нему, но со стороны Задонского шоссе, тяжело передвигая ногами, приближалась какая-то фигура.
– Стой! Кто идет?
Молчание.
– Стой! Стрелять буду!
– Свои.
Я узнал голос капитана Банюка. Он спросил: успеем ли мы окопаться до рассвета?
– Окопаемся, товарищ капитан.
Комбат сбросил с себя плащ-накидку, расстелил ее и устало, во весь свой длинный рост растянулся на ней, заломив за голову сцепленные в кистях руки.
– Садись рядом, – предложил он, взглянув на меня не видными в темноте, но все так же исподлобья смотрящими глазами.
Я не знал, что делать: садиться или нет? Мне казалось, что капитан Банюк решил проверить мою бдительность, но он же ее проверил, зачем те еще раз меня испытывать?
– Не могу, товарищ капитан. Я охраняю взвод.
– Никуда твой взвод не убежит. Садись, лейтенант.
Я сел. Комбат долго молчал, потом, тяжело вздохнув, не оборачиваясь ко мне, стал как бы сам с собой разговаривать.
– Был у меня дом. Семья была. Все было. И – ничего не осталось. Один я, даже письма некому написать… А ты, лейтенант, небось невесту оставил?
О невесте пришлось умолчать, но о Селиванчике, о его странном поведении я рассказал.
– Симуляция.
Брезжил рассвет. На изрытую, изувеченную войной землю пала роса. Я хотел было накинуть шинель, но над моей головой раздался такой грохот, что у меня захватило дух и я мгновенно ничком припал к земле.
Комбат приподнялся, спросил:
– Кто стреляет?
Я не знал, кто стреляет: немцы или наши…
– Наши батареи бьют. Прикажи, чтоб никто не вылазил из окопов.
Комбат встал и, нахохлясь, зашагал к лесу, а я побежал к своим расчетам. Ребята молодцы, все окопались и замаскировались.
Наши батареи били неистово, самозабвенно. Сначала оглушительный треск, похожий на треск раскалываемого ореха, потом этот треск раскатывался и отдавался в дальнем лесу, как будто оттуда тоже били батареи, затем журавлиный, шелестящий полет снарядов. Я так заслушался этой всеоглушающей и разрушающей музыкой, что даже забыл, что мне тоже надо окопаться, вырыть свой командирский окопчик… Взял лопату, вырыл что-то наподобие щели, прикрыл ее плащ-палаткой, на плащ-палатку набросал ржи, но, странное дело, когда я рыл и маскировал свой окопчик, артиллерийская музыка стала какой-то иной, в ней не было той стройности, той слаженности, тех раскатов, которые я слышал на рассвете. Слышны были только отдельные усталые звуки, похожие на удары в пустую бочку. Потом и эти звуки стихли, заглохли.
Где-то за шоссе взошло солнце. Само солнце было не видно, но по лесу, по его затрепетавшей листве чувствовалось, что солнце поднимается, восходит все выше и выше. Оно заиграло в капельках росы, подняло белый, как молоко, пар. Этот пар не смешивался с пороховым дымом, держался как-то отдельно. Потянуло богородской травой, тимьяном. Черт возьми, до чего же сильно пахнет этот ползучий, с маленькими пушистыми ресничками цветок! Даже пороховая гарь не может заглушить его удивительно стойкий запах.
Я гляжу в сторону Ново-Животинного, но ничего не вижу, зато другое село, на другом берегу Дона, виднелось как на ладони. Вдруг ноющий вой и – взрыв. Я потянул было голову в окоп, но по каске ударил длинный, с указательный палец, осколок.
Теперь я узнал, кто и откуда стреляет. А Селиванчик, он все стоял на коленях и перебирал комки вылопаченной им, уже начавшей подсыхать земли.
– Младший сержант, пригнись!
– Патрон я потерял, товарищ лейтенант…
Я держал его на ладони, этот тронутый ядовитой прозеленью патрон, он был без пули, хотел положить его в карман, но, когда разглядел, что он не наш, немецкий, бросил туда, где он лежал, в устланную лишайником ямину.
Значит, я ошибся, в сосеннике, вероятно, стояли немцы. Впрочем, сейчас трудно разобраться: сосенник мог переходить из рук в руки, да, может, его и не было, он вырос после. И все же мне казалось: где-то здесь был похоронен младший лейтенант Ваняхин.







