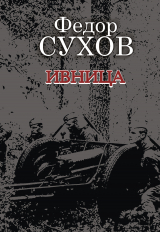
Текст книги "Ивница"
Автор книги: Федор Сухов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
17
Начальник штаба 2-й венгерской армии генерал-майор Ковач, надо полагать, не любил особо беспокоить вышестоящее начальство, он не был паникером. Дух оптимизма, свойственный привилегированной касте уроженцев голубого Дуная, не покидал генерала даже в самые тревожные дни второй военной зимы.
«В создавшейся обстановке я не считаю возможным, что на данном этапе боевых действий противник начнет крупные операции против венгерской армии» – такой депешей успокаивал генерал не на шутку встревоженный, до смерти напуганный «сталинградским колечком» Будапешт.
2-я венгерская армия, которая вышла на Верхний Дон в июне-июле 1942 года, после упорных боев в районе Воронежа приостановила свои наступательные действия и – глубоко окопалась. Начались контратаки советских войск, в частности 60-й армии, которые не имели особого успеха, вскоре контратаки были прекращены. До января 1943 года на Верхнем Дону стояло относительное затишье. Оно стояло и тогда, когда советские войска, входящие в состав Воронежского фронта, начали сосредотачиваться в районе нависшего над венгерской армией, а также стоящей в глубине обороны немецкой корпусной группировкой (под командованием генерал-лейтенанта Крамера) мощного, тщательно и скрытно подготовленного удара. Командование Воронежского фронта пошло на смелый риск, оставив на второстепенных, тихих участках фронта всего-навсего по 50–60 бойцов на один километр с незначительным, мизерным прикрытием: 2 пулемета, 3 миномета и одна пушечка на два километра.
Таким образом, наша истребительно-противотанковая бригада временно вышла из состава 60-й армии и придавалась 40-й армии, которая сосредотачивалась на правом берегу Дона, в районе села Сторожевое, отсюда с правобережного плацдарма она и развернула свое наступление.
Я уже говорил, что нам, противотанкистам-бронебойщикам, на этот раз пришлось действовать как обычным стрелкам-пехотинцам, только с той разницей, что мы были обременены еще своими противотанковыми ружьями.
Может сложиться такое впечатление, что я по прошествии многих лет решил показать себя, польстить своему самолюбию, дескать, первым добежал до мадьярской траншеи, пленил чуть не всю мадьярскую армию… А куда девались мои бойцы, что они делали? Они делали то же, что и я делал, правда, никто из них не рассматривал чьи-то документы, чьи-то фотокарточки. И еще. Я бы так легко не добежал до рафинадно белеющего комковато вылопаченного снега, если б наши танки, наши тридцатьчетверки не прорвались в глубь обороны тех же мадьяр, но не одни тридцатьчетверки принудили поднять руки накрытых бараньими шапками солдат, чувствовалось, многие из них давно ждали такого случая, они не хотели воевать.
А бойцы мои заметно приустали, припали на комковатый снег и смотрели на желто валивших по белому полю уроженцев голубого Дуная. Только один Тютюнник отвернулся, он сам объяснил, по какой причине:
– В очах вид них мнготить.
Брошенные своими трусливо улепетывающими генералами, они не знали, что им делать, куда идти.
Плен… Плен…
Они на салазках, на спаренных лыжинах волокли своих раненых. Были и такие, которые везли наших раненых. Предусмотрительные ребята.
– Подъем!
Быстро поднимаемся, поданная самим комбатом команда подтянула нас, а впавшего в дрему Тютюнника возвратила к своему напарнику, рядовому Наурбиеву, да и я возвратился к тому же Наурбиеву, правда, какое-то время я озирал комбата, смотрел на него как на человека, способного отвести, и не только от себя, но и от меня, любую беду, любую напасть, с таким человеком, не раздумывая, можно идти в огонь и в воду. И мы пошли сначала по насту, по его белому от жгучего мороза, хрупкому стеклу, потом вышли на дорогу, а дорога, она тоже – как стекло, но не такое хрупкое, бей прикладом – не разобьешь. Не знаю, не могу сказать, где было, где пропадало солнце, когда мы приблизились к мадьярским траншеям, возможно, пребывало в каком-то укрытии, но, услышав поданную комбатом команду, поднялось, вышло на небо, сопровождало нас от столба до столба, от дерева к дереву. Беспрепятственно прошли мы километров пять, мы видели, как хрустально кухтел, индевел первый день нашего наступления, нашего успешного продвижения от заледенелого, замятюженного Дона к неведомой нам, тоже заледенелой, тоже замятюженной речке Девица. Да, я забыл, не сказал, что вместе с солнцем поднялись наши штурмовики, наши «ильюши», они уже отбомбились, они возвращались на аэродром, вроде благополучно, вроде все хорошо, но – откуда он взялся? – холодно, змеино блеснул «мессершмитт», дал длинную очередь, черно задымился прямо над нашей дорогой немного приотставший штурмовик, наш «ильюша»…
– Товарищ лейтенант, вас замполит зовет.
Я оборачиваюсь, вижу подбежавшего ко мне Заику, он первый услыхал голос старшего лейтенанта Гудуадзе, пришлось остановиться, подождать, когда старший лейтенант приблизится к моему автомату, к моим щеголевато подогнутым валенкам. Пожалуй, я бы не узнал своего замполита, не узнал потому, что замполит облачился в такую шубу, какой мне не доводилось видеть. Крытая зеленоватым сукном, она курчавилась белой смушкой, белым барашком по рукавам, по бортам, роскошен воротник, он тоже из белого барашка, можно предположить, шуба принадлежала какому-то генералу… Впрочем, генеральская шуба не придала какой-то важности нашему замполиту, я мог бы не узнать его издали, а вблизи он все такой же, по-медвежьи облапал меня, приподнял, а приподняв, спросил:
– Жив?
– Жив, товарищ старший лейтенант!
– Во взводе тоже все живы?
– Живы и невредимы.
– И Наурбиев жив?
– Жив.
– Молодец. Какой ты молодец! Выше, выше поднимайся!
– Товарищ старший лейтенант, хватит, я задыхаюсь.
Опускаюсь, прикасаюсь носками валенок к стеклу широко расчищенной дороги, встаю на дорогу и устремляюсь вперед, на запад.
– Обожди, обожди, я с тобой пойду. Тютюнника хочу видеть, Наурбиева хочу видеть, Симонова хочу видеть! – Смешной Гудуадзе, он, как шлагбаумом, перегородил лыжной палкой дорогу, но я, низко склонясь, ловко прошмыгнул и, резво подпрыгнув, прокричал:
– Пойдемте, товарищ старший лейтенант!
Мне хотелось показать свою мальчишескую увертливость и легкость, когда мы оба невдалеке друг от друга зашагали по стеклянной, зеркально светящейся дороге.
– Не торопись, дорогой, не торопись…
Я глянул на довольно пожилого человека, на его прихваченные обильной кухтой усы, глянул я и на лыжную палку, и мне стало как-то неловко за свою увертливость, за свою легкость, мальчишка, инкубаторный петушок, да разве можно так? А пожилой, много повидавший человек остановился, снял шапку, я видел, как задымилась седая обнаженная голова.
– Старик я, старик, – признался мой наставник, мой доброжелатель, – не угонюсь за тобой.
Он приподнял голову, воззрился на солнце, солнце повернуло на лето, оно ослепительно-ярко светило, зато зима люто обжигала морозом. Мороз и солнце… Солнце забиралось за спину, мороз обжигал щеки добела раскаленными пятнами, солнце солонело на спине, мороз солью налипал на брови, на ресницы, налип он и на мои брови, на мои ресницы.
– Погрейся, – старший лейтенант распахнул шубу я подумал, что он хочет ее полой прикрыть меня, но я ошибся, мудрый грузин хорошо знал, чем можно погреться, он преподнес к моим губам трофейную, зачехленную в серый войлок фляжку, губы мои задрожали, они ощутили поначалу холодок алюминия, потом глухо булькнувшую жидкость, жидкость сладила, значит, наша русская водка, она на морозе всегда сладит, я глотнул и – чуть не задохнулся.
– Ром, мадьярский ром, – подсказал старший лейтенант, он долго не брал из моих рук фляжку, взял только тогда, когда увидел, что я уже погрелся, увидел, как оттаивали мои брови, ресницы.
Короток зимний день, но мы оттопали не меньше двадцати километров, на закате солнца, по павечери вошли в какое-то сельцо, в какой-то населенный пункт, хотелось увидеть кого-нибудь из жителей, никого не увидели, зато виделись следы поспешного бегства тех же мадьяр, что окопались не в таком уж глубоком, но все же в каком-то тылу, двадцать километров от передовой, это весьма выгодная позиция, правда, до поры до времени… Удар советских войск был настолько ошеломляющ, что даже тыловики потеряли самих себя, впрочем, тыловики-то всегда первыми паникуют, первыми покидают свои позиции. Не знаю, где успел обзавестись старший лейтенант Гудуадзе генеральской шубой, возможно, в каком-нибудь штабном блиндаже, я тоже мог бы кое-чем обзавестись, поспешно покинутое улепетывающими гонведами сельцо было завалено всевозможным скарбом, удивили меня наши русские самовары, они громоздились на брошенных вместе с бесхвостыми битюгами армейских фурах, а на примятом, исполосованном широкими колесами снегу валялись тоже наши русские одеяла, пуховые подушки. Никто из нас не рассчитывал на какой-то отдых, на какой-то привал (надо спешить, надо гнать заклятого врага), но так уж случилось – приостановились, сняли с плеч ружья. Подбежал сержант Афанасьев, сообщил, что разрешено передохнуть, но запрещено заходить в хаты. А я нарушил запрет, зашел в ближнюю – в три окна – довольно справную хату. Хата не была выстужена, чуялось какое-то тепло, жилой дух чуялся.
– Энто ты, Хведор? – откуда-то сверху, должно быть, с печи немощно прохрипел старушечий голос.
Я вздрогнул, услышав свое имя. Чудно как-то получилось. Долго молчал, не отзывался, хорошо зная, не меня, кого-то другого ждала пребывающая на печи старуха.
Вспыхнул свет электрофонарика, большим кругом упал под мои ноги, и тогда-то грохнул выстрел из вороненого, тускло блеснувшего пистолета, пуля прошла мимо моего правого уха, ударилась в дверной косяк, я приподнял автомат, хотел дать очередь, но не дал, воздержался.
Что-то тяжелое стукнулось о деревянный пол, я опять ухватился за автомат.
– Камрад, не стрелять, мы лазарет.
Я оторопел, не знал, как быть, что делать?
Щелкнула зажигалка, чья-то дрожащая рука преподнесла ее огонек к стеариновой свече, свеча, потрескивая, приподняла белый лепесток пламени, стало светлее, представилась возможность что-то увидеть, что-то разглядеть. На высоко приподнятых тесовых нарах лежало человек восемь тяжело раненных, по мундирам, по шинелям я определил: венгры, венгерские солдаты.
– Ungarn?[9]9
Венгрия?
[Закрыть] – спросил я привставшего, с пышной шевелюрой, пожилого солдата.
– Ja, Ja, Ungarn[10]10
Да, да, Венгрия.
[Закрыть].
У меня не было времени для дальнейшего пребывания в не очень-то гостеприимной хате, пришлось распрощаться с ее обитателями и возвратиться к своему взводу.
– Камрад, пистоль…
Я придержал себя, еще раз глянул на пышную шевелюру пожилого солдата, на его по-цыгански горячие глаза.
– Пистоль, пистоль.
Возле опечка увидел вороненое, изящно выточенное тело пистолета, из которого была пущена предназначенная для моей головы пуля. Пуля пролетела мимо, кто-то промахнулся… Я поднял выбитый из чьих-то рук, брошенный к порогу пистолет, а пожилой солдат кинул в мои руки добротную, из желтой кожи кобуру, вложил в эту кобуру свой трофей, подвесил к ремню и приблизился к двери, взялся за железную скобу, дверь тоскливо взвыла, опять послышался голос старухи:
– Энто ты, Хведор?
Опять промолчал, опять не отозвался, зато отозвались половицы промерзлых сеней, они заговорили под моими валенками, устрашили меня своим разговором, может, потому я оказался так быстро на улице, еще не осознав, что произошло под камышевой, заваленной обильным снегом крышей, а произошло… Ничего такого не произошло. Какой-то Иштван пустил пулю, не подумав ни о своей участи, ни об участи своих товарищей, но товарищи вовремя обезоружили не в меру воинственного безумца.
– Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!
Заика, он учуял мое дыхание, он обрадовал меня своим хрипловатым голосом. Пожалуй, никогда я так не нуждался, нет, не в каких-то услугах своего ординарца – в его улыбке, в его даже посредь зимы цветущих васильках. Молодой, кажется, только вчера народившийся месяц светился скупо, он – как шильце в чьей-то незримой руке, и все-таки я не мог не увидеть опушенных инеем васильков, их доброго света, а свет, он и во тьме светит…
– Товарищ лейтенант, вас командир роты вызывает.
Заика опускает свои васильки, ждет, что я скажу, но я ничего не говорю, я молчу, я боюсь, как бы мой ординарец не соблазнился теплом только что покинутой мною справной хаты. Не соблазнился, возвратился во взвод, а я предстал перед черно круглящимися глазами, предстал не под скупо светящимся шильцем, под сводом глубоко отрытого, обложенного красным кирпичом погреба, удивился умению младшего лейтенанта Заруцкого выбирать выгодные позиции.
– Где ты был? – вкрадчиво спросил младший лейтенант.
Я отмолчался, я не мог сказать, где я был.
– Подойди поближе.
Я подошел к раскрытому планшету, к зеленеющей под его целлулоидом карте-двухверстке, карта освещалась стеариновой свечой.
– Мы сейчас находимся, – младший лейтенант назвал населенный пункт, в котором мы находились (к сожалению, я сейчас не могу вспомнить наименование этого населенного пункта), – нам приказано в 20.00 занять высоту, – указательный палец младшего лейтенанта уткнулся в цифру 112.8, – если противник окажет сопротивление, закрепиться на высоте, окопаться. Задача ясна?
Задача-то ясна, но ни я, ни мои бойцы, никто из нас не прикасался к котелкам, целые сутки мы не видели горячей пищи. Пришлось спросить, что сталось с нашей кухней?
– Отстала. В наступлении все кухни отстают, поэтому и выдается сухой паек. Сухой паек вы получили?
– Получили.
– На сколько суток?
Я не знал, на сколько суток выдавалась буханка хлеба (на одного человека), пачка пшенного концентрата (тоже на одного человека), две банки мясных консервов (на двенадцать человек).
– Сухой паек выдан на двое суток, – младший лейтенант свернул планшет, приподнялся и, кругля черные глаза, уже совсем другим тоном отчеканил: – Отправляйся во взвод, выполняй приказание.
18
Есть в Воронежской области село Кочетовка, неприметное степное сельцо, открытое всем ветрам, без каких-либо скрытных подходов, без балочек, без буераков. Перед этим-то сельцом на высоте 112.8 мы и остановились, застопорились и – на продолжительное время: дней на пять, на шесть. Успел повзрослеть, стать более заметным молодой месяц, он уже не скупился на свет, светил от закатной зари до полуночи, сочувствовал нам, смотрел, как мы окапывались, окапывались сначала в снегу, потом стали вгрызаться в землю. Вгрызались, кирками и ломами вдалбливались в убитый морозами чугунно-неподатливый грунт.
Трудно держать лом или кирку в варежках, в меховых рукавицах, тут нужны голицы, но голиц у нас не было, и нередко брались за тот же лом, за ту же кирку голыми руками. Я, как командир взвода, мог бы стоять в стороне и давать соответствующие указания, но попробуй постой хотя бы одну минуту так, без дела, на ветру, на пронзающем до костей, нестерпимо жгучем морозе… Спрятаться в свою снежную конуру, прикрыться плащ-палаткой и по-собачьи стучать зубами я не мог, а раз так, я тоже прикипел к лому, к его до блеска высветленному, выскальзывающему из рук железу. А чтоб железо не выскальзывало, я поплевал на сложенные ковшом ладони, поплевал и, как ужаленный, чуть не вскрикнул – на высветленном железе осталась кожа от моих еще не ослепших от набитых мозолей, не очень-то хватких рук.
– Товарищ лейтенант, замполит ходит, – предупредил меня всегда предусмотрительный, чуткий на всякое начальство младший сержант Адаркин.
Я опустил лом и направился в сторону тяжело плывущего в лунном свете старшего лейтенанта Гудуадзе.
– А я тебя ищу… А я-то думал, ты совсем сгиб, – Гудуадзе, как комлистое дерево, прикрыл мою душу от порывистого, заползающего за спину бездомно скулящего ветра, и все же я слышал, как стынет разогретая, как будто льдом обложенная спина. Но я храбрился, я даже пытался улыбнуться, правда, неудачно, улыбка сразу же улетучилась, оставив тупую ломоту в приплясывающих зубах. А когда я попытался сказать, что я не сгиб, зубы мои так расплясались, что я невольно стал подтанцовывать им тепло обутыми ногами.
– А я бы сгиб. Совсем бы сгиб. Говорю спасибо мадьярскому генералу. Молодец генерал, смотри, какую шубу оставил…
Мудрый грузин, расхваливая тепло своей роскошной шубы, не мог не понять, что мне от этого не станет теплее. И, намереваясь чем-то подогреть меня, таинственно проговорил:
– Я тебе согревающего принес. – Из глубокого кармана агрегата мехового отопления (так старший лейтенант назвал свою трофейную шубу) глянула алюминиевая, крепко завинченная крышка упрятанной в войлок вместительной фляжки.
– Ром, венгерский ром, – склонясь к моему уху, сообщил наименование согревающего напитка пожилой, надо полагать, знающий толк во всяких напитках человек.
Я уже знал вкус венгерского рома, пригубил из той же упрятанной в войлок фляжки, но я не знал, что ром из фляжки не пьют, потому-то и не смог выдолбить свой командирский окопчик, я быстро опьянел и, ничего не чуя, заснул в снежной конуре, пожалуй, я бы окочурился, если б замполит не прикрыл меня своей генеральской шубой. Я долго не мог оклематься, мне казалось, что я попал в плен, меня куда-то волокли, я упирался руками и ногами, я головой кидался…
– Барашек, какой бодливый барашек!
Кто это? Замполит Гудуадзе? Значит, он спас меня.
– Товарищ старший лейтенант…
Я сбросил с себя шубу, вылез из конуры, глянул на небо, небо все прозеленело, особенно там, где намечалась утренняя заря.
А на заре я уже был в штабе батальона, на опушке отделенного, убранного в дымно нависающий иней, зябко цепенеющего леса. Встретился с лейтенантом Захаровым, он все такой же неугомонный, настоящий боевой командир. Невольно подумалось: ни я, ни младший лейтенант Заруцкий, никто так легко не шагает по войне, как этот статный, на вид вроде бы жидковатый паренек. Увидел я и лейтенанта Аблова, длинные его ресницы мохнато заиндевели, он смигивал с них утреннюю зарю, утреннего снегиря. Приподнимал узкие плечи, зябко поеживался лейтенант Русавец, он подошел ко мне и, как робкий школьник, тихо и недоуменно спросил:
– Зачем мы здесь собрались?
– Придет новый командир бригады, – ответил за меня все знающий и все слышащий (даже прихваченный морозом голос Русовца) замаскхалаченный лейтенант Захаров. Он вооружился немецким автоматом (шмайсером) и весь утыкался запасными, прямыми, как школьная линейка, патронными рожками. Мне тоже хотелось похвастаться бельгийским браунингом (странно, что мои товарищи все еще не обратили на него внимания), расстегнул кобуру, взялся за грифельную рукоять и, как крылом ворона, блеснул нержавеющей, изящно выточенной сталью.
– Ерунда! Оружие для самоубийц и дамских пальчиков, – авторитетно заявил все знающий Захаров. А если бы он знал, что в магазине моей «ерунды» всего-навсего два патрона, тогда бы я совсем оконфузился. И все-таки тайно я продолжал гордиться, как-никак это был первый мой трофей, это было оружие, вышибленное из рук поверженного врага.
Штаб батальона располагался в затиши, в разбитой по-лагерному палатке. Палатка отапливалась, из выведенной на улицу железной трубы струился едва заметный синеватый дымок, он не в силах был оставить хотя бы мало-мальски заметный след не только на отдаленно стоящих ясенях, кленах, не оставляя следа и на протянутой к нему хрупкой, как стеклышко, жимолости, зато пышущая жгучим холодом заря заполнила весь лес, каждую его ярыжину, она, наверное, добралась и до какой-нибудь лисьей норы, уставилась в нее своим леденящим взглядом.
Всех нас, командиров взводов и командиров рот, позвал в палатку сам комбат, он был в том же полушубке, застегнутом на деревянные палочки и перехваченном широким, со звездной пряжкой ремнем.
– Товарищ полковник, командный состав первого отдельного противотанкового батальона…
– Вижу, вижу… Присаживайтесь, товарищи, – прервал комбата новый командир бригады полковник Сыроваткин.
Полковник по своему внешнему виду мало походил на военного, не было в нем той косточки, которая отличает армейского человека от обычных штатских людей, полковник рано закруглился, оброс, как говорят, добродушием. Возможно, по этой причине он был прислан на смену старому командиру бригады полковнику Цукареву. Мордобой, самодурство, злостное самоуправство даже в самые черные дни не только не поощрялись, но и жестоко наказывались, и, надо полагать, не по одному Воронежскому фронту.
Все мы присели, кто на притащенную из лесу валежину, кто на черенок лопаты, все мы ждали какого-то важного сообщения, по крайней мере, узнаем, почему застопорилось наше наступление.
Новый командир бригады не был скуп на слова, он рассказал об успешных наступательных действиях всего Воронежского фронта, но стремительное продвижение наших частей ослабило контроль за передовыми подразделениями, а легко взятые трофеи, которые в сводках Совинформбюро значились как склады продовольствия, влекли за собой нежелательные последствия. Комбриг на какое-то время приумолк, почему-то посмотрел на капитана Салахутдинова, капитан сразу привстал, но общительные глаза комбрига грустно опустились, значит, что-то произошло, а что произошло? Опущенные глаза приподнялись, печально заволоклись какой-то полынной горечью. Вскоре мы узнали, что полк противотанковой артиллерии, входящий в состав бригады, пользуясь своими более совершенными мобильными средствами, чем наш ружейный батальон, не преминул воспользоваться не только банками сгущенного молока, но и бочками соблазнительной рыжевато-бурой жидкости. Нашлись дегустаторы, которые незамедлительно опробовали жидкость и весьма высоко оценили ее вкусовые и иные качества.
– Это же ром, понимаете, венгерский ром! – пытался внушить нам новый командир бригады, – и его пьют чайными ложечками, а тут котелки в ход пустили, котелками пили, так нельзя, товарищи…
Не могу сказать, как отнеслись к этим словам мои товарищи, но я-то призадумался, я ведь тоже не чайной ложечкой пил упомянутый злополучный ром.
– В результате артполк понес серьезные потери. Убит начальник штаба полка, – полковник опять опустил опечаленные глаза, нелегко говорить о потерях, к тому же совершенно нелепых и неожиданных, – убит командир третьей батареи, убито четверо командиров взводов. Помпохоз майор Ярилов отправлен в госпиталь в бессознательном состоянии.
– Тяжело ранило? – полюбопытствовал поглаживающий ремень своего шмайсера лейтенант Захаров.
– Хорошо было бы, если б ранило… Упился.
– Как упился?
– Очень просто. Ром ведь пили, пили, как воду, как квас.
Дальше полковник сообщил, что в полосе нашего наступления появились немцы, они-то и нанесли чувствительный урон артиллерийскому полку.
– Я надеюсь, что товарищи бронебойщики будут держать себя в норме…
– Наркомовских ста грамм, – проговорил командир третьей роты старший лейтенант Терехов.
Полковник отмолчался, молча он вышел из палатки, возле заледенелой жимолости остановился, жмурясь от встающего над лесом нестерпимо яркого солнца.
Есть у зимы, если можно так сказать, свое лето, оно выпадает на январь, когда начинает прибывать день. Зимнее лето, оно богато не теплом, богато солнцем, богато светом. Но и тепло дает себя знать, особенно тогда, когда солнце рвет вокруг себя выкованный сорокаградусным морозом, отливающий малахитовой зеленцой обруч, когда рушатся зловеще-огненные столбы, когда на припеке легко можно заметить вязь хрустально-хрупкого кружевца.
Полковник долго не хотел расставаться с нами, чему способствовала незаметно уроненная капля тепла.
– Друзья мои, чуть не забыл сказать, когда мы шли сюда, лису увидели, – поднялись чистые, широко открытые глаза, они то ли сквозь слезы, то ли сквозь упавшие на них и растаявшие снежинки улыбнулись. Этой улыбки было достаточно, чтобы я сам чуть не прослезился, в жизни я мало видел людей, которые смотрели такими чистыми и добрыми глазами.
Не заметили, как начало снижаться, отдаляться теряющее свой острый блеск солнце, оно расплывчато замшилось и побагровело, уроненная им капля тепла превратилась в ледышку, лес еще больше заиндевел, закухтел, под ногами слышнее зашмыгал снег. Я не был дружен с лейтенантом Русовцом, при встречах редко с ним разговаривал, я не знал, откуда, как он попал в наш батальон, вспомнились слова Ваняхина о пушкинской задумчивости, а и вправду лейтенант Русовец всегда был задумчив, помнится, в Новоузенске, когда по приказу капитана Банюка весь наш батальон выстроился на припорошенной пылью луговине, уроженец Рязанской области (я знал, что лейтенант Русовец из Рязанской области) стоял понуро, глядел себе под ноги и только тогда, когда подавалась команда «смирно», он вздрагивал, приподнимал голову, но глаза все равно оставались понуренными, они и на нового командира бригады не взглянули, необщительные, скрытные глаза. Но так случилось, эти глаза оглядели, нет, не кобуру моего трофейного браунинга, они все мое нутро оглядели (как лучи рентгена), я недвижимо замер, мне показалось, что лейтенант Русовец знал, как попал в мои руки вороненый, из нержавеющей стали пистолет.
– Жалко, – потупясь, проговорил мой сослуживец, проговорил так, что я недоуменно спросил:
– Кого?
– Земляка.
Мне не было ведомо, что в понесшем большие потери артполку служил односельчанин лейтенанта Русовца, командир огневого взвода, и вот он погиб, погиб глупо, нелепо…
Я не мог отдалиться от уроженца Рязанской области, по мглисто вечереющему полю мы вместе шмыгали к едва заметным, снежно взбугрившимся позициям своего батальона. Змеино извивалась поземка, неожиданно разорвался бризантный снаряд, разорвался над нашими головами, он не мог заглушить свист ветра, поэтому мы не слышали взрыва, видели только дымное облачко, которое быстро улетучилось.
Обозначился всей своей заметно полнеющей боковиной уже не молодой, уже свыкшийся с вечерними сумерками месяц, он набрал столько света, что его хватило на всю неоглядную воронежскую степь, хватило для того, чтоб я, не плутая, добрался до позиции своего взвода.
– Товарищ старший лейтенант, – услышал я хрупкий голосок рядового Загоруйко, – вы знаете, товарищ старший лейтенант, я скоро дома буду…
– А где твой дом, твоя Грузия?








