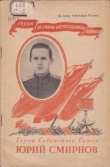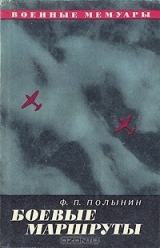
Текст книги "Боевые маршруты"
Автор книги: Федор Полынин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
В жестоких боях за Ковель мы понесли большую утрату: погибли командиры 242-й ночной бомбардировочной авиадивизии полковник Д. А. Абанин и командир 336-й истребительной авиадивизии полковник С. М. Петров. Первый из них водил большую группу самолетов на бомбежку, второй не вернулся с воздушной разведки.
За время Ковельской операции воздушная армия по-полволась новыми героями.
Опытным мастером штурмовых ударов стал гвардии старйывй лейтенант Ф. Б. Бубликов. Он совершил более 80 вылетов, уничтожал пехоту и танки на поле боя, взрывал эшелоны, мосты, склады с боеприпасами. После одного из налетов группы его "илов" на железнодорожную станцию там трое суток полыхали пожары.
В глубине вражеской обороны находился мост, который прикрывался плотным зенитным огнем. Все попытки разрушить его ни к чему не приводили. Тогда на задание вылетел Бубликов со своим ведомым. Воспользовавшись облачностью, штурмовики появились над целью неожиданно и с малой высоты нанесли по цели точный удар. Мост рухнул в воду.
Бубликов был человеком удивительной отваги. Как-то из штурмового полка, в котором он служил, доставили фотопланшет. Начальник штаба армии генерал-майор авиации В. В. Стороженко положил его передо мной и с несвойственной ему патетикой произнес:
– Взгляните на это образцовое произведение боевого искусства.
Я начал рассматривать фотографии крупной железнодорожной станции, сделанные с малой высоты. Были отчетливо видны остатки четырех эшелонов. Паровозы двух из них лежали на боку поперек пути. Хорошо запечатлелись и девять очагов пожара – горели пакгаузы и здание вокзала. Можно было подумать, что на станцию произвела налет большая группа самолетов.
– Я тоже вначале подумал, что над станцией побывала по крайней мере эскадрилья, – словно угадав мои мысли, сказал Стороженко. – Оказывается, не то. Работала всего-навсего четверка "илов" Федора Бубликова.
"Федор Бубликов, Федор Бубликов, – вспоминал я знакомую фамилию. – Где же я о нем слышал? А может быть, даже видел его?"
– Постойте-ка, – говорю, – а это не тот Бубликов, которому я год назад вручал офицерские погоны?
– Тот самый, – подтвердил начштаба.
– Тогда он был старшиной?
– Совершенно точно. Бывший старшина Бубликов, лихой воздушный разведчик.
И передо мной, как наяву, встал образ отважного летчика: высокий, широкоплечий, статный, с крупными сильными руками. Казалось, моя ладонь до сих пор хранила его железное рукопожатие. На открытом лице богатыря светилась добрая улыбка. Родом Бубликов был из сунженских казаков. Отец его – бывалый воин, храбро бился с беляками и интервентами в гражданскую. Сыну он завещал не терять казацкой чести и идти служить в кавалерию. Только Федору не довелось гарцевать на красавце скакуне и рубить саблей. Он поступил в летное училище, стал командиром экипажа самолета-бомбардировщика. А потом добился перевода на штурмовик. Командиру свое желание объяснил так:
– Люблю "рубать" с бреющего.
В штурмовой авиации еще полнее раскрылись его волевые и летные качества. На "иле" он буквально творил чудеса, выполнял самые трудные задания.
Потребовалось разведать и сфотографировать передний край обороны гитлеровцев. При выполнении этой задачи всякие маневры исключались. Образно говоря, нужно было пройти сквозь огонь. И Федор Бубликов прошел, причем несколько раз. Кроме отснятой фотопленки он доставил в штаб и другие ценные сведения.
На обратном пути он был перехвачен четверкой "фокке-вульфов". Штурмовик смело вступил с ними в бой и уничтожил одного фашиста. Остальные улетели. Вскоре старшине Бубликову присвоили офицерское звание. А в течение года он вырос до старшего лейтенанта. В августе 1944 года его назначили командиром эскадрильи, он стал Героем Советского Союза.
В гвардейском штурмовом авиационном полку было немало мастеров метких штурмовых ударов. 14 апреля, например, группа "илов" уничтожила около 30 танков, много бронетранспортеров и автомашин, взорвала несколько складов с боеприпасами, сбила три Ю-87. Такую "работу" проделал за день не полк, а всего-навсего 14 экипажей.
Возвращаясь с воздушной разведки, гвардии лейтенанты Мосин и Мояев встретились с восьмеркой Ю-87. Трех бомбардировщиков они сбили, а остальных обратили в бегство. Одного из этих "юнкерсов" сразил меткой очередью воздушный стрелок экипажа Молева – гвардии сержант В. Каменев.
Когда штурмовики пролетали над железнодорожной станцией, по ним открыл огонь из зенитных орудий и пулеметов вражеский бронепоезд. Самолет гвардии лейтенанта Мосина от прямого попадания снаряда взорвался. Летчик и воздушный стрелок погибли.
Гвардии лейтенант Молев все-таки доставил в штаб ценные сведения. На штурмовку обнаруженных им неприятельских танков вылетела пара "илов" во главе с гвардии лейтенантом В. В. Удачиным. Большего числа самолетов мы из-за плохой погоды не могли послать. Но и этот налет оказался успешным. Гвардейцы сожгли около 10 вражеских танков.
Как только погода улучшилась, на задание вылетела десятка "илов". Ее повел командир эскадрильи гвардии старший лейтенант Николай Белавин. Прорвавшись сквозь завесу зенитного огня, штурмовики уничтожили две артиллерийские батареи врага и не менее 30 танков.
В апрельских боях хорошо показали себя и летчики-истребители. Лейтенант А. П. Булгаков, прибывший к нам всего месяц назад, отличился в первые же дни. Барражируя над нашим передним краем, он заметил внезапно вывалившуюся из облаков группу фашистских бомбардировщиков. Их было несколько десятков.
– Вижу противника. Атакую! – услышали по радио товарищи голос лейтенанта Булгакова. Стремительной атакой он сбил Ю-87. Новый заход, и задымил второй "юнкере". Чтобы добить его, наш истребитель стал набирать высоту. В этот момент в его самолет угодил осколок снаряда, мотор остановился. Но Булгаков, круто спикировав, все-таки догнал и добил фашиста. С большим трудом ему удалось перетянуть через линию фронта и посадить машину.
Лейтенант Булгаков летал на самолете, подаренном Красной Армии колхозником Двуреченского района Харьковской области Григорием Михайловичем Козыревым.
После боя летчик написал ему: "Дорогой Григорий Михайлович! Вы вручили мне свой дар – самолет, который на свои сбережения приобрели для Красной Армии. Вручая машину, Вы сказали: "Смотри, сынок, действуй как полагается". Я действую..."
Далее Булгаков рассказал, как он сбил два немецких бомбардировщика.
Командующий и член Военного совета армии дали высокую оценку действиям наших летчиков. В одной из телеграмм говорилось:
"...В результате боевых действий войсками 69-й армии отражены наступательные попытки противника, а захваченные им плацдармы на берегу реки Турья ликвидированы.
Противнику нанесен большой урон в живой силе, танках, артиллерии и другой технике.
В тесном взаимодействии с наземными войсками этому успеху содействовала авиация, нанося удары по врагу пе только на земле, но и в воздухе.
Прошу передать личному составу действующих частей ВВС благодарность наземных войск.
Колпакчи. Щелаковский".
Зрелость
Перед решающими боями за Ковель 6-я воздушная армия, переданная 1-му Белорусскому фронту, выглядела довольно внушительно. Она состояла из трех корпусов (6-го штурмового, 13-го истребительного и 6-го смешанного, ставшего затем 5-м бомбардировочным) и шести дивизий – 299-й и 3-й гвардейской штурмовых, 336-й и 1-й гвардейской истребительных, 242-й и 2-й гвардейской ночных бомбардировочных. А в сентябре, когда нас вывели в резерв для подготовки к действиям на новом операционном направлении, нам придали еще шесть корпусов – два бомбардировочных (3-й ордена Суворова Бобруйский и 4-й Львовский), два истребительных (3-й Никопольский и 2-й Оршанский), один штурмовой (3-й Минский) и один смешанный (1-й). Кроме того, были приданы две истребительные дивизии (5-я гвардейская Валдайская и 283-я Камышинская Краснознаменная), оперативно подчинена 190-я, входившая в состав 16 ВА.
Во главе авиационных соединений стояли тогда очень опытные, хорошо подготовленные военачальники. Среди них своими организаторскими способностями, волей и летным мастерством выделялись генералы М. X. Борисенко, Б. К. Токарев и А. С. Благовещенский, хорошо знакомый мне еще по войне в Китае. Много общего у них было в подходе к делу, в отношении к людям, хотя каждый обладал совершенно индивидуальным характером.
Командир 6-го смешанного авиакорпуса М. X. Борисенко, например, был добродушным и веселым, любил острое слово и шутку. Своей бодростью и оптимизмом он заражал всех, кто с ним общался. Летчики в нем, как говорится, души не чаяли. Вера в командира, любовь к нему удваивали силы авиаторов. Воевали они блестяще. Корпус не раз отмечался в приказах Верховного Главнокомандующего.
Генерал Б. К. Токарев, наоборот, был строг и требователен, как к себе, так и к подчиненным. Свой 6-й штурмовой авиакорпус он держал в руках. Но взыскательность у него сочеталась с заботой о людях. Он любил их, дорожил ими, постоянно учил и воспитывал. Его штурмовики творили буквально чудеса.
О генерал-лейтенанте авиации А. С. Благовещенском я уже говорил в начале книги, когда описывал боевые действия наших летчиков-добровольцев в Китае. Хочу только отметить его неутомимость в поисках новых методов борьбы с воздушным противником. Командовал он тогда приданным нам 2-м Оршанским истребительным корпусом.
Много добрых слов можно сказать о командире 4-го Львовского бомбардировочного корпуса генерал-майоре авиации П. П. Архангельском. Молодой, энергичный, он вникал во все детали боевой работы и быта летного состава. Большую часть времени проводил на аэродромах.
У командира 3-го Минского штурмового авиакорпуса генерал-майора авиации М. И. Горлаченко я хотел бы наряду со многими положительными качествами отметить его умение работать с людьми, быстро находить верные пути к их сердцам. Видимо, в этом зримо проявлялся его огромный командирский опыт. Он прошел, как говорится, все ступеньки служебной лесенки. В 1941 году, когда мы познакомились с Горлаченко, он уже командовал авиационной дивизией. В процессе воспитания людей у него выработались замечательные педагогические навыки.
О командире 3-го Никопольского истребительного авиакорпуса Е. Я. Савицком, который был тогда генерал-лейтенантом авиации, говорится во многих воспоминаниях видных военачальников и политработников. Те, кому довелось с ним работать и воевать, отмечают прежде всего его неуемную страсть к полетам. Он, как правило, первым осваивал каждый новый тип самолета. Это позволяло ему не только со знанием дела контролировать боевую работу и учебу частей, но и отлично драться в воздухе самому.
Сухощавый, подвижный, он до седых волос сохранил свой юношеский пыл. В поисках форм обучения летного состава Е. Я. Савицкий отличался завидной изобретательностью. Для снайперской подготовки истребителей он, например, первым в нашей армии использовал стрельбу по воздушным шарам. Эти тренировки приносили потом большую пользу, многие летчики научились поражать вражеские самолеты с первого захода, одной или двумя очередями.
Боевой зрелостью отличалось и большинство командиров дивизий и полков. Кадры политработников у нас тоже подобрались неплохие.
Таким образом, 6-я воздушная армия стала мощной не только количеством своих и приданных ей корпусов и дивизий, но и высокой выучкой командного, политического, летного и технического состава. За период относительного затишья, когда наши наземные войска перешли к жесткой обороне, авиационные части еще более окрепли. Эти два с лишним месяца – с мая по июль – они учились с максимальной нагрузкой, разумно использовали каждую минуту времени.
В один из жарких июньских дней меня пригласил к себе командующий фронтом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский и попросил доложить ему о состоянии армии, о каждом соединении и части. Я обстоятельно рассказал, дал характеристику командирам, политработникам, инженерам, руководящим тыловым работникам.
Рокоссовский слушал внимательно, не перебивая. Потом негромко, как бы размышляя вслух, сказал:
– Готовьтесь к новым сражениям. Они не за горами. А сейчас усиленно ведите воздушную разведку – это главное. И еще одна просьба, – добавил он с присущей ему деликатностью. – В район Колки прибыла 1-я Польская армия. Она будет действовать рука об руку с нами. Выберите время и побывайте там, познакомьтесь с руководящим составом, установите деловой контакт. Это очень важно для боевого содружества.
Позже мне не раз приходилось встречаться с Константином Константиновичем Рокоссовским. Он располагал к себе простотой и сердечностью, доброжелательным отношением к людям. Я не слышал, чтобы он даже в трудный момент накричал на кого-то, унизил чье-либо человеческое достоинство. Он внимательно выслушивал подчиненных, тактично делал замечания, давал полезные советы.
Командующий фронтом отличался широтой кругозора, высокой военной культурой. Он не любил ничего показного, в докладах требовал четкости, ясности, конкретности.
Однажды я явился к Рокоссовскому с целым набором схем и карт. Прежний командующий приучил нас обосновывать свои решения не только устно, но и графически отображать их на бумаге.
Константин Константинович посмотрел на мои рулоны, мягко улыбнулся и сказал:
– Зачем вы их с собой притащили? Я, честно говоря, немного растерялся.
– Как же, – отвечаю. – На бумаге наглядно...
– Карты и схемы передайте начальнику штаба. А мне расскажите о готовности армии и о том, какая помощь вам требуется.
Я подробно доложил обо всем, в том числе и о тех трудностях, которые испытываем. Неважно обстояло дело с продовольственным обеспечением, не хватало емкостей для горючего.
При разговоре присутствовал начальник тыла фронта генерал Н. А. Антипенко. Рокоссовский повернулся к нему и спокойно сказал:
– Позаботьтесь, пожалуйста, обеспечить воздушную армию всем необходимым. Самолеты не могут летать без горючего, летчики не должны воевать без обеда. А их помощь нам скоро потребуется.
Потом командующий снова обратился ко мне:
– Примите меры для расширения аэродромной сети. Скоро к вам прибудут еще два или три авиационных корпуса, надо разместить их как следует.
От К. К. Рокоссовского я всегда уходил с ясным представлением о том, что и когда нужно делать, с какими армиями и на каком этапе придется взаимодействовать.
В один погожий день я вылетел в расположение 1-й Польской армии. Сразу бросилась в глаза экипировка польских солдат и офицеров. На них все было с иголочки. Чувствовался и высокий боевой настрой поляков. Понять их было нетрудно. Совсем недалеко на западе находилась их истерзанная фашистами родина, каждый не пощадил бы жизни за ее освобождение.
Меня провели в штаб. Первым, кого я встретил, оказался старый знакомый. В. В. Корчица я знал еще по Северо-Западному фронту. Он возглавлял штаб одной из общевойсковых армий, которую мы поддерживали с воздуха.
– Владислав Викентьевич, и вы здесь? – спросил я, обнимая Корчица.
– Я поляк, – с достоинством ответил он. – Мой священный долг быть вместе со своей армией.
– На какой же вы должности?
– Начальник штаба.
– Как все здорово складывается! – сказал я, не скрывая своего удовлетворения. – Опять нам с вами придется взаимодействовать.
– И я очень рад, – тряс мне руку растроганный польский патриот.
Корчиц проводил меня к командующему армией генералу Берлингу и представил как своего старого знакомого. Берлинг поздоровался и жестом руки пригласил сесть. Как и Корчиц, он свободно говорил по-русски. Беседа сразу же приняла непринужденный характер.
– У нас, пане генерал, отличное советское оружие, солдаты и офицеры рвутся в бой, – не без гордости заявил Берлинг. – У нас даже есть своя авиационная дивизия.
– Кто ею командует? – поинтересовался я.
– Полковник Смага. Начальник штаба у него – Ро-мейко, заместитель по политической части – Г. В. Богда-новский. Дивизия смешанная. Истребительный полк именуется "Варшава", штурмовой – "Краков", а вот ночному бомбардировочному названия пока не придумали.
– Именовать полки надо, видимо, в зависимости от того, где они отличатся, – посоветовал я командующему.
– Совершенно верно, пане генерал, – согласился Берлинг.
– Поскольку мы соседи, – говорю командующему, – авиационную дивизию, наверное, поставят на обеспечение к нам.
– Это будет очень хорошо! – восторженно отозвался Берлинг.
Членом Военного совета, заместителем командующего по политико-просветительной части был Александр Завадский, вторым членом Военного совета – Кароль Сверчевский, а начальником тыла – Петр Ярошевич. Но во время этой поездки мне не удалось с ними познакомиться: они находились в частях.
Штаб дивизии располагался неподалеку, и меня охотно провели туда. Почти до вечера я беседовал с полковником Смагой, его заместителем по политико-просветительной части и начальником штаба. Офицеры произвели на меня приятное впечатление. Они хорошо знали своих людей. Командира дивизии я знал еще по Оренбургской школе, где учился. Тогда он командовал авиаэскадрильей. В разговоре мы с интересом вспоминали былые времена,
Домой я возвращался в отличном настроении. Мне стало ясно, что рядом будут добрые боевые друзья.
Через некоторое время мне позвонил начальник штаба ВВС генерал Худяков и предупредил:
– Из Москвы вылетает генерал Берлинг. Садиться будет на аэродроме Колки. Вам, как представителю нашего командования, поручаем присутствовать при вручении польским военнослужащим советских орденов и медалей.
Еду на аэродром. Вдруг слышу, по внутренней радиосвязи передают: "Вручение наград не состоится. Хозяин Берлинг сел в Бережнице, неподалеку от Сарн".
"Почему Берлинг сел на ложном аэродроме? – ломал я голову. – Неполадки в машине?"
Не мешкая, вылетел в Бережницу. Сел там и увидел странную картину: самолет, на котором прилетели высокие гости, сгорел, Берлинг и сопровождающие его лица стоят в стороне, у фанерного макета бензовоза.
– Хотели захватить вас с собой, – объяснил мне Берлинг, – а попали не на тот аэродром. При посадке два "мессера" прихватили нас и подожгли. Хорошо, хоть в живых остались.
Я невольно улыбнулся.
– Выходит, и вас в заблуждение ввел подполковник Иванов?
Берлинг не сразу понял смысл моих слов. Пришлось объяснить ему, в чем дело.
– Есть у нас очень опытный специалист по маскировке аэродромов подполковник Иванов. Он-то и создал этот ложный аэродром. Сколько бомб на него сбросили фашисты – не счесть.
Берлинг раскатисто засмеялся.
– Ну и молодцы! – сказал он, искренне восхищаясь работой маскировщиков.
– Сверху аэродром кажется настоящим: стоят в ряд самолеты, чуть поодаль автомашины, люди ходят. Все надо. Поэтому мы и села на него. А потом огляделись и видим: все сделано из фанеры и дерева. Прекрасный мастер ваш Иванов!
Об этом случае мы вспомнили и много лет спустя, после войны, когда снова встретились с Берлингом в Варшаве.
Пока у нас сохранялось относительное затишье, войска 1-го Белорусского фронта, действующие правее, стремительно наступали. 29 июня они освободили Бобруйск, продвинувшись на 110 километров. Восточнее Минска большая группировка противника была окружена. Близился день освобождения столицы Белоруссии. Эти победы поднимали боевой дух авиаторов. Все ждали приказа о переходе в наступление частей на левом крыле фронта.
На второй или третий день после освобождения Бобруйска меня вызвал маршал К. К. Рокоссовский. На командном пункте 1-го Белорусского фронта кроме Константина Константиновича находились член Военного совета генерал-лейтенант К. Ф. Телегин и начальник штаба генерал-полковник М. С. Малинин. Все были в приподнятом настроении: наступление развивалось успешно.
Рокоссовский пригласил меня к карте и сказал:
– На 5 июля намечена операция по освобождению Ковеля. Ваша задача поддержать наземные части с воздуха. Привлекать другие авиационные соединения не потребуется. Свяжитесь с командующим 47-й армией, которая будет наступать на Ковель, согласуйте с ним вопросы взаимодействия.
Мы с начальником штаба генералом П. Л. Котельни-ковым в тот же день направились в 47-ю армию, которой командовал генерал Гусев Николай Иванович. И здесь разговор происходил у карты.
– Противник, – объяснял командарм, – занимает оборону по западным берегам рек Припять (до Ратно) и Турья. Мы наметили прорвать ее на участке Борзын Мироничи. Успех будет во многом зависеть от согласованности наших действий.
Штабы 6-й воздушной и 47-й общевойсковой армий тщательно разработали таблицу взаимодействия. Штурмовым и бомбардировочным полкам мы конкретно определили цели, которые нужно уничтожить на переднем крае и в глубине обороны противника. Командиры авиационных соединений и частей лично выезжали в наземные войска, изучали там местность и уточняли свои задачи.
Операция прошла успешно. При активной поддержке авиации, обрушившей на гитлеровцев тысячи бомб и снарядов, наши наземные части быстро прорвали оборону противника и устремились вперед.
Сопротивление фашистов постепенно ослабевало. К исходу дня 6 июля город был полностью очищен от них.
За отличные действия по овладению важным опорным пунктом вражеской обороны и крупным железнодорожным узлом Ковель Верховный Главнокомандующий (наряду с другими объединениями) объявил частям 6-й воздушной армии благодарность. 3-я гвардейская штурмовая и 336-я истребительная авиационные дивизии получили наименование "Ковельских". 72-й дальнеразведывательный авиаполк наградили орденом Красного Знамени. "Ключи к Висле" – как писал в своем приказе о Ковеле немецкий генерал Гиле – отныне находились в руках советского командования.
Потерпев поражение в районе ковельского выступа, противник к 10 июля отошел на заранее подготовленные рубежи. Линия его обороны перед левым крылом войск 1-го Белорусского фронта проходила через Урочище, Мал. Осины, западную окраину местечка Смидынь, Парыдубы, Торговище, Соснувку, Турычаны, Гайки. Далее она продолжалась по западному берегу реки Турья.
Однако немецко-фашистское командование, судя по всему, не надеялось долго задерживаться здесь. С 10 по 17 июля оно продолжало отвод основных сил на левый берег Западного Буга. На правом остались лишь прикрывающие подразделения.
К 18 июля нашим войскам на люблинско-брестском направлении противостояло 7 немецких дивизий, в том числе одна танковая – СС "Викинг". Кроме того, противник располагал резервом из четырех дивизий, который находился в районе Брест, Влодава, Любомль.
В первом эшелоне советских войск были сосредоточены довольно внушительные силы: 47-я армия (командующий генерал-лейтенант Н. И. Гусев), 8-я гвардейская армия (генерал-полковник В. И. Чуйков), 69-я армия (генерал-лейтенант В. Я. Колпакчи), 2-я танковая армия (генерал-лейтенант танковых войск С. И. Богданов, а с 23 июля генерал-майор танковых войск А. И. Радзиевский), 11-й танковый корпус, 2-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса, которыми соответственно командовали генерал-майор танковых войск И. И. Ющук, генерал-лейтенант В. В. Крюков и генерал-лейтенант М. П. Константинов. Во втором эшелоне находилась 1-я Польская армия генерала З. Берлинга. Успеху предстоящей операции должно было способствовать и то, что за пять дней до ее начала перешел в наступление наш сосед – 1-й Украинский фронт. Противнику придется распылять свои силы.
Немаловажное значение имел и такой факт. К началу освобождения Белоруссии две наши мощные фланговые группировки были разобщены болотами Полесья. Теперь Полесье осталось позади и линия фронта сократилась почти вдвое.
Воздушной разведкой и другими путями было установлено, что на прифронтовых аэродромах противник сосредоточил около 700 самолетов, в основном бомбардировщиков. Мы сознавали, что основную тяжесть борьбы с ними придется вынести нашей воздушной армии, поэтому заранее прикинули, как лучше использовать свою авиацию.
Замысел командующего 1-м Белорусским фронтом сводился к тому, чтобы прорвать оборону противника на участке Смидынь – Дольск, шириной 19 километров, выйти на р. Зап. Буг, овладеть плацдармом на ее западном берегу и достигнуть рубежа Влодава, Хелм. В дальнейшем, развивая наступление на северо-запад в общем направлении на Бяла Подляска, Лукув, Люблин, выйти на широком фронте к р. Висла. Осуществив прорыв, общевойсковые армии обеспечивают ввод танковых соединений и кавалерийских корпусов и во взаимодействии с ними развивают наступление в двух направлениях: на Седльце и Люблин.
К этому времени 6-я воздушная армия пополнилась новыми соединениями, выделенными из резерва Главного Командования (три авиакорпуса и три авиадивизии), и насчитывала почти полторы тысячи самолетов, в том числе 104 бомбардировщика, 105 легких ночных бомбардировщиков, 544 штурмовика и 664 истребителя.
В соответствии с замыслом командующего фронтом мы и распределили свои силы. Я вместе с командующим 8-й гвардейской армией и своей оперативной группой нахожусь на направлении главного удара, чтобы на месте решать все вопросы боевого использования авиации.
В моем распоряжении 488 самолетов. Первые два дня здесь же находятся командиры 6-го штурмового, 6-го смешанного и 13-го истребительного авиакорпусов (их возглавляли генералы Б. К. Токарев, М. X. Борисенко и Б. А. Сиднев), 197-й и 198-й штурмовых авиадивизий, которыми командовали полковники В. А. Тимофеев и В. И. Белоусов. Эти соединения боевые задачи получают непосредственно от меня. Командир 299-й штурмовой авиадивизии генерал И. В. Крупский находится на НП командующего 47-й армией (ее поддерживают 202 самолета), а командир 3-й гвардейской штурмовой авиадивизии подполковник А. А. Смирнов – при командующем 69-й армией (162 самолета).
Перед 13-м истребительным авиакорпусом ставилась задача завоевать господство в воздухе, надежно прикрыть 8-ю гвардейскую общевойсковую и 2-ю танковую армии.
С вводом в бой 2-го гвардейского кавалерийского корпуса его должна была поддерживать 299-я штурмовая и 194-я истребительная дивизии. Боевой состав 244 самолета. Для прикрытия 7-го гвардейского кавалерийского корпуса выделялись 3-я гвардейская штурмовая и 336-я истребительная авиадивизии, располагавшие 244 самолетами. 2-ю танковую армию кроме 13-го истребительного авиакорпуса поддерживают 6-й штурмовой авиакорпус и 1-я гвардейская истребительная авиадивизия – всего 732 самолета. Командиры этих соединений со своими оперативными группами следуют вместе с командующими армиями и корпусами и в ходе боя получают от них задачи.
Большая работа при подготовке Люблинско-Брестской операции выпала на долю воинов авиационного тыла. По мере продвижения войск на запад требовалось срочно обследовать аэродромы, которые раньше занимал противник, изыскивать и строить новые. С этой целью наш штаб создал две оперативные группы. Одну из них возглавил главный инженер отдела аэродромного строительства Ананьев, другую – начальник производственного отдела инженер-капитан Д. А. Лобанов.
– Хорошо бы нам иметь свои самолеты, – попросил Рабинович. Мысль эту он вынашивал, видимо, давно, поскольку обосновал ее вескими аргументами.
– Во-первых, – говорил он, – мы не будем отставать от наступающих войск. Во-вторых, на самолете можно быстро обследовать обширные районы, чтобы изыскать подходящие площадки для строительства новых аэродромов.
Возражать против таких доводов было трудно.
Спрашиваю Рабиновича:
– А сколько самолетов потребуется?
– Хотя бы звено.
Командира дивизии, в которую входили самолеты По-2, я попросил выделить самых опытных летчиков.
– Что же им предстоит делать? – спрашивает комдив.
– Садиться и взлетать в самых труднодоступных местах, – отвечаю ему.
– Раз так – будут самые опытные летчики.
Николаю Зарубину, Владимиру Туликову, Евгению Худобе, которых выделил командир дивизии, и впрямь пришлось сажать свои По-2 на самых необычных площадках – на лесных полянах, на дорогах, на окраинах населенных пунктов. Такая уж была у них работа. Тупиков, Худоба и Саломондин, который вскоре заменил Зарубина, были награждены орденами Красного Знамени.
Наши наземные войска стремительно продвигались вперед. Вскоре аэродромы оказались далеко позади, и истребителям стало очень трудно обеспечивать надежное прикрытие пехоты.
Однажды вечером мне позвонил командующий.
– Выручайте, – говорит. – Гвоздят нас с воздуха. Мы и сами отлично понимали, что необходимо как можно быстрее приблизить истребительную авиацию к наступающим войскам. Но аэродромов для нее впереди не было. Пригласил к себе Рабиновича. Развернули крупномасштабную карту и начали вдвоем изучать местность. Ни одной подходящей площадки – холмы да леса.
– Завтра утром вышлите самолет на разведку. На месте виднее, что и как, сказал я Рабиновичу.
– Полетит Щипин, – тут же отозвался он. Через сутки Щипин вернулся и обстоятельно доложил о своем полете.
– Сел я у деревушки, самолет сразу замаскировал. Подъезжает автомашина; из нее выходит молодой офицер и говорит, что генерал Колпакчи просит меня к себе. "Ну, думаю, значит, немецкие летчики действительно здорово досаждают нашей пехоте, если мной заинтересовался сам командарм".
Генерал встретил приветливо, – продолжал Щипин. – Узнав о моем задании, он решил сам поехать со мной. Ездим, ездим – никак не можем найти площадку всюду холмы и овраги. Возвращаемся в штаб. Генерал достает карту. Долго и пристально рассматриваем ее и, наконец находим что-то подходящее. Утром едем на облюбованное место. Предположения оказались верными: хотя площадка была и маленькой, опытный летчик вполне мог посадить на нее самолет.
– Вот и сажайте сюда истребители, – твердо заявил Колпакчи.
Выслушал я доклад Щипина и говорю:
– Возвращайтесь на ту площадку, развертывайте радиостанцию и принимайте самолеты.
Новая тактика действий нашей истребительной авиации обескуражила гитлеровцев. В самом деле, советские самолеты появлялись в воздухе всегда неожиданно, встречали немецких бомбардировщиков на дальних подступах к цели. От первых же внезапных ударов они понесли большие потери. Асы быстро отбили у фашистов охоту появляться над расположением наших войск.
– Всех летчиков, что здесь находятся, прошу представить к награде, попросил меня по телефону Колпакчи. – Пехота шлет им большущее спасибо. Крепко они нас выручили.
Советские войска вышли к Западному Бугу. Чтобы они снова не оказались без авиационного прикрытия, требовалось срочно разведать прифронтовую местность и отыскать посадочные площадки для истребителей. Главный инженер Е. Ананьев посылает на По-2 капитана Киселева с задачей определить, в каком состоянии находится аэродром под городом Холм. Через несколько часов летчик возвратился и доложил:
– Аэродром под горой. Снаряды и мины противника не долетают до него. Но в ряде мест взлетно-посадочная полоса перепахана.