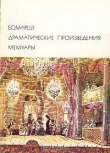Текст книги "Бомарше"
Автор книги: Ф Грандель
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
Следует отметить, что "Преступная мать" была первой настоящей мелодрамой. Автор нашел здесь сценические аксессуары, без которых театр не сможет обойтись на протяжении почти всего XIX века – хотя бы пресловутый ларец с двойным дном. Когда героям "Преступной матери" нужно написать письмо, они, ничтоже сумняшеся, макают перо в собственную кровь. Женщины тут падают в обмороки и приходят в сознание после того, как им дадут понюхать соли или выпить "капли". Упомянул ли я, что Альмавива, великий коррехидор Испании, здесь стал или вот-вот станет – революция обязывает – просто господином Альмавивой? С 1789 года графиня "выезжает без ливрейных лакеев" "совсем как простые смертные". Не будь Фигаро, супруги Альмавива кончили бы, вероятно, заурядным разводом. Обуржуазившись, муж и жена, как ни странно, приобрели манеру выражаться крайне высокопарно; о напыщенности их разговора может дать представление следующий отрывок, непредумышленный комизм которого представляется мне убийственным:
"Графиня (в самозабвении, закрыв глаза). Господи! Велико же было мое преступление, если оно равно наказанию! Да будет воля твоя!
Граф (кричит). И, покрыв себя таким позором, вы еще осмеливаетесь допрашивать меня, почему я испытываю к нему неприязнь!
Графиня (молится). Как могу я не покориться, когда на мне отяготела десница твоя?
Граф. И в то самое время, когда вы заступались за сына этого презренного человека, на руке у вас был мой портрет!
Графиня (снимает браслет и смотрит на него). Граф, граф, я возвращаю вам его. Я знаю, что я его недостойна. (В полном самозабвении.) Господи! Что же это со мной! Ах, я теряю рассудок! Помраченное мое сознание рождает призраки! Я еще при жизни осуждена на вечную муку! Я вижу то, чего нет... Это уже не вы, это он: он делает знак, чтобы я следовала за ним, чтобы я сошла к нему в могилу!
Граф (в испуге). Что с вами? Да нет же, это не...
Графиня (бредит). Зловещая тень! Удались!
Граф (болезненно вскрикивает). Это вам чудится!
Графиня (бросает на пол браслет). Сейчас!.. Да, я повинуюсь тебе...
Граф (в сильном волнении). Графиня! Выслушайте меня...
Графиня Я иду... Я повинуюсь тебе... Я умираю... (Теряет сознание.)
Граф (испуганный, поднимает браслет). Я вышел из границ.... Ей дурно... О боже! Скорее позвать на помощь! (Убегает.)
И вся пьеса в том же духе. Сам Фигаро – неузнаваем. Отвергнув гордым жестом 2000 луидоров, которые предлагает ему граф в награду за службу, доказательство, что Фигаро весьма переменился, – он заключает эту унылую мелодраму такой тирадой:
"Фигаро (живо). Мне, сударь? Нет, пожалуйста, не надо. Чтобы я стал портить презренным металлом услугу, оказанную от чистого сердца? Умереть в вашем доме – вот моя награда. В молодости я часто заблуждался, так пусть же этот день послужит оправданием моей жизни! О моя старость! Прости мою молодость – она тобою гордится! За один день как у нас все изменилось! Нет больше деспота, наглого лицемера! Каждый честно исполнил долг. Не будем сетовать на несколько тревожных мгновений: изгнать из семьи негодяя – это великое счастье".
Старость – крах и для сценических персонажей.
Но можно ли себе представить, чтобы из-под пера Бомарше не вышло ни одной удачной реплики на протяжении пяти актов? И в самом деле, одну Рене Помо нашел. Цитирую его: "Хотя бы несколько слов из этой драмы заслуживают того, чтобы их запомнить, это слова Альмавивы, который сокрушается: "Некто Леон Асторга, бывший мой паж, по прозвищу Керубино..." Сколько ностальгии в этом воспоминании о "Безумном дне" и о том времени, когда Бомарше был талантлив". И правда!
"Преступная мать" предназначалась "Комеди Франсэз". Пайщики приняли ее с восторгом. Но поскольку как раз в это время они снова затеяли процесс против драматургов, в том числе и против первого из них, этот последний забрал у них пьесу и передал ее труппе театра Марэ, основанного шестью актерами, "выходцами" из Итальянского театра, которых Бомарше поддержал денежно и которым помог приобрести старое театральное здание на улице Кюльтюр-Сент-Катрин (ныне – улица Севинье). Пьеса, поставленная 26 июня 1792 года, продержалась на афише две недели. Театр "Комеди Франсэз" устроил заговор против Бомарше, а актеры молодой труппы, часть которых выступала на сцене впервые, потеряли самообладание, едва партер начал их освистывать и осыпать издевками. Дамы и господа – пайщики "Комеди Франсэз" – радовались от всего сердца: пьеса никуда не годная, коль скоро Бомарше отобрал ее у них. Она действительно была никуда не годной, но совсем по иной причине, как мы уже сказали. Тем не менее на втором представлении "Преступная мать" была "принята с восторгом". Восхищенный Гретри тотчас задумал сделать из нее оперу: "Я мечтаю только о Вашей "Преступной матери"", – писал он Бомарше. Мечта так и не осуществилась, хотя композитор пообещал написать "музыку к этому шедевру, достойному старика Гретри". Публика и критика той эпохи отдавала предпочтение театру, которой мы назвали бы сегодня "ангажированным". В "Альманахе зрелищ" Дюшена за 1792 год можно было, к примеру, прочесть: "Несколько патриотов дали театру Мольера (улица Сен-Мартен) пьесы, не оставляющие никакой надежды аристократии: она в них полностью посрамлена и предана публичному осмеянию. Лучшая из этих пьес "Лига фанатиков и тиранов", написанная г-м Руссеном". Пятью годами позже, когда времена изменились, "Преступная мать" была возобновлена и шла с триумфальным успехом. Где же? Да все в той же "Комеди Франсэз", естественно. Бонапарт, который ненавидел "Женитьбу", горячо принял эту мрачную мелодраму, продемонстрировав тем самым, что его вкус оставляет желать лучшего.
Итак, завершился последний эпизод театральной карьеры Бомарше, занавес опущен, но жизнь продолжается. Бомарше шестьдесят лет. Постаревший, "все видевший, все сделавший, все исчерпавший", что еще он мог совершить? В шестьдесят лет ему оставалось, полагаю, только превзойти себя самого. Что он и сделал, ввязавшись самым безумным образом в рискованное предприятие и продемонстрировав в борьбе, потом – в поражении и, наконец, в нищете и невзгодах неисчерпаемые запасы ума и мужества. Последнему делу своей жизни он обязан самыми дорогими дворянскими грамотами – теми, которые человек получает, бросая вызов смерти.
За два дня до премьеры "Второго Тартюфа" некто Шабо, капуцин-расстрига, член Национального собрания, обвинил Бомарше в спекуляции оружием. Шабо пошел даже дальше: он утверждал, что Бомарше прячет в подвале своего дома 70000 ружей. Когда идет война и родина в опасности, а солдаты вынуждены сражаться голыми руками, это – преступление из преступлений, и нет нации, нет народа, когда-либо прощавших подобное. В июне 1792 года положение Бомарше было еще достаточно прочным. Во всяком случае, более прочным, чем положение Людовика XVI и его правительства. Париж, как ни был он скор на ниспровержение собственных кумиров, все же ждал, что ответит на это обвинение Бомарше. Ответ был уничтожающим: "Вся груда оружия сводится к двум ружьям, а подозрительное место, где я их прячу, – кабинет военного министра, слева от окна..." И далее, желая устыдить бывшего монаха, Бомарше неосмотрительно добавил:
"Мне, как всем образованным людям, известно, что монастыри велеречивого монашеского ордена, к коему Вы принадлежали, искони поставляли славных проповедников христианской церкви; но мне и в голову не приходило, что Национальному собранию предстоит так возрадоваться просвещенности и логике
Оратора из тех, что средь святых отцов
Звал капуцинами Великий Богослов."
Дело о ружьях – "60000, а не 70 000 ружей" – заслуживает подробного изложения, оно весьма характерно и помогает понять Бомарше. В начале 1792 года и Людовик XVI и Учредительное собрание еще на своих местах. Правительство и народ готовятся к войне против Австрии – она будет объявлена 1 марта. Но Франция, исполненная воинственного пыла, воодушевляемая чувством национальной независимости, испытывает нужду в оружии. Бомарше, связанный, как мы уже сказали, с правительством, по собственной инициативе – таков уж его характер – затевает деловую операцию, чтобы снабдить отчизну ружьями. За две или три недели до объявления войны он вступает в переговоры с неким Делаэйем, бельгийским книготорговцем и корреспондентом "Типографского и литературного общества", который предлагает ему, предоставив самые серьезные гарантии, 60 000 ружей. Ружья находятся в Голландии. Их уступило группе покупателей, представляемой бельгийцем, австрийское правительстве, которое потребовало при этом обязательства, что ружья не будут перепроданы Франции. Перекупщики, естественно, склонны были свое обязательство нарушить. Будь то частные лица или государства, когда речь идет о торговле оружием, нравственные принципы всегда отступали и будут отступать на второй план. Поразмыслив и переговорив – с Гравом, французским военным министром, Бомарше решил взяться за это дело. Впрочем, предполагалось, что эта сделка только начало. Если верить бельгийцу, за первой партией ружей вскоре "могло последовать" еще 200 000. Поскольку Грав дал согласие и авансировал на эту операцию 500 000 франков в ассигнациях, Бомарше, чтобы завершить дело, вложил часть своих средств. Трав, – естественно, дал ему все гарантии и пообещал оказать необходимое давление на голландское правительство, чтобы то посмотрело сквозь пальцы на переправку оружия через свои границы. Но тут Франция вступила в войну с Австрией и Пруссией, а министр получил отставку. За полгода – с 1 марта, когда начались военные действия, до 10 августа, когда пала монархия, – сменилось четырнадцать министров, так что Бомарше уже не знал, с кем ему вести переговоры. Серван, Лажар, Абанкур, Дюбушаж, Паш если назвать хоть часть из них, – едва успев сесть в министерское кресло, уже покидали его. Что же до людей, представляющих то, что мы сегодня именуем министерским аппаратом, их, кажется, куда больше занимало пополнение личной кассы, нежели служение родине. В глазах этих спекулянтов Бомарше – опасный конкурент, чье предприятие необходимо подорвать любой ценой. Мы вскоре увидим, что республиканские чиновники окажутся ничуть не добросовестнее; правда, новый режим, за редким исключением, оставил на своих местах королевских служащих. Заметим между прочим: вместо того чтобы сбрасывать министров, людей, как правило, просто ни на что не способных, было бы подчас полезнее – во всяком случае, во Франции – увольнять крупных государственных чиновников, в руках которых сосредоточена подлинная власть и которые способны весьма на многое – на все и на самое худшее. Тем временем Бомарше получал от Ларга – своего посредника, посланного в Голландию, – довольно неутешительные известия. Голландцы, не желая раздражать врагов Франции, то есть Пруссию и Австрию, теперь заявляли, что задержат оружие на складах в Тервере вплоть до окончания конфликта. Бомарше, предвидевший, что события могут принять именно такой оборот, ответил через Ларга, что ружья предназначаются для отправки на Антильские острова. На самом деле он собирался, обманув бдительность голландцев или, точнее, избавив их от угрызений совести, переправить через Антильские острова это военное снаряжение во Францию. Если Родриго был храбр, то Орталес – хитроумен. Но для того чтобы сломить сопротивление Нидерландской республики, Бомарше нуждался в содействии французского правительства. А добиться этого ему никак не удавалось, поскольку министры были недолговечны, как розы. Наконец Дюмурье, пребывавший некоторое время на посту министра иностранных дел, согласился принять Бомарше, с которым был в приятельских отношениях.
"Я неуловим по меньшей мере в той же степени, в какой Вы глухи, мой дорогой Бомарше. Но я люблю Вас слушать, особенно когда у Вас есть что-нибудь интересное. Будьте же завтра в десять часов у меня, поскольку несчастье быть министром из нас двоих выпало мне. Обнимаю вас. Дюмурье".
Дюмурье попросил того, кто едва не стал его коллегой в правительстве, составить конфиденциальную записку об этом деле – ему необходимо было выиграть время. Министры, чье положение не слишком твердо или чьи дни сочтены, зачастую колеблются перед принятием ответственных решений. Чтобы продержаться лишнюю неделю, лучше пригнуть голову и не привлекать внимания. Бомарше вскоре пришлось понять, что помочь собственной родине куда трудней, чем поддерживать американских мятежников. Правда, Верженн и Дюмурье весьма не походили друг на друга. Чтобы преодолеть пассивность министра иностранных дел, Бомарше на протяжении одного дня направил ему пять конфиденциальных записок. Тщетно. Шли месяцы, и секрет Дюмурье стал секретом Полишинеля. Вот тут-то капуцин Шабо с трибуны Национального собрания и обрушился в самых резких выражениях на "человека с голландскими ружьями". Ответ Бомарше я уже приводил выше. Тем временем его враги расклеивают на стенах афиши, разжигая в народе ненависть к Бомарше. Вокруг его дворца – этой безумной прихоти, воздвигнутого среди жилищ бедняков, собираются все более многочисленные толпы, требующие ареста и наказания человека; похитившего ружья у отчизны. Незаметно он сделался для парижской бедноты символом всего того, что сам жаждал ниспровергнуть. В конце концов Бомарше осознал, в каком положении находится и какому риску подвергает близких. Верный Гюден, трусливость которого нам известна, высказал ему без обиняков, что он об этом думает: "В ужасе от этой покупки я сказал ему, что в революционные эпохи мудрый человек не занимается торговлей оружием или хлебом..." Из осторожности Бомарше отправил жену, дочь и Жюли к друзьям в Гавр, но сам, разумеется, остался в Париже. Чтобы не слышать воплей и ропота толпы и тем самым забыть об угрожающей ему опасности, достаточно было – не так ли! – положить на стол или сунуть в карман слуховой рожок. Тогда он оставался наедине с собой. В последние часы монархии Бомарше сделал все возможное и невозможное, чтобы прорваться к предпоследнему министру иностранных дел Людовика XVI экс-маркизу Сципиону (!) Шамбонасу. Тот внимательно его выслушал. Однако назавтра Шамбонаса уже сменил Биго де Сент-Круа. А послезавтра – было 10 августа.
"11 августа, – рассказывает Гюден, – через день после ареста короля огромная толпа, та часть простолюдинов, которую сбила с толку ярость крамольников, бросилась к дому Бомарше с негодующими криками, угрожая сломать ограду, если тотчас не откроют ворота. В доме, кроме него, был я и еще два человека. Сначала он хотел отворить ворота и выйти к этой черни; но убежденные в том, что переодетые враги, предводительствующие толпой простонародья, натравят ее на него и он будет убит, прежде чем сможет сказать хоть слово, мы уговорили его скрыться через садовую калитку, расположенную довольно далеко от решетчатой ограды, за которой безумствовал рычащий сброд". (Бомарше действительно выбрался из дома подземным ходом, "ведущим на улицу Па-де-ла-Мюль".)
Гюден своих чувств не скрывает. Он явно не испытывает никаких симпатий к народу, особенно когда тот предстает в облике "рычащего сброда". Заметим в оправдание бедняге Гюдену, что в дом его друга ворвалось около тридцати тысяч человек. Замечательнее всего, что эта толпа, проникшая во дворец визит или, точнее, обыск длился около шести часов, – ничего не сломала, ничего не похитила и даже ничего не загадила. Руководители этого отряда сыщиков-любителей взяли со своих людей клятву, что грабежа не будет. Какую-то женщину, осмелившуюся сорвать в саду цветок и собиравшуюся сохранить его, едва не потопили в пруду в наказание за совершенный проступок, и спаслась она только чудом. После того как были простуканы стены, перерыта земля и подняты все плиты, вплоть до крышки выгребной ямы; толпа удалилась столь же внезапно, как и пришла. Самое поразительное реакция Бомарше. На следующий день, опомнившись от страха, он не только не разгневался, но пришел в восторг: "...я могу только восхищаться этой смесью заблуждений и врожденной справедливости, которая пробивается даже сквозь смуту..." Естественно; он в то же время предал широкой огласке самый факт, что народ в его доме ничего не нашел, и, следовательно Шабо – гнусный клеветник. Ход не слишком ловкий, но отныне Бомарше сознательно идет на риск и пренебрегает всякой осторожностью. Старики бывают двух пород – одни предпочитают жить, обложившись ватой и как можно меньше высовываясь, словно добиваются, чтобы смерть позабыла о них, другие преднамеренно дразнят ее, открыто бросают ей вызов или ищут с ней встречи. Бомарше принадлежал к тому типу людей, которые, ради того чтобы поддержать пламя молодости, готовы гореть напропалую и сжигают себя быстрее остальных. На мой "взгляд, нет ничего удивительнее и достойнее такого поведения, как нет ничего печальнее, презреннее уютного прозябания отставников, откровенно сдающих свои позиции. Итак, он решил оставаться молодым – за столом, в постели и на общественной арене.
С присущим ему упрямством Бомарше попытался снова сдвинуть дело с той мертвой точки, на которой оно застряло в результате волокиты королевского правительства. Но республиканские министры – пешки в руках оставшихся на своих местах прежних чиновников – увиливали от ответа на его запросы. Не зная обстоятельств дела и не любопытствуя ознакомиться с досье или, не обладая способностями разобраться в нем – интеллектуальный уровень политических деятелей редко поднимается выше среднего, – они, как и их предшественники, пытались лишь выиграть время, иначе говоря – упустить его. Министерские же канцелярии продолжали свою, темную игру. К Бомарше засылали всяких Ларше и Константини, с которыми он по своей неисправимой наивности едва не вступил в сомнительные отношения. Но поскольку он все же отказался от сделки с ними, Ларше и Константини, о которых нетрудно было догадаться, на кого они работают, пригрозили Бомарше, что ему придется плохо. 20 августа 1792 года донос и смерть действовали, рука об руку, в нерасторжимом симбиозе, если говорить точнее. Утратив с возрастом гибкость лозы, Бомарше держался с твердостью дуба – иначе говоря, открыто и даже не без величия отверг притязания своих противников. Последовали новые клеветнические афиши и новый вызывающий ответ:
"Я глубоко презираю людей, которые мне угрожают и не боюсь недоброжелательства. Единственное, от чего я не могу уберечься, это кинжал убийцы; что же касается отчета относительно моего поведения в этом деле, то день, когда я смогу предать все гласности, не повредив доставке ружей, станет днем моей славы.
Тогда я отчитаюсь во весь голос – перед Национальным собранием, выложив на стол доказательства. И все увидят, кто истинный гражданин и патриот, а кто – гнусные интриганы, подкапывающиеся под него".
Не будем, однако, упрощать. Хотя Бомарше и грозила опасность потерять свободу, а то и жизнь, он все еще располагал некоторыми возможностями. В революционные эпохи власть не надолго задерживается в одних руках. Все двойственно, поэтому довольно трудно разобраться, кто и что может. Так, например, некоему высокопоставленному офицеру из охраны Тампля, имени которого Гюден не называет, даже пришло в голову прибегнуть к заступничеству Бомарше, "дабы смягчить чувства народа к. королевской семье". МариягАнтуанетта, после того как этот офицер изложил ей, какую роль мог бы сыграть Бомарше, только заметила, "вздохнув": "Ах, мы ни о чем не можем его просить; он вправе действовать по отношению к нам, как ему заблагорассудится". Повествуя об этом разговоре, Гюден добавляет: "Этот человек [офицер] опустил глаза и умолку смущенный тем, что напомнил королеве о самой большой несправедливости, совершенной в ее царствование. И он догадался по ее ответу, что, наученная несчастьем, она остро чувствовала угнетенный: свободен от каких бы то ни было обязательств по отношению к угнетателю". Этот эпизод, которым биографы Бомарше пренебрегали и о котором по сю пору предпочитают умалчивать, весьма любопытен – прежде всего, он показывает, что 20 августа Бомарше, хотя он и в опасности, все еще пользуется известным и даже значительным авторитетом, ибо только человек, имеющий реальное влияние, может попытаться изменить ход Истории; но, главное, реплика. Марии-Антуанетты свидетельствует о том, что король и королева осознали, какую неблагодарность проявили они к своему дипломатическому курьеру. По здравом размышлении напрашивается вывод, что в действительности эта неблагодарность, эта несправедливость, вероятно, была еще более вопиющей, чем мы говорили. Тайная служба главам государств всегда таит в себе известный риск, ибо они нередко уносят с собой в могилу часть правды. Намереваясь назначить Бомарше министром внутренних дел, Людовик XVI, вне всяких сомнений, стремился загладить свою вину и открыто признать его серьезные заслуги перед Францией, однако весной 1792 года время для этого уже было упущено. Внезапная смерть Верженна и казнь Людовика XVI лишили Бомарше главных свидетелей защиты. Короче говоря, их исчезновение было на руку Базилю.
23 августа, на заре, Бомарше арестовали и, опечатав его бумаги, отвели под охраной в мэрию, где, не давая никаких объяснений, заставили прождать целые сутки в такой узкой конуре, что он не мог даже присесть. Физические унижения во все времена были излюбленным приемом полиции. Разве, чтобы сломить сопротивление человека, вдобавок немолодого, как в данном случае, недостаточно поставить его в положение, когда он, к примеру, лишен возможности утолить жажду и голод или справить естественную нужду? Этот метод, чаще всего приводящий к искомому результату, и именно потому столь употребительный, терпит, однако, крах, столкнувшись с сильным характером. Вместо того чтобы сломить человека, такое обращение, напротив, усиливает его сопротивляемость. Так было и с Бомарше. Представ перед своими "судьями", собравшимися в мэрии, он не просто защищается, но переходит в атаку. В чем его обвиняют? В том, что он отказывается доставить во Францию ружья? Но это же нелепость. Во мгновение ока Бомарше убеждает членов муниципалитета в своей невиновности и излагает им свои соображения относительно того, что Лебрен-Тондю, вчера еще рядовой чиновник министерства иностранных дел, занявший сегодня кабинет Верженна, причастен к махинациям, мешающим доставке оружия, – не случайно он, Бомарше, тщетно пытался добиться встречи с министром, чтобы переговорить об этом деле. Его уже собираются освободить, принеся извинения, когда в комнату заходит невысокий черноволосый мужчина, это Марат. Он что-то шепчет на ухо председательствующему и тут же удаляется. Новые обвинения, столь же дурацкие, как предыдущие, новый, еще более яростный взрыв возмущения со стороны Бомарше. Судьи просят у него прощения и на этот раз уже вызывают экипаж, чтобы отвезти его домой, однако тут является посыльный с пакетом. Пакет вскрывают. Это приказ немедленно отправить гражданина Бомарше в Аббатство. Правосудие, о котором принято говорить, что оно стоит на страже справедливости, тут же принимает свою излюбленную позицию: падает ниц и распластывается на брюхе. Аббатство бывший церковный дом заключения неподалеку от Сен-Жермен-де-Пре – уже приобрело зловещую славу. Тем, кто туда попадал, был как бы уже вынесен смертный приговор. На соседних улицах не иссякали толпы, громко требовавшие казни "преступников", запертых в Аббатстве. Бомарше рассказал о шести днях, проведенных им в крохотной камере, "набитой арестованными точно бочка сельдями" в обществе графа Аффри, сына Лалли-Толлендаля, посвятившего жизнь защите памяти своего отца, а также бывшего министра Монморена, аббата де Буажелена, де Сомбрея с дочерью и еще пяти или шести несчастных, в том числе восьмидесятилетнего старца, в прошлом казначея подаяний. Бомарше был освобожден 30 августа. 2 сентября начались массовые казни. _И начались именно с Аббатства_. В очередной раз Бомарше спасся в последнюю минуту.
Обстоятельства его освобождения долго – и как бы стыдливо замалчивались. Гюден, Ломени из дружеских чувств к наследникам Бомарше ограничивались беглыми намеками. Первым приоткрыл завесу Беттельгейм в своей биографии Бомарше, изданной в 1886 году. Год спустя Лентилак подтвердил факты. Вслед за ними целая когорта биографов, уже без всяких околичностей, но не без осуждения, раскрыла всю подноготную: спасла Бомарше Нинон. Мы уже рассказывали, как Нинон, то есть Амелия Уре, то есть бывшая графиня де Ламарине, незадолго до революции стала его любовницей. Бомарше любил ее до конца дней. И она также, по-видимому, долго была в него влюблена. Не дала ли она ему доказательств своего чувства, вытянув его из Аббатства, этого преддверия смерти? Ибо нужна была храбрость, отчаянная храбрость, чтобы действовать так, как действовала она. Отправившись к генеральному прокурору Парижской коммуны, некоему Манюэлю, с которым Бомарше был отнюдь не в лучших отношениях, она потребовала и добилась от того приказа об освобождении Бомарше. Естественно, некоторые из особенно дотошных адвокатов намекают, что Нинон удалось умилостивить Фемиду, принеся жертву Венере. Другие смело делают следующий шаг и утверждают, что Нинон была в ту пору любовницей Манюэля. Я, со своей стороны, ничего не утверждаю и, по правде говоря, не это меня интересует. Для меня важно, что она спасла Бомарше. Переспала же она или не переспала с Манюэлем, дела не меняет и нисколько не умаляет важности ее поступка. Когда старый любовник в тюрьме, а молодой у власти, многие ли дамы сделают то же, что она? Не отнесется ли большинство к тому, что старика сунули в темницу, как к воле провидения? Мне кажется, наши историки допускают в своих суждениях о Нинон ошибку, вполне, впрочем, простительную. Они видят ее либо такой, какой она была лет в пятнадцать, шестнадцать, когда адресовала Бомарше романтичные письма, на которые тот, как вам известно, отвечал, либо такой, какой она сделалась впоследствии, много позже – а именно женщиной весьма вольного поведения. Но какова была Нинон в 1792 году? Конечно же, совсем другая – и, как я предполагаю, оправдывавшая во всех планах, в том числе и в том, о котором вы догадываетесь, влечение к ней Бомарше. Впрочем, нам еще предстоит с ней встретиться. Было бы обидно так быстро расстаться с особой столь обворожительной. Рассказывая впоследствии о своем освобождении из Аббатства в мемуарах "Шесть этапов девяти самых тягостных месяцев моей жизни", адресованных Конвенту, Бомарше, естественно, умолчал о роли Нинон. Некоторых это удивляет. Но мог ли он в политическом тексте намекать на обстоятельства своей частной жизни? Ему приходилось также считаться с чувствами г-жи де Бомарше и, возможно, оберегать репутацию г-жи де Ламарине. Впрочем, в тот момент, когда Манюэль вызволил его из Аббатства, Бомарше наверняка ничего не знал о вмешательстве своей возлюбленной. Поэтому мы вправе думать, что его разговор с Манюэлем, воспроизведенный в "Шести этапах", соответствует действительности. Вот как он повествует об этом событии:
– Сударь, – говорю я ему, – неужто мое дело приняло такой серьезный оборот, что сам прокурор-синдик Парижской коммуны, оторвавшись от общественных дел, явился сюда заниматься мною?
– Сударь, – сказал он, – я не только не оторвался от общественных дел, но нахожусь здесь именно для того, чтобы, ими заняться; и разве не первейший долг общественного служащего прийти в тюрьму, чтобы вырвать из нее невинного человека, которого преследуют?.. Не оставайтесь здесь ни минутой дольше.
И Бомарше добавляет:
"Я сжал его в объятиях, не в силах произнесть ни слова, только глаза мои выражали, что творилось в душе; полагаю, они были достаточно красноречивы, если передали ему все мои мысли! Я тверд как сталь, когда сталкиваюсь с несправедливостью, но сердце мое размягчается, глаза влажнеют при малейшем проявлении доброты! Никогда не забуду ни этого человека, ни этой минуты. Я вышел""
Думаете, чтобы спрятаться? Ничего подобного!
Однако "самый отважный из людей [Бомарше] не знал, как бороться с опасностями такого рода". В сентябре 1792 года Франция воюет, но положение в стране неопределенное. Кто правит? Ясно одно – в городе оставаться опасно. Террор все ширится. Чудом спасшись от смерти, Бомарше больше чем когда-либо на подозрении, его разыскивает и народ, который видит в нем преступника, и люди, спекулирующие оружием. А эти последние – у власти, им послушно общественное мнение. В таких условиях маневрировать, трудно. Выйдя на свободу, Бомарше с помощью Гюдена и, надо полагать, Нинон на два дня находит убежище неподалеку от Парижа. Упрятав его подальше от врагов, друзья явно заботятся только о его жизни. Но скрываться – не в обычае Бомарше. Обманув бдительность и дружеское внимание гостеприимных хозяев, он возвращается в Париж пешком, через поля и леса, чтобы его не схватили по дороге. На рассвете, весь в грязи, неумытый, небритый, не имея при себе ничего, кроме слухового рожка, он приходит в Париж. Куда же он направится? Да в министерство иностранных дел, разумеется, – испросить аудиенцию у Лебрена-Тондю. Министр то ли отсутствует, то ли велит сказать, что его нет. В конце концов Бомарше все-таки добивается своего – Лебрен-Тондю обещает принять его в одиннадцать часов вечера. Долгий день в ожидании встречи. Рискуя быть арестованным в любую минуту, нигде не чувствуя себя в безопасности, Бомарше прячется на стройке, где вскоре засыпает "прямо на земле, среди куч булыжников и бутовых плит". Я рассказываю об одном дне – но таких было четыре. Словом, ночью Лебрен наконец принимает его, точнее, Бомарше вламывается к министру. Стремись избавиться от назойливого посетителя, Лебрен предлагает тому явиться в Комиссию по вооружению Национального собрания. Бомарше кидается туда, петляя по городу, поскольку боится, как бы его не прикончили по дороге люди министра иностранных дел или присные Клавьера, заправляющего министерством финансов. Уж не причастны ли к спекуляциям оружием сами ЛебренТондю и Клавьер, которые явно в сговоре? Бомарше отлично знает Париж, все переулочки и проходные дворы, ему удается обмануть преследователей. В Национальном собрании неутомимый Бомарше предъявляет свои требования министрам и членам Совета, в том числе Дантону, который настроен недоверчиво, поскольку до него уже дошли наветы Базиля, однако не может не удивляться упорству и мужеству этого старика, и Ролану, которого Бомарше до такой степени выводит из себя, что тот заявит потом одному из своих сотрудников: "Я тут занимаюсь с позавчерашнего дня делом, с которым мы, видимо, не покончим до конца войны, делом о ружьях господина Бомарше". Предвидения Ролана оправдались.