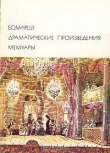Текст книги "Бомарше"
Автор книги: Ф Грандель
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
Задав перцу незадачливому Бертрану, Бомарше, прежде чем расстаться с ним окончательно, одаривает его последним абзацем. Поскольку этот плут Бертран упоминает в своем сочинении, что с ним, мол, до сих пор не расплатились за церковную свечу, "ссуженную" при похоронах г-жи Бомарше, должник, не торгуясь, отваливает ему сполна: "Всем известно, что в Париже пруд пруди южанами, единственное ремесло которых всех кругом одалживать. В семье свадьба? Пожалуйста – перчатки, кокарды и благовония. Праздничный обед? Оливки, тунец, мараскин. Какая-нибудь другая нужда? В запасе деньги и все, что душе угодно. Путешествие? Ремни, сундуки, седла и сапоги; да, кстати, о сапогах, они тоже выражают свои претензии на благодарность, предъявляя мемуар".
Было бы ошибкой сделать из всех этих цитат вывод, что "Мемуары" Бомарше – лишь остроумная самозащита, на удивление умело использующая форму комедии. Лагарп в своем "Курсе литературы" справедливо писал: "...самое поразительное – и этого я не нахожу ни у кого, кроме Бомарше, – последовательное чередование, а подчас и нераздельная смесь негодования и веселья, которые поочередно, а то и одновременно заражают читателя. Он разжигает ваш гнев и смешит вас, а это в искусстве куда труднее и реже, чем в природе".
Гениальный адвокат, Бомарше понял, что ему недостаточно защищать самого себя и отмести, высмеяв их, доводы своих недругов. Должность судьи давала Гезману одно неоспоримое преимущество: его слова не подлежали сомнению. С такого рода трудностью мы сталкиваемся и в наши дни, во многих случаях она делает гадательным вынесение справедливого приговора. Когда судьи и полицейские при исполнении своих обязанностей, они – неприкосновенны.
Сочини завтра какой-нибудь страж порядка, – что я над ним издевался или ударил его, поверят именно ему. В подобных обстоятельствах утверждение частного лица – пустой звук. Человек, упорствующий в своих обвинениях против жандарма, только отягчает собственную судьбу. Во Дворце правосудия еще сегодня всем, кто повздорил с представителями порядка, рекомендуется признать вину и раскаяться. Но Бомарше был уже не тем человеком, который 'способен покориться. Чтобы одолеть Гезмана, чтобы слово, судейского чиновника утратило свою святость, Бомарше должен был доказать, что советник – обыкновенный лгун, что он обманывал государство.
Бомарше интуитивно чувствовал, что у Гезмана, который произвел на него самое дурное впечатление, рыльце в пушку. Адвокат обратился в следователя и в этой роли оказался не менее удачлив, чем в первой, – ему удалось установить, что Гезман далеко не новичок в подделке и подлоге. От Антуана-Пьера Дюбийона и его жены Марии-Мадлены, людей небогатых, Бомарше узнал, что крестный их дочери Софи, вопреки своим обещаниям, вот уже пять месяцев не дает денег на содержание ребенка. Этим крестным отцом, нарушившим свои обязательства, оказался не кто иной, как Гезман! Бомарше, разумеется, стал копать дальше. Г-жа Дюфур, повитуха, принимавшая ребенка у г-жи Дюбийон, охотно поделилась с ним сведениями, которые он желал получить, и вскоре Бомарше смог сообщить публике, а следовательно, и суду, как злоупотребляет советник Гезман своим словом и своей подписью.
"Решив узнать, действительно ли у судебного чиновника, отказавшего в помощи этим беднякам, имелись достаточные основания им благодетельствовать, я отправился в приход Сен-Жан де Бушри и отыскал в церковной книге запись о крещении... Вы, без сомнения, будете удивлены не меньше меня, прочтя там "Луи Дюгравье, парижский мещанин, проживающий по улице Лион, приход Сен-Поль, крестный отец Марии-Софи". Возможно ли, что г-н Гезман, так кичащийся своей добродетелью, надругался над божьим храмом, религией и самым серьезным актом, на котором зиждется гражданское состояние, поставив подпись _Луи Дюгравье_ вместо _Луи Гезман_ и указав рядом с ложным именем _ложный адрес_?"
Сорвать маску с честного, неподкупного, добродетельного Гезмана отличный военный маневр, но этот способ отнюдь не по сердцу Бомарше, он счел даже нужным оправдать его необходимостью, перед которой был поставлен: "...меня самого оговорили в доносе, осыпали самой грубой бранью и возвели на меня поклеп в той же мере необоснованный, как и не имеющий отношения к факту, который послужил мотивом донрса. Я вынужден защищаться всеми средствами". Существует оружие, к которому Бомарше предпочел бы не прибегать, – и его смущение, его отвращение, как мне кажется, также должны быть засчитаны в его пользу. Чтобы судить о достоинствах человека, мало одних славных деяний, истинное мерило благородства – чувство неловкости, которое человек испытывает, совершая неблаговидный поступок.
Нередко утверждают, что эти четыре "Мемуара" (первый, дополнение к нему, добавление к дополнению, четвертый) – плод коллективных усилий "гнусной клики". Разумеется, написанные второпях – поневоле приходилось спешить – эти тексты прочитывались и перечитывались, а подчас и правились членами семьи. Бомарше нашел временный приют у своей сестры Лепин, в чьем доме царила та же культурная атмосфера, что и в мастерской на улице Сен-Дени в былые времена. У старого г-на Карона – бойкое перо, Тонтон и ее супруг Мирон неравнодушны к литературе, Лепин и Фаншон далеко не невежды, но одареннее всех – Жюли. Однако, читая ее многочисленные письма или книжечку, опубликованную ею в 1788 году, – "Рассудительное существование, или Нравственный взгляд на цену жизни", мы видим, насколько ее стиль и суждения отличаются от стиля и мысли брата. В своем вольнодумстве, как и в своей набожности, Жюли сохраняет некоторую манерность, она, как это нередко случается с литературными дамами, стремится писать красиво, округло. Так, например, она пишет Тонтон: "Я должна поскрестись в дверь твоего сердца, поухаживать за твоим умом, разбудить всех твоих лакеев – благие помыслы, подкупить твою горничную – память, чтобы поднять на ноги твоего швейцара благорасположение, и т. д.". Даже в лучшие минуты Жюли жеманничает ri косится на зеркало. Достоинство же "Мемуаров", на мой взгляд, в их естественности, свободе стиля, не страшащегося даже вульгарности. Подобно всем великим писателям, Бомарше никогда не отступает перед неблагопристойными или даже пошлыми выражениями. Только ничтожные модники пуще чумы боятся грубых оборотов и пишут, как ходят, – на цыпочках. Между тем все четыре "Мемуара", нравится это или не нравится, написаны на едином дыхании, в котором невозможно обмануться. Это ритм Бомарше – быстрый, легкий, увлекающий за собой. Ни Жюли, ни Мирон, ни старик отец не владеют этой динамичностью, гением краткости. Анализ текста показывает, что Жюли действительно частенько прикладывала к нему руку. Ломени и Помо правы, когда приводят хотя бы пассаж, где Бомарше отвечает г-же Гезман, попрекнувшей его тем, что он сын часовщика:
"Вы начинаете ваш шедевр с того, что попрекаете меня сословием моих предков: увы! Сударыня, слишком верно, что последний из них наряду с занятиями разнообразной коммерцией приобрел также довольно большую известность как искусный часовых дел мастер. Вынужденный согласиться с приговором по этой статье, с болью признаюсь, что ничто не может обелить меня от вины справедливо отмеченной вами, – я действительно сын своего отца... Но я умолкаю, ибо чувствую, что он стоит за моей спиной, читает написанное мною и, смеясь, меня целует. О вы, попрекающие меня отцом, вы даже не можете себе представить великодушие его сердца. Поистине, оставляя в стороне то, что он был часовщиком, я не вижу ни единого человека, на которого пожелал бы его сменить; и я слишком хорошо знаю цену времени, кое он научил меня измерять, чтобы терять его на опровержение подобных благоглупостей".
В этом абзаце Жюли, действительно, принадлежит часть, которой невозможно пренебречь, поскольку именно она нашла удачную фразу об отце "он стоит за моей спиной, читает написанное" и т. д. Но достаточно ли этого для вывода, что "Мемуары" писались сообща всей "веселой компанией"? Не думаю. Поправки, вымарки, приписки отнюдь не так многочисленны, как утверждают. Редкий писатель не принимает в расчет мнения близких. А у Бомарше более чем достаточно оснований прислушаться к критике "Мемуаров" на карту поставлена его жизнь. Однако семья, и в особенности Жюли, опасаясь худшего, требовали, чтобы он ограничился своим процессом, то есть советником, прекрасной Габриель и их сообщниками. Сам же Бомарше все отчаяннее ввязывался в политическую борьбу. Логика и отвага толкали эту жертву установлений тогдашнего общественного строя и привилегий, которыми социальная система наделяла избранных, к тому, чтобы осудить строй в целом, подорвать устои самой системы. Осторожность, расчет, личные интересы требовали от Бомарше покорности, смирения, но ему уже претили эти игры, он желал наконец стать самим собой." Он ведь вообще мог избежать процесса, если бы забыл, как ему намекал Марен, о злосчастных пятнадцати луидорах. Он мог снова занять свое место в первых рядах этого общества, пустив в ход интриги и талант. Все те, кто вокруг него так или иначе оказывались в конфликте с властью, предпочитали уступить. И я так настаиваю на социальном характере бунта Бомарше, на его внезапном и одиноком протесте против режима, если договаривать до конца – против абсолютной монархии, – именно потому, что такая позиция не укладывается в традиционный образ Бомарше. Но до чего же трудно ломать привычные представления! Не далее как вчера я дал прочесть написанное мною одному приятелю, чтобы проверить, достаточно ли все это убедительно. Он читал внимательно, горячо заверил меня, что само изложение фактов доказывает бесспорную порядочность, даже безупречность этого человека. А потом добавил: "Да, но все же Бомарше..." Ну а вы, читатель? Вас тоже не оставляет сомнение, то самое, что звучит на первых страницах книги Байи: "...он внушает нам тревогу, недоверие"? Тогда прочтите повнимательнее строки, написанные за несколько дней до суда. Каков человек, который не побоялся столь резко обвинить в печати своих судей перед самым вынесением приговора? "Если бы границы власти устанавливались произвольно, если бы права человека сужались или расширялись в зависимости от личных мнений, на что же тогда можно было бы твердо опереться? В таком случае суды уже не ведали бы пределов своим полномочиям, граждане – пределов своей свободе. Всем завладели бы хаос и смута, и подобная анархия была бы даже опаснее хаоса, царящего на Востоке. Если бы вместо хладнокровного рассмотрения тяжб в соответствии с законом, орудиями которого они являются, судьи, воодушевляемые не столько духом правосудия, кое обязаны вершить, сколько корпоративными интересами, стали бы попирать права граждан, то либо вся законодательная система обнаружила бы свою непригодность, либо возникла бы необходимость в создании высшего судебного органа, поставленного над самовластными судами, чтобы каждый гражданин имел право принести в этот высший орган свою справедливую жалобу".
Чтобы дать представление об атмосфере накануне суда и показать "благодушие" парламента, можно привести один ничтожный, но весьма характерный эпизод. Направляясь на допрос к прокурору, Бомарше сталкивается на галерее с главой парламента Николаи, в прошлом кавалерийским полковником, который шествует во главе эскадрона судейских. Без всяких причин и поводов Николаи, указывая пальцем на Бомарше, восклицает: "Стража, немедленно вывести этого человека, вот этого, Бомарше; он явился надерзить мне!" Наглеца хватают, но тот, растолкав гвардейцев, обращается к присутствующим со словами: "Я беру в свидетели публичного оскорбления, нанесенного мне здесь, всю нацию". "Гражданин", "нация" – не странный ли лексикон для 1773 года? Удивительнее всего, что сановному Николаи пришлось дать задний ход, поскольку "нация" – то есть свидетели столкновения – встала на защиту "гражданина" и вырвала его из рук стражей. В объяснение причины своего внезапного гнева Николаи заявил, будто Бомарше показал ему язык! Но для первого президента свято неприкосновенного парламента, вдобавок бывшего полковника, уже и то, что он снизошел до оправданий, означало отступление. Бомарше, бросая на сей раз вызов самому Николаи, немедленно пересказал эпизод, ничего не смягчая, в своем четвертом "Мемуаре", чем разъярил судей до предела.
Мы уже видели, как отозвалась публика, "нация". С декабря 1773 года по февраль 17 74-го общественный отклик на дело Бомарше принимал все более бурный характер. В кафе и даже на улицах люди открыто защищали Бомарше и, главное, нападали на парламент. Подобные манифестации возникали стихийно, их никто, разумеется, не организовывал, не мог организовывать. Но борьба одного человека против произвола внезапно превратилась в борьбу почти всеобщую. Конечно, в самого короля, которого Бомарше не затрагивал, протест пока не метил. Еще какое-то время король останется над схваткой. В 1773 году "нация" атакует только парламент, выражение воли суверена. Но эта трещина, этот сознательный протест за пятнадцать лет до революции возвещают великий переворот 1789 года. Как писал Бомарше в четвертом "Мемуаре": "Все это дело приняло слишком серьезный оборот, чтобы ограничить его частными рамками".
Вольтер, поначалу взявший сторону парламента Мопу, вскоре под воздействием "Мемуаров" изменил свое отношение. "Боюсь, – писал он, – что этот блестящий вертопрах по сути прав, вопреки всем. Какое плутовство, о небо! какие мерзости! какое низкое падение нации! и как все это неприятно для парламента!" Он уточняет свою мысль в другом письме, к д'Аламберу: "Что за человек! Ему доступно все – шутка, серьезность, логика, веселье, сила, трогательность, все роды красноречия, хотя он не стремится ни к одному из них, он повергает всех своих противников и дает уроки своим судьям. Его простодушие приводит меня в восторг, я прощаю ему неосторожные поступки и дерзости". Если верить Лагарпу, это простодушие приводило Вольтера в восторг и вместе с тем тревожило, Вольтер якобы даже спросил как-то у одного из друзей, не требовалось ли нечто большее, чтобы создать "Заиру" и "Меропу"?
Замечательно, что многие крупные писатели того времени, преодолевая взаимную зависть – в литературе дружеские отношения всегда отравлены бешеным соперничеством, – сочли необходимым приветствовать "Мемуары" и их автора. Тем, кто обвиняет Бомарше, что он не является их подлинным создателем, отвечает Руссо: "Не знаю, он ли их сочинил, но знаю, что таких "Мемуаров" для другого не пишут". Бернарден де Сен-Пьер пророчествует: "Вы, сударь, созданы чтобы сравняться в славе с Мольером". Гете организует во Франкфурте публичные чтения четвертого "Мемуара". Хорас Уолпол пишет своей приятельнице г-же Дюдеффан: "Я получил мемуары Бомарше; я уже дошел до третьего, и они меня весьма забавляют... Словом, мне ясно, что, принимая во внимание бушующие сейчас у вас политические страсти, это дело должно стать сенсационным. Я забыл Вам сказать, что ваши судебные методы повергли меня в ужас. Есть ли в мире другая страна, где эта г-жа Гезман уже не была бы сурово наказана? Ее показания чудовищно бесстыдны. Неужели у вас дозволено так лгать, умалчивать, противоречить себе, так сумасбродно чернить своих же? Что сталось с этой особой и ее негодяем мужем? Прошу Вас, ответьте".
Как справедливо сказала именно г-жа Дюдеффан, публика была "без ума от автора" "Мемуаров". В особенности женщины. Тому свидетельницей некая дама де Мортов, которая зарифмовала свое безумное увлечение:
Перо твое, о Бомарше,
Наделено волшебной силой
Дать наслаждение душе
И даже мелочь сделать милой.
Тебя узнать мечтаем мы,
Встречаться, говорить с тобою;
Ты смог завоевать умы
Сердца сдались тебе без бою.
Пусть принесет блестящий труд
Тебе заслуженную славу;
Пусть благосклонен будет суд,
Чтоб ты торжествовал по праву!
Как мы вскоре увидим, Бомарше "овладел" также сердцем другой обожательницы. Эти успехи, хотя и лестные, его не ослепляли. Жребий был брошен, но результаты оставались неясными. Все в конечном итоге зависело от исполнительной власти и ее пожеланий, от того, что мы назвали бы сейчас указаниями министерства общественного порядка. По каким-то признакам можно было строить предположения, но сами эти признаки были противоречивы. В январе правительство разрешило играть "Евгению", которая была встречена овациями. Но в феврале, накануне премьеры, был наложен запрет на "Севильского цирюльника". Легко понять колебания властей. Уступка общественному мнению означала бы, что они сдали свои позиции; осуждение Бомарше сделало бы монархию еще более непопулярной.
Опыт показывает, что исполнительная власть, поставленная перед. подобной альтернативой, избирает, как правило, некий средний путь. Но это _наш_ опыт, в XVIII же веке политическая жизнь только зарождалась; нация существовала пока лишь в книгах, она еще не осознала своей силы. Королю, его министрам, его парламенту противостояла пустота, от этого голова шла кругом как у одних, так и у других.
Наконец подошло 25 февраля, канун судебного заседания. Новости были самые дурные. Обедая в гостях, достопочтенные советники парламента не скрывали, что решение уже принято. Если им верить, Бомарше на следующий день предстояло получить самую тяжкую, если не считать смертной казни, меру наказания. Приговор, предрешенный судьями канцлера Мопу, был известен Бомарше во всех деталях. Начинался он почти ласково – "опуститься на колени, с большой желтой восковой свечой в руках, дабы принести надлежащее покаяние", затем несколько ужесточался – "приковать железным ошейником к позорному столбу, с повешенными на грудь и спину табличками со словами взяткодатель и клеветник". Засим следовал перечень изощренных пыток "сорвать одежды и с веревкой на шее бить, высечь розгами, после чего клеймить раскаленным железом", – а также подробное описание тщательно организованного зрелища для просвещенных любителей; завершалось все это чудовищным финалом – "сослать на галеры, доколе не воспоследует смерть". Конти, Гюден, последние друзья, не отступившиеся от Бомарше, и в особенности родные убеждают его бежать, пока он еще на свободе. Не посмотрят ли на это сквозь пальцы стражи, наблюдающие за ним издалека? Ведь удрав, он облагодетельствует парламент. И сохранит жизнь. Соблазн был велик. За несколько часов до позорного столба и каторги – свобода! Было бы спасено все, кроме чести. Но – если воспользоваться знаменитой формулой – в 1774 году честь еще не была обесчещена. И, как писал в связи с этим Лагарп, потеря чести могла повлечь за собой потерю жизни. Впрочем, нам хорошо известно, что Бомарше уже сделал свой выбор и другого сделать не мог. Потрясенному принцу Конти, который в последний раз предупреждал его: "Когда за вас возьмется палач, я буду уже бессилен!", он величественно ответил: "Будьте уверены, гнусная рука не замарает человека, коего вы почтили своим уважением". У Фигаро только фрак был лакейским.
Естественно, в эту ночь ему захотелось остаться одному. Все ушли. Он спокойно привел в порядок дела, потом часов в пять утра, еще затемно, отправился во Дворец правосудия.
"Один, идя пешком во мраке через мост, который ведет ко Дворцу, пораженный тишиной, и всеобщим покоем, позволявшим мне услышать плеск реки, я говорил себе, вглядываясь в туман: какая у меня, однако, необыкновенная судьба! Все мои друзья, все мои сограждане предаются сейчас отдыху, а я иду, возможно, навстречу позору и смерти. Все спит в этом большом городе, а я, возможно, никогда больше не лягу в свою постель".
В субботу, 26 февраля, палаты собрались на совместное заседание в шесть утра. Почему так рано? Наверняка потому, что парламент воображал, будто в шесть часов Париж еще будет спать. Но Париж в шесть уже был у стен Дворца. Большая молчаливая толпа, несколько оробевшая, вероятно, от величественности этого места, несколько испуганная разводом гвардейцев и, главное, еще не сознающая, еще не смеющая осознать свою силу. Шли часы. Судьи взаперти заседали. Чаши весов колебались весь день. Около полудня Бомарше передал записку принцу Монакскому, который, желая показать, чью сторону он держит, пригласил подсудимого к себе откушать и прочесть после ужина своего "Цирюльника". Странный, право, мир, где учтивость еще не выродилась в хорошие манеры, где аристократия иной раз поистине благородна, а иной раз мерзка, странный Бомарше, который, серьезен и надо всем потешается, принимая всерьез все, кроме себя самого, и о котором неблагодарная История сохранила в памяти только его курбеты. Итак, в ту субботу, 26 февраля 1774, принцу Монакскому:
"Бомарше, бесконечно признательный за честь, кою благоволит оказать ему принц Монакский, отвечает из Дворца правосудия, где он сидит на привязи с шести утра, где был уже допрошен в судебном заседании и теперь ожидает приговора, заставляющего долго себя ждать; но как бы все ни обернулось, Бомарше, окруженный в настоящий момент близкими, не может льстить себя надеждой ускользнуть от них, придется ли ему принимать соболезнования или поздравления. Он умоляет поэтому принца Монакского оказать ему милость и отложить свое любезное приглашение до другого дня. Он имеет честь заверить его в своей весьма почтительной благодарности".
Полдень, два часа пополудни, советники заседают. Просачиваются некоторые сведения – ассамблея разделилась, и ей пока не удается достичь решения большинством голосов. Кости все еще катятся по игорному столу. В два часа Бомарше знает, что шансы выиграть и проиграть равны, в два часа еще не известно, что его ждет – позорный столб, каторга или, может, наказание не столь тяжкое. Но поскольку ничто не предвещает скорого окончания дебатов, он принимает невероятное решение: встает со своей скамьи, выходит из Дворца и отправляется к Фаншон поспать. Ему позволяют выйти, не ослабляя надзора, чтобы схватить, буде это окажется необходимым. Толпа, однако, не разделяет умопомрачительного спокойствия подсудимого. Идут часы, и нетерпение толпы уступает место гневу. Париж ропщет, хлопает в ладоши, освистывает писарей, гвардейцев, мелких судебных чиновников. Из страха перед толпой советники не смеют высунуть носа из зала заседаний, даже выйти перекусить. К пяти часам темнеет. Парламент, вне сомнения, выжидает, пока парижане утомятся, пока их разгонит по домам голод и холод. Расчет ошибочный. Люди устраиваются поосновательнее, пьют, едят, не отходя от Дворца, мелкие торговцы, каким-то таинственным образом прознавшие обо всем, стекаются на площадь со своими лотками, корзинами, тележками, предлагают кто кофе с молоком, кто шоколад, кто каштаны, кто "дамскую радость", о которой Кюнстлер без капли юмора сообщает нам, что это печенье, отличающееся твердостью... Наконец – в девять вечера – двери открываются, и председатель суда оглашает приговор:
"Верховный суд на совместном заседании всех палат, в соответствии с принадлежащим ему правом вынесения окончательного решения по всем делам, уже подлежавшим ранее судебному разбирательству, приговаривает Габриель-Жюли Жамар, супругу Луи-Валантена Гезмана, к явке в судебную палату, дабы, опустившись на колени, она была предана публичному шельмованию и т. д.
Приговаривает также Пьера-Огюстена Карона де Бомарше к явке в судебную палату, дабы, опустившись на колени, он был предан публичному шельмованию и т. д.
Повелевает, чтобы четыре "Мемуара", опубликованные в 1773 и 1774 годах были разорваны и сожжены королевским палачом на площади подле лестницы Дворца правосудия как содержащие дерзостные выражения и наветы, позорящие и оскорбляющие судебную корпорацию, и т. д.
Запрещает упомянутому Карону де Бомарше выпускать в дальнейшем подобного рода мемуары под угрозой телесного наказания и т. д.".
Конец приговора потонул в реве толпы, забывшей себя от ярости. Чтобы оградить председателя суда и дать ему возможность дочитать вердикт до конца, пришлось прибегнуть к гвардии. Но все равно его никто не слушал. Только позднее стало известно об исключении из парламента Гезмана и незначительных наказаниях, к которым были приговорены Леже и Дэроль – им тоже предстояло быть публично ошельмованными, но выслушать поругание они должны были не на коленях, а стоя. Только Бакюлар и Марен, наказанные уже, впрочем, тем, что были выставлены на посмешище, оказались вне этой всеобщей раздачи премий. Уж не действовали ли они оба по указаниям Мопу?
Едва стал известен приговор, успокоенный Гюден кинулся к Фаншон разбудить Бомарше. Ведь самое худшее миновало? Бомарше никак не комментировал нелепый приговор. Но вскоре радостные клики Парижа возвестили ему, что он одержал своего рода победу над несправедливостью. Разве не пришлось советникам, которых преследовала, мяла, освистывала толпа, выбираться из Дворца через боковые двери? Если даже триумф Бомарше был только кажущимся, поражение парламента не оставляло сомнений.
Ночью "весь город отметился в его доме". Очаровательный принц Конти прибыл первым и, обняв Бомарше, сказал ему: "Я хочу, чтобы завтра вы пришли ко мне. Я принадлежу к достаточно хорошему дому, чтобы подать Франции пример, как должно себя вести по отношению к такому великому гражданину, как вы!" Следом за ним явился герцог де Шартр, и так, вплоть до позднего часа, сменяли друг друга принцы, герцоги, писатели, артисты, друзья, число которых умножилось в эту субботу, 26 февраля, словно по мановению волшебной палочки, меж тем как на улице другие победители парламента – толпа мелкого люда, сыгравшая немалую роль в развитии событий этого удивительного дня, неутомимо скандировала имя своего героя. После полуночи приехал поздравить друга и Сартин, посоветовав ему, впрочем, не обольщаться. Начальнику полиции было по опыту известно непостоянство Парижа. Он знал также, что один только Людовик XV властен вернуть Бомарше его гражданские права. Вот почему, обняв Бомарше, он шепнул ему на ухо: "Мало быть ошельмованным, нужно еще проявить скромность".
7
ГОСПОДИН ДЕ РОНАК
Дипломатический курьер!
Положение Бомарше на следующий день после процесса оказалось более чем двусмысленным. С одной стороны, он был на вершине славы – "возмущенная нация протягивала мне руки, богатые люди предлагали свой кошелек, адвокаты раскрывали двери своих кабинетов, горячие головы строчили дурные стихи в мою честь и грозные памфлеты против парламента", – с другой, он был приговорен к публичному шельмованию, что лишало его всех гражданских прав – права на имя, на брак, на завещание, на занятие государственных должностей, на заключение сделок, на постановку пьес в "Комеди Франсэз". Кроме того, ему еще предстояло явиться в суд и выслушать этот приговор, стоя на коленях. В глазах закона он был гражданским мертвецом, человеком опозоренным, в глазах людей – человеком прославленным, достойным восхищения. Много и ничего. Он был поднят на пьедестал, как памятник, но не мог с этого пьедестала спуститься из опасения быть арестованным.
Необходимо было, следовательно, возможно скорее добиться реабилитации, отмены приговора и возобновить, подав апелляционную жалобу, нескончаемый процесс с Лаблашем, который, не будем забывать, разорил Бомарше. То и другое зависело от короля, Бомарше был полностью в его руках. Сверх того, приходилось еще принять меры, чтобы избежать нелепого наказания "опуститься бок о бок с Гезманшей на колени перед Николаи и его присными", а оно должно было быть приведено в исполнение в ближайшую неделю. На мой взгляд, именно в этом одна из причин поспешного отъезда Бомарше во Фландрию два или три дня спустя после вынесения приговора. Нет сомнений, Сартин намекнул ему на необходимость уехать, когда попросил не показываться на людях, добавив: "Если король отдаст приказ, я буду вынужден ему подчиниться..." Итак, он уложил чемоданы, полагаю, без особого восторга, ведь он впервые за долгие годы был снова счастлив.
Вечером 26 февраля среди множества знатных посетителей, явившихся, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение, в дом, где он нашел приют, была прелестная барышня, которая пришла повидать знаменитого человека под невероятным предлогом: _одолжить у него арфу_! Такой детали, донесенной до нас Гюденом, присутствовавшим при свидании, не выдумаешь. Самая ее нелепость – доказательство подлинности. Звали эту девушку Мария-Тереза-Эмили Виллер Мавлаз – или Виллермавлаз – и было ей двадцать лет. Весьма сдержанная от природы, Мария-Тереза, по отцу швейцарка, была девицей примерного поведения – тут сходятся все свидетели, – но в тот вечер решилась на поступок, который смутил бы самую развязную куртизанку. С "кесако" в прическе – что само по себе уже было признанием! – она явилась одна, без всяких рекомендаций, в поздний час к мужчине, чья репутация в делах галантных не могла не быть ей известна. Не понадобилось никакой "кристаллизации" – это была любовь с первого взгляда. Бомарше, отлично разбиравшийся в женском сердце, тотчас понял, какое чувство движет посетительницей. Она, конечно, бросилась ему на шею, отдалась, но отдалась на всю жизнь. Самое удивительное, что подлинное чувство, очевидно, с самого начала преобладало здесь над чисто физическим влечением. Восхищение, взаимное уважение и нежное согласие создали между ними прочные отношения, устоявшие во всех испытаниях. Все решилось в ту же ночь, этого не может скрыть даже стыдливый Гюден. С этой минуты "сердца их слились". Известно, что Мария-Тереза стала последней "госпожой Бомарше" и родила Пьеру-Огюстену долгожданного ребенка, однако он очень не скоро узаконил этот брак по причинам, в которых мы еще попробуем разобраться. Обвенчался он с Марией-Терезой только через двенадцать лет после знакомства и через девять после рождения Евгении. Тем не менее с первого вечера он видел в ней законную супругу; повторяю, к этому мы еще вернемся. Пока же следует задать только один вопрос: не была ли и Мария-Тереза одной из причин, побудивших Бомарше уехать во Фландрию? Последовала ли она за ним? Нет никаких доказательств, но мне кажется, что да, – и почему бы вам не разделить мое интуитивное предположение? Мария-Тереза была связана с фламандским краем через свою мать, она и родилась в Лилле. Неужели вы считаете, что любовники могли расстаться через несколько часов после знакомства? Или что Мария-Тереза вдруг проявила рассудительность и отказалась от своей безумной любви? Была ли у них хоть капля надежды встретиться вновь, если они сейчас расстанутся? Если уж молодая девушка первой стучится в дверь незнакомого мужчины, чтобы позаимствовать у него арфу, которую тот отказывается одолжить (гласит Гюден), значит, она приняла решение играть с ним вместе на одном инструменте, в счастье и несчастье.