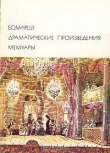Текст книги "Бомарше"
Автор книги: Ф Грандель
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
Не вызывает ли у Вас, друг мой, восхищения та свобода, с которой я отдаюсь потоку моих мыслей? Я не даю себе труда ни отсеивать их, ни обрабатывать; это меня утомило бы, а я пишу Вам только для того, чтобы отвлечься от своих страданий, на самом деле куда более мучительных, чем способно вынести порой мое мужество. И все же я не так уж достоин жалости, как Вам может показаться; я жив – меж тем как должен был быть мертв: вот могучий противовес боли, как она ни мучительна. Будь я совершенно уверен, что тому, у кого смерть отнимает счастье чувствовать, остается хотя бы счастье мыслить, признаюсь, я предпочел бы лучше умереть, чем страдать, как сейчас, до такой степени я ненавижу боль. Но как представишь себе, что смерть может отнять все, нет, право же, невозможно принять ее добровольно. Лучше уж жить, страдая, чем избавиться от страданий, перестав существовать.
Когда накануне рокового судилища в Париже у меня тряслись руки в ожидании самых чудовищных кар, я видел вещи в ином свете. Я предпочитал тогда лучше утратить самое жизнь, чем смириться с тем, что мне угрожало, и мое спокойствие зиждилось только на уверенности, что в моей власти со всем покончить, пронзив ту самую грудь, которую я сегодня с такой радостью уберег ценой моего ларчика для бумаг, левой руки и подбородка. Подводя итог, я заключаю, что для отдельного человека нет зла, мучительней физической боли, но для человека, живущего в обществе, есть нечто еще более невыносимое – это нравственные страдания.
Помните, когда Вы приходили утешать меня в прекрасный замок, куда более прекрасный, чем замки вестфальских баронов, поскольку у него были тройные ворота и решетки на окнах, я говорил Вам: "Друг мой, ведь если б меня схватила за ногу подагра, я безропотно сидел бы в комнате, прикованный к креслу. Приказ министра по меньшей мере стоит подагры, и разве признание фатальной неизбежности – не первое утешение во всех невзгодах?" Сейчас я говорю себе: доведись мне страдать от мучительного флюса, когда опухоль требует вмешательства скальпеля, – мог бы ведь после продолжительных болей настать черед и для него – не исключено, что мне рассекли бы щеку и подбородок и я оказался бы в моем нынешнем положении, меж тем как теперь я хотя бы избежал долгих предшествующих мук: значит, существуют страдания горшие, чем оказаться недобитым. Конечно, левая рука у меня сильно болит; я страдаю, но спокоен; тогда как разбойник не убил меня и не взял ни флорина с моего трупа, а поясница, думаю, у него чертовски крепко задета, челюсть сломана, и вдобавок его разыскивают, чтобы колесовать. Значит, лучше уж быть жертвой вора, чем вором. И к тому же, друг мой, разве Вы ни во что не ставите (но это я шепчу Вам на ухо), разве Вы ни во что не ставите тайную радость от сознания хорошо выполненного долга, удовлетворения человека, понаторевшего в борьбе со злом и пожинающего плоды трудов всей своей жизни, убедясь на опыте, что он избрал недурной принцип, положив в основу своей жизненной позиции необходимость упражнять свои собственные силы, вместо того чтобы применяться к событиям, которые могут сложиться по-всякому, так что предвидеть их заранее невозможно? Действительно, если оставить в стороне брошенный нож, в чем усмотрели мою оплошность, я, как мне кажется, в этих чрезвычайных обстоятельствах применил на деле теорию силы и спокойствия, выкованную мною для себя на протяжении жизни, дабы устоять в злосчастиях, кои не в моей власти было предупредить. Если в этой мысли и есть известная гордость, клянусь Вам, друг мой, она чиста от всякого чванства и глупого тщеславия, я сейчас выше этого.
Допустим наихудшее. В самом крайнем случае я умру от удушья, может образоваться отек в желудке, отшибленном в драке. Но что я – ненасытен? _Может ли жизненный путь быть полнее, чем мой, как в дурном, так и в хорошем? Если время измеряется событиями, его наполняющими, я прожил двести лет. Нет, я не устал от жизни; но я могу предоставить другим наслаждаться ею, не испытывая отчаяния. Я страстно любил женщин; чувственность была для меня источником самых больших услад. Вынужденный жить среди мужчин, я вынес многочисленные беды. Но если бы меня спросили, чего было больше – хорошего или дурного, я без колебаний ответил бы, что первого; конечно, сейчас не самое лучшее время, чтобы задавать вопрос, что перевешивало, – и все же я отвечаю без всяких колебаний_.
Я пристально присматривался к себе на всем протяжении драматического происшествия в Нейштадтском или Эрштадтском лесу. Когда появился первый разбойник, я почувствовал, что сердце мое сильно забилось. Как только я отгородился от него первой елью, мною овладела какая-то радость, даже ликование, при виде замешательства, изобразившегося на лице грабителя. Обогнув вторую ель и видя, что почти уже выбрался на дорогу, я ощутил в себе такую дерзость, что, будь у меня третья рука, я выхватил бы ею свой кошелек и показал ему как награду за его отвагу, буде он только окажется достаточно смел, чтобы подойти за нею. Видя, как подбегает второй бандит, я ощутил внезапный холод, собравший в кулак все мои силы, и, полагаю, в этот краткий миг успел передумать больше, нежели обычно случается людям за полчаса. Все, что я перечувствовал, предусмотрел, охватил, выполнил за четверть минуты, невообразимо. В самом деле, у людей превратное представление о своих природных способностях, а может, в решающие минуты пробуждаются способности сверхъестественные. Но в миг, когда я прицелился в первого грабителя и мой несчастный пистолет дал осечку, ах! сердце мое словно сжалось в крохотный комочек, оно уже предчувствовало удар, который получит: полагаю, это движение справедливо можно назвать ужасом, но то был единственный момент, когда я его ощутил; ибо после того как сбитый с ног, раненный, ускользнувший от бандита, я понял, что жив, сердце мое загорелось небывалым огнем, мощью, отвагой. Клянусь богом, я узрел себя победителем, и все, что я делал с этой минуты, было порождено яростным восторгом, настолько застилавшим от меня опасность, что ее как бы и вовсе не существовало. Я почти не почувствовал, что рассек себе руку: я озверел, я жаждал крови больше, чем мой противник денег. Я упивался тем, что сейчас убью негодяя. Только бегство его товарища и могло спасти ему жизнь: едва опасность уменьшилась, я тотчас пришел в себя; ощутил всю омерзительность поступка, который уже готов был совершить, как только увидел, что могу сделать это безнаказанно. Когда я сейчас думаю о том, что вторым моим побуждением было хотя бы нанести ему рану, я заключаю, что хладнокровие еще не вполне вернулось ко мне; ибо эта вторая мысль кажется мне в тысячу раз более жестокой, чем первая. Но, друг мой, в моих глазах навсегда останется славным наитие, побудившее меня с благородной отвагой отказаться от трусливого намерения убить беззащитного человека и принять, решение сделать из него своего пленника; и если сейчас я несколько кичусь этим, в тот миг я гордился в тысячу раз больше. И нож я отбросил именно от этого внезапного ощущения счастья – сознавать себя настолько выше личного злопамятства, ибо я бесконечно сожалел о том, что ранил этого человека в поясницу, разрезая его пояс, хотя и сделал это нечаянно, исключительно по неловкости. Отчасти, пожалуй, я и гордился той честью, которая будет воздана мне в Нюрнберге, когда я, тяжело раненный, передам правосудию связанного злоумышленника. Нет, это не самая благородная сторона моего поведения; нужно ценить по справедливости – в тот миг я большего не стоил. И я убежден – именно ярость от сознания, что от меня ускользает этот вздорный триумф, заставила меня грубо сломать челюсть бедняге, когда его товарищи прибежали, чтобы вырвать несчастного из моих рук; ибо этот поступок не укладывается в рамки здравого смысла: он продиктован детской досадой, игрой самого жалкого тщеславия. После этого я остыл и действовал уже почти бессознательно.
Вот, друг мой, полное признание, самое откровенное, какое я могу сделать. Я исповедуюсь Вам, дорогой мой Гюден: отпустите мне грехи.
Вы знаете, друг мой, скольких людей придется Вам утешать, если дело обернется дурно: прежде всего самого себя – Вы ведь потеряете человека, который Вас любит; затем – женщин; что до мужчин, то, если не считать моего отца, у них, как правило, хватает сил устоять при подобных потерях.
Но послушайте, друг мой, буде я выздоровею, прошу Вас, не сжигайте это письмо, верните его мне: подобное покаяние не оставляют в чужих руках; понимаете, если меня опять стошнит, как сегодня утром, и я выблюю свернувшуюся кровь, которая меня душит, потому что желудок не может ее переварить, то, избавившись от этой чудовищной пищи, я непременно встану на ноги.
Прощайте; я устал писать и даже мыслить, попробую бездумно прозябать, коли мне это удастся; это полезней для ран, чем писать, даже если почти вовсе не следишь за своим пером. Знайте, однако, друг мой, что сейчас меня занимает только одно – как бы поскорее выздороветь. Все задачи моего путешествия исполнены к совершенному моему удовлетворению. Не отвечайте мне, так как я собираюсь, насколько это возможно, двигаться без остановок. Да будет мне дано еще раз радостно расцеловать Вас!
16-го вечером.
Мой добрый друг, пока не встретилась почта и не иссякла бумага, письмо не окончено. Я поспал, и мне приснилось, что меня убивают. Проснулся от жесточайшего приступа. Но до чего приятно отхаркнуть в Дунай огромные, длиннющие сгустки крови. Как утишился горячий пот, заливший мое ледяное лицо! Как свободно я дышу! Вынужденный отереть глаза, из которых потуги выжали слезы, как ясно я вижу все вокруг! Даже скалистые горы по обе стороны реки покрыты виноградниками. Все, что перед моими глазами, – чудо культуры. Склоны здесь столь отвесны, что пришлось высечь на них ступени и огородить каждую террасу невысокой стеной, дабы предотвратить осыпи. Так трудится человек, который будет пить вино; но если бы Вы видели, как цепляется за почти обнаженные утесы, старательно высасывая из них каменистые и купоросные соки, виноград, которому ведь ничего пить не предстоит, Вы повторили бы вслед за мной: тут каждый делает все, что в его силах. В этом месте теснина так узка, что река словно закипает; это напоминает мне – только в миниатюре – наш с Вами переход из Булони в Дувр, когда мы оба тяжко болели. Но тогда я все же был не так болен, как сегодня, хотя и страдал больше: я, однако" полон надежды. Все эти рвоты очищают нутро, а смена острых болей чувством совершенного блаженства, право, не самое худшее, чего следует опасаться воскрешенному, тут еще разумно считать, что добро восполняет зло: впрочем, облегчение уже близко. Еще двадцать пять немецких лье, иначе говоря, тридцать французских, и я окажусь в хорошей постели в Вене, где проживу по-барски не меньше недели, прежде чем пуститься в обратный путь. Поскольку меня там ждут доктора, возможно, ждут и кровопускания – это ведь первый принцип их науки.
Чувствуется, что мы приближаемся к большой столице: обработанные земли, суда на реке, храмы, укрепления – все возвещает, что она недалека. Количество людей множится на глазах; они будут все больше тесниться и наконец скопятся в конечной точке моего путешествия: в конечной точке моего удаления, хочу я сказать; ибо мне предстоит проделать не меньше четырехсот лье, чтобы вернуться домой и обнять дорогих друзей, с коими, надеюсь, Вы поделитесь новостями, сообщенными мною. Я не могу писать всем одновременно и потому буду посылать письма то одному, то другому; хорошо бы собрать все их в Ваших руках, не рассказывать же заново каждому то, что уже рассказал другим. Пока моя голова разрывалась от забот, мне чертовски трудно было найти минуту для письма; но теперь, когда все кончено, я снова становлюсь самим собой и охотно болтаю.
До свиданья, любезный друг: опять тошнота подступает к сердцу, тем лучше, пусть меня вырвет. Если бы не эта гадкая тяжесть, я был бы просто раненым, тогда как теперь я болен. Больше никак не могу писать.
От 20-го, в полдень.
Вот я и в Вене. Очень страдаю, но не столько от удушья, сколько от острой боли: думаю, это добрый знак. Сейчас лягу; давненько мне не доводилось этого делать".
Если г-н де Ронак полагает, что с приключениями покончено, он глубоко ошибается. Впрочем, приключенческий роман и без элементов плутовского, как считают некоторые, – причем в роли пикаро, плута, выступает, разумеется, сам Бомарше – переходит в роман, именуемый, хочешь не хочешь, историческим. И если уж я употребил слово "роман", то венскому эпизоду нужно было бы посвятить в нем, по меньшей мере, страниц триста. Завязка – письмо, которое Бомарше передает императрице Марии-Терезии, испрашивая у нее аудиенцию. Императрица в сомнении: кто такой этот г-н де Ронак? Ее секретарь, барон де Нени, видевший француза, ничего не понял в его приключениях, но нашел, что "вид у него достойный". Все более и более недоумевая, Мария-Терезия просит графа де Сейлерн, бывшего посла, ныне министра Нижней Австрии и главу правящего совета, встретиться с таинственным иностранцем. Ронак показывает Сейлерну приказ Людовика XVI и вручает ему документ для передачи императрице. 22 августа вечером он принят в Шенбрунне. Бомарше сделал королю подробный отчет о своей "исторической беседе" с императрицей и обо всех неприятностях, за сим последовавших. Это его версия событий, датирована она 15 октября. К тому времени Людовик XVI располагал уже исчерпывающими сведениями и мог судить о происшедшем со знанием дела. Можно ли считать Бомарше настолько глупым, чтобы предположить, что в подобных обстоятельствах он лгал? Впрочем, как мы увидим, Людовик XVI счел, что г-н де Ронак выполнил свою задачу блестяще. Итак, вот версия Бомарше, которой, как правило, предпочитают версию австрийцев. На сцене императрица Мария-Терезия, теща французского короля, и г-н де Ронак, он же Бомарше:
" – Сударыня, – сказал я ей, – речь идет не столько об интересах государственных в точном смысле слова, сколько о попытках разрушить счастье королевы, смутив покой короля, предпринимаемых во Франции темными интриганами. – Тут я поведал ей во всех подробностях свою миссию. При каждом повороте событий императрица, всплескивая руками от удивления, повторяла: "Но, сударь, откуда у вас такое пылкое рвение в защите интересов моего зятя и в особенности моей дочери?"
– Сударыня, в конце прошлого царствования я был одним из самых несчастных людей во Франции. В это страшное время королева удостоила высказать некоторое участие ко мне, обвиненному во всяческих ужасах. Служа ей сегодня и нисколько даже не рассчитывая на то, что она когда-нибудь будет о сем осведомлена, я лишь возмещаю свой неоплатный долг; чем труднее мое предприятие, тем горячей жажду я его успеха. Королева однажды соблаговолила высказать вслух, что я защищаюсь слишком мужественно и умно для человека действительно виновного в тех преступлениях, кои мне вменяют; что же сказала бы она сегодня, сударыня, если б увидела, что в деле, затрагивающем равно ее и короля, мне не хватает того мужества, которое ее поразило, той ловкости, которую она назвала умом. Она заключила бы из этого, что мне недостает рвения. Ему, сказала бы она, хватило недели, чтобы уничтожить пасквиль, оскорблявший покойного короля и его любовницу, в то время как французские и английские министры на протяжении полутора лет тщетно пытались воспрепятствовать его изданию. А сейчас, когда на него возложено подобное же поручение, касающееся нас, тому же человеку не удается его выполнить; либо он изменник, либо дурак, и в обоих случаях он равно не заслуживает доверия, коим удостоен. Вот, сударыня, высшие мотивы, заставившие меня бросить вызов всем опасностям, пренебречь всеми страданиями и преодолеть все препятствия.
– Но, сударь, какая была вам необходимость менять имя?
– Сударыня, к сожалению, меня слишком хорошо знает под моим собственным именем вся просвещенная Европа, записки, кои напечатал я в свою защиту при последнем деле, настолько воспламенили умы в мою пользу, что повсюду, где я появляюсь под именем Бомарше, я возбуждаю такой дружеский, или сочувственный, или хотя бы просто любопытствующий интерес к себе, что у меня нет отбоя от визитов, приглашений, меня окружают со всех сторон, и я лишаюсь свободы действовать втайне, необходимой при таком деликатном поручении. Вот почему я умолил короля дозволить мне путешествовать под именем де Ронака, на кое мне и выдан был паспорт.
Мне показалось, что императрица горит любопытством прочесть произведение, уничтожение которого стоило мне таких трудов. Она принялась за чтение тотчас после нашего разговора. Ее величество благоволила войти со мной в обсуждение самых интимных подробностей, связанных с этим делом; она благоволила также выслушать мои пространные объяснения. Я оставался с ней более трех с половиной часов и несколько раз умолял ее самым настоятельным образом, не теряя времени, послать кого-либо в Нюрнберг.
– Но осмелится ли этот человек там показаться, зная, что вы сами туда направлялись? – сказала мне императрица.
– Сударыня, чтобы побудить его отправиться именно туда, я обманул его, сказав, что немедленно поворачиваю обратно и возвращаюсь во Францию. Впрочем, может, он там, а может, и нет. В первом случае, препроводив его во Францию, ваше величество окажет существенную услугу королеве, во втором его розыски, на Худой конец, окажутся безрезультатными, как и операция, которую я умоляю ваше величество провести тайно, приказав обыскивать в течение некоторого времени все нюрнбергские печатни, чтобы удостовериться, нет ли там этой мерзости; в других местах я уже принял меры предосторожности, и за Англию и Голландию отвечаю.
Императрица простерла свою доброту до того, что поблагодарила меня за пылкое и разумное усердие, высказанное мною; она попросила меня оставить ей эту книжонку до завтрашнего дня, дав мне свое святое слово, что вернет ее через г-на де Сейлерна.
– Ступайте, лягте в постель, – сказала она мне с неизъяснимым благорасположением, – и пусть вам скорее пустят кровь. Не должно забывать ни здесь, ни во Франции, какое рвение вы выказали при сем случае, дабы услужить вашим государям.
Я вхожу, сир, в эти подробности для того лишь, чтобы дать лучше почувствовать, насколько ее обращение со мной отличалось от всего дальнейшего. Я возвращаюсь в Вену, все еще разгоряченный этой беседой; набрасываю на бумагу уйму соображений, представляющихся мне весьма существенными для предмета, который я трактую; адресую их императрице; г-н граф де Сейлерн берет на себя их передать. Однако мою книжицу мне не возвращают, и в тот же день, в девять вечера, в мою комнату входят восемь гренадеров с примкнутыми штыками, два офицера с обнаженными шпагами и секретарь правящего совета с запиской графа де Сейлерна, где тот предлагает мне не сопротивляться аресту, оставляя за собой, как он говорит, устное объяснение причин подобной меры, кою я, без сомнения, одобрю.
– Не вздумайте сопротивляться, – сказал мне человек, предъявивший приказ.
– Сударь, – ответил я холодно, – я иногда оказываю сопротивление грабителям, но императорам – никогда.
Меня заставляют опечатать все бумаги. Я прошу разрешения написать императрице, мне в этом отказывают. У меня отбирают все мои вещи, нож, ножницы, даже парик и оставляют со мной всю эту охрану, здесь же, прямо в моей комнате, где она и пребывает тридцать один день или сорок четыре тысячи шестьсот сорок минут, ибо если для людей счастливых часы бегут быстро и один час незаметно сменяет другой, несчастные дробят время своих страданий на минуты и секунды и находят, что каждая из них в отдельности весьма длинна. Все это время, спал я или бодрствовал, один из гренадеров, вооруженный ружьем с примкнутым штыком, не отрывал от меня глаз,
Посудите сами, каково было мое изумление, моя ярость! Подумайте о моем здоровье в эти ужасные часы, все это было невыносимо. Лицо, меня арестовавшее, явилось на следующий день, дабы меня успокоить.
– Сударь, – сказал я этому человеку, – для меня не может быть никакого покоя, доколе я не напишу императрице. То, что со мной происходит, невероятно. Прикажите дать мне перья и бумагу или будьте готовы заковать меня в ближайшее время в цепи, потому что тут есть от чего сойти с ума.
Наконец мне разрешили написать; у г-на Сартина есть все мои письма, они были ему пересланы; пусть их перечитают, по ним видно, какое огорчение меня убивало. Ничто, касавшееся до меня лично, меня не трогало; я отчаивался только из-за той ужасной ошибки, которую совершали в Вене, задерживая меня под арестом в ущерб интересам Вашего Величества. Пусть меня бросят в мою карету связанным, – говорил я, – и отвезут во Францию. Я глух к голосу самолюбия, когда так настойчиво заявляет о себе долг. Либо я г-н де Бомарше, либо я злоумышленник, присвоивший его имя и поручение. Но в том и другом случае задерживать меня на целый месяц в Вене – политика неразумная. Если я мошенник, то отправка меня во Францию только ускорит мое наказание; но если я Бомарше, в чем невозможно усомниться после всего происшедшего, то, даже получивши плату за нанесение ущерба интересам короля, моего государя, невозможно было бы содеять ничего худшего, чем держать меня в Вене, меж тем как я так нужен в другом месте.
Никакого ответа. В течение целой недели я жду в смертельной тоске. Наконец присылают, чтобы допросить меня, советника правящего совета.
– Я протестую, сударь, – говорю я ему, – против насилия, которому меня здесь подвергают, попирая все человеческие права: я прибыл, чтобы воззвать к материнскому участию, и оказался под бременем императорского самовластия!
Он предлагает мне изложить на бумаге все, что я захочу, обещая передать ее. Я доказываю в моем письме, что, вынуждая меня сидеть сложа руки в Вене, наносят ущерб интересам короля. Я пишу г-ну де Сартину; умоляю хотя бы спешно отправить к нему нарочного. Возобновляю свои настояния касательно Нюрнберга. Никакого ответа. Меня оставляют на целый месяц под замком, не удостаивая даже успокоить относительно чего бы то ни бьшо. Тогда, собрав всю свою философию и уступая року столь злосчастной звезды, я наконец начинаю заниматься своим здоровьем. Мне пускают кровь, дают лекарства, очистительное. При аресте ко мне отнеслись как к лицу подозрительному, буйному, отняв у меня бритву, ножи, ножницы и т. д., как к дураку, отказав мне в перьях, чернилах – и вот среди всех этих обрушившихся на меня бед, тревог и несообразностей я ждал письма г-на де Сартина.
Вручая мне его на тридцать первый день моего заключения, мне сказали:
– Вы вольны, сударь, остаться или уехать, в соответствии с вашим желанием и состоянием вашего здоровья.
– Даже если бы мне предстояло умереть в пути, я не остался бы в Вене и четверти часа.
Мне предложили тысячу дукатов от лица императрицы. Я отверг их без всякой гордыни, но с твердостью.
– – У вас нет других денег, чтобы уехать, – сказали мне, – все ваше имущество во Франции.
– В таком случае я выдам вексель на то, что вынужден взять в долг на дорогу.
– Сударь, императрица не ссужает в долг.
– А я не принимаю благодеяний ни от кого, кроме моего повелителя, он достаточно великий государь, чтобы отблагодарить меня, если я хорошо служил ему; но я не возьму ничего, в особенности денег, от иноземной державы, где ко мне отнеслись так гнусно.
– Сударь, императрица сочтет, что вы позволяете себе слишком большую вольность, осмеливаясь отказать ей.
– Сударь, единственная вольность, в которой нельзя отказать человеку, преисполненному почтения, но в то же время глубоко оскорбленному, – это свобода отвергнуть благодеяние. Впрочем, король, мой повелитель, решит, был ли я прав или нет, избрав такое поведение, однако до его решения я не могу и не хочу вести себя по-иному.
В тот же вечер я выезжаю из Вены и, не останавливаясь на отдых ни днем, ни ночью, прибываю в Париж на девятый день моего путешествия, надеясь тут найти объяснение приключению столь невероятному, как мой арест в Вене. Единственное, что сказал мне по этому поводу г-н де Сартин, – это что императрица якобы приняла меня за авантюриста; но ведь я показал ей приказ, написанный рукой Вашего Величества, я посвятил ее во все подробности, которые, на мой взгляд, не должны были оставить ни тени сомнения на мой счет. Все эти соображения позволяют мне надеяться, что Ваше Величество благоволит не осудить меня за то, что я по-прежнему отказываюсь принять деньги от императрицы, и позволит мне отослать оные в Вену. Я мог бы рассматривать как лестное возмещение за ошибку, жертвой которой я стал, либо благосклонное письмо императрицы, либо ее портрет, либо какой-нибудь знак уважения, который я мог бы противопоставить наветам, доносящимся до меня со всех сторон, будто я был арестован в Вене как подозрительная личность; но деньги, Сир, для меня предел унижения, и я не считаю, что заслужил такой позор в оплату за труды, усердие и отвагу, с которыми я постарался возможно лучше выполнить каверзнейшее поручение".
Но что же произошло в Шенбрунне?
Прежде всего, императрица усомнилась – действительно ли этот Ронак Бомарше? У нее не было никакой уверенности. Странный субъект с рассеченным лицом, который в жару и волнении вечер напролет держал перед нею речи, вполне мог оказаться обманщиком, а то и убийцей пресловутого Бомарше. Таково было, очевидно, первое впечатление Марии-Терезии. Во всяком случае, дело заслуживало проверки; она поручила это Кауницу, своему канцлеру. Тот приступил к расследованию незамедлительно и вскоре вынес свое суждение: Ронак действительно Бомарше, иначе говоря, плут. Он доложил об этом императрице, уточнив, что, по его мнению. Бомарше сочинил не только историю нападения на него, но и само "Предуведомление". Тяжкое обвинение, не опиравшееся ни на какие доказательства, кроме дурного впечатления, произведенного путешественником, а также показаний кучера Драца, хозяина гостиницы Грюбера и чиновника магистрата Фецера. Было, однако, решено на всякий случай взять под арест эту сомнительную личность и уведомить о том Версаль. Тем временем, обезумев от ярости, Бомарше засыпал посланиями всех австрийцев, которых знал по имени. Чтобы его утихомирить, к нему направили некоего Зонненфельса, полуписателя, получиновника, и тот, держа его под надзором, в то же время попытался несколько скрасить жизнь узника. Из своей камеры, достаточно, впрочем, комфортабельной, г-н де Ронак направил Марии-Терезии пространное письмо, где предложил ей ни больше ни меньше, как опубликовать очищенное издание пасквиля, "дабы предупредить наихудшие беды" и оградить чувствительность Людовика XVI. Этот документ – не спорю, удивительный – вовсе, однако, не доказывает, что Бомарше был автором "Предуведомления", даже напротив. Он свидетельствует лишь об его растерянности. Впрочем, как мы видели по его докладу Людовику XVI, Бомарше сообщает своему государю, не входя, правда, в детали, об этом странном послании.
Бомарше автор "Предуведомления"? Утверждение канцлера Кауница продолжительное время разделялось – клевета, клевета! – многими авторами. Правда, и само существование Анжелуччи долго представлялось проблематичным, поскольку никто не находил никаких его следов, пока Лентилак не напал в один прекрасный день на два письма Бомарше, адресованные некой Фабии. Одно из них, датированное 12 августа и, следовательно, предшествующее "событиям", со всей очевидностью устанавливало реальность Гийрма Анжелуччи. И в самом деле, Бомарше писал: "Сделайте мне удовольствие и передайте другу (Рудиль пресловутый Р.? – Ф. Г.), который вручит Вам мое письмо, что, буде ему предъявят мой, переводной вексель на сумму в 100 луидоров, выданный на имя некоего Гий. Анжелуччи, пусть он его не принимает: я хотя вексель и выдал, ничего не должен этому мошеннику, поскольку он нарушил все обязательства, под кои его у меня выманил..." Нельзя отказаться выплатить по переводному векселю, выданному на имя несуществующего человека! После всего вышесказанного мы вольны задаться! еще вопросом о том, кто такая эта Фабия? Действительно ли она Фабия? Или это псевдоним, за которым скрывается, к примеру, Мария-Тереза Виллермавлаз? Бомарше любил играть именами и редко мог устоять перед соблазном шифра. Как указывает Мортон, одно из его писем Сартину в июне 1774 года начиналось следующим образом: "Вы приказали мне, сударыня, и т. д.". Что касается стиля и содержания пресловутого "Предуведомления", в основной своей части опубликованного в 1868 году Альфредом фон Арнетом, то их анализ подтверждает, что автором памфлета был не Бомарше. Этот пасквиль, столь же злобный, сколь бездарный по форме, содержал в себе вещи, оскорбительные для людей, которых Бомарше любил. Например, его "сообщник" Сартин открыто обвинялся там в злоупотреблении казенными средствами! В сущности, и на этот раз клевета ни на что не опиралась. Впрочем, если бы существовала малейшая возможность доказать авторство Бомарше, его враги наверняка ее не упустили бы. Как справедливо пишет Рене Помо: "Сколько дал бы граф де Лаблаш человеку, доказавшему, что Бомарше автор "Предуведомления испанской ветви"?" Зачинщиком всех этих интриг, очевидно, метивших также и в Сартина, был, возможно, герцог Эгийон. Бомарше, впрочем, учуял его махинации. Он вскоре написал о своих предположениях новому морскому министру: "Бесспорно одно – огонь раздувает какое-то высокопоставленное лицо, ибо я никогда еще не сталкивался с таким ожесточением. Не попахивает ли здесь д'Эгийрном? Это похоже на его манеру. Вам не хватало только одного – быть оклеветанным; теперь Вам нечего больше желать: это произошло..."
Получив сообщение Кауница, австрийский посол в Версале, грозный граф де Мерси-Аржанто, отправился к Сартину, который оказался на высоте и защитил своего агента, точнее, агента Людовика XVI. Мерси пришлось сдаться и доложить об этом Кауницу, а тому не оставалось иного выхода, как освободить узника. "Мне кажется, – написал он послу, – что, кроме нравственной распущенности г-на де Сартина, здесь, возможно, играет также роль его личная заинтересованность в том, чтобы избежать упреков, которые можно ему сделать за то, что он предложил королю для выполнения столь деликатного поручения такого подданного, как г-н де Бомарше". Заметьте при этом, что, несмотря на явное раздражение, канцлер говорит уже не об обмане, но о весьма "деликатном поручении". Кауница можно извинить в той мере, в какой он рассуждал, руководствуясь сведениями, поставляемыми Мерси – скорее шпионом, чем дипломатом, – имевшим в Версале своих агентов повсюду, вплоть до спальни Марии-Антуанетты. Послу, который ненавидел Бомарше, пришлось впоследствии пережить неприятные минуты, вручая этому последнему бриллиант самой чистой воды, присланный императрицей; Мария-Терезия нашла красивый способ предать забвению свое венское гостеприимство. В "Секретных записках Башомона" писалось в ту пору: "Господин Бомарше носит на пальце бриллиант поразительной красоты, который, естественно, был бы уместнее на руке суверена. Во извинение этой дерзости он утверждает, что бриллиант был подарен ему императрицей, когда он был послан к ней с поручением; он отверг, по его словам, какое бы то ни было денежное вознаграждение, и Ее Величество отблагодарила его этим прекрасным подарком".