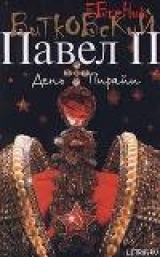
Текст книги "День пирайи (Павел II, Том 2)"
Автор книги: Евгений Витковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
Не дотопал.
Почти возле самого дома нагнал его «москвич» – и снова потребовал документы. Собственно, даже вообще ничего не потребовал, а просто проглотил Всеволода. Ночью в самом центре Свердловска, ударом шила в глаз, был убит некий старшина милиции. Милиция располагала точными сведениями, что этого старшину убил он, Глущенко В.В. И теперь Глущенко В.В. ничто, кроме вышки, не светило: дело ясное, если троих избил, одного убил, да еще в разных концах города. Адвоката отцу пришлось найти хорошего, так что дали только тринадцать. Особого, учитывая молодость и чистосердечное; адвокат убедил, что без такового ку-ку, оказалось – не лажа, аж прокурор погрустнел. Потом отец отрекся – и все кончилось, ни передач, по-лагерному – бердан, ни, естественно, писем.
А затем была еще столько-то времени незабвенная свердловская следственная тюрьма, та, что посеред города, затем еще какие-то пересылки, жуткий лагерь под Иркутском, из которого, к счастью, очень быстро перевели в Тувлаг, – там числилось еще хуже, но оказалось намного легче: красивая там была природа, милостей от нее, понятно, ждать не приходилось, но она как-то уравнивала зеков с теми, кто их вохрил. Всеволод, поистериковав первые месяцы, к своему никем не празднованному двадцатилетию стал совершенно каменным, ледяным, железным никому нет дела до меня, ну, так мне нет дела до всех. Я выйду. Я со всех получу. Мне и тридцати трех не будет, когда выйду! Рано зарыли! Рано! Вся до-срочная жизнь была вспомнена и перевспомнена еженощно. Ничего не мог забыть Всеволод Глущенко – ни плохого, ни хорошего. Только вот из хорошего… что-то один Гайдар вспоминался. На отрекшегося отца сын зла не таил, понимал, что такое папаня. Не таил зла на Софью уж и подавно, жалел ее даже, как-то она там, без хлористого кальция. Почти с первых дней отсидки Всеволод никому не заикался, что сидит за чужое, то есть «проходит», зачем говорить, толку никакого, а авторитет пойдет на фиг. «Бугор» по кликухе «Шило», севший за пришитого мента на срок почти под завязку, решительно ничего не боялся: спробовали сделать ему темную, а он возьми да измордуй всех семерых, восемь ребер им да поломай! Стали уважать. Это в двадцать три! Двадцать пять!.. Тем более, что феню какую-то неизвестную знает, с нее лепила в лагере чуть не в обморок кидается – «леталис» там, «церебралис», «пенис». Всеволод влился в одну мысль и в одно стремление, прочее все отмел, а просто тихо и без трепыханий ждал звонка.
Среди порабощенных Всеволодом лагерных мужиков оказался туберкулезный латыш, радиомеханик, способный собрать коротковолновый приемник чуть ли не из трех напильников. Всеволод распорядился соорудить для себя настоящее радио, чтобы Запад слушать, и выделил латышу на первые расходы три пятикилограммовых посылки, чужих, конечно, но он каптеру шило показал. Латыш, кашляя и отхаркиваясь, дал ему послушать «Свободу», «Немецкую волну», «Голос Америки», «Кол Исроэл». После этого лагерный лепила ходил за доходягой латышом двадцать пять часов на дню и шкурой отвечал за его здоровье, потому как Всеволод шепнул ему что-то непонятное насчет «орно» и «леталис» и даже шила не показал. Глушилки до Большой Тувты не доставали, так что ежедневно, слопав спартанский ужин, садился Всеволод в углу барака к дикому сооружению, которое латыш обмахивал ветошью, надевал наушники и слушал все, на что мощности хватало, даже Албанию, если на других станциях очень уж скучно было. Об ужине, кстати: он у Всеволода был и впрямь спартанский, но получше, чем у кума; с семьдесят шестого питался молодой пахан только из посылок, из принципа, мстя за то, что сам он их не получает, а кто бы посмел не отдать ему свое повидло, печенье, икру, шоколад – ведь это означало для отдавшего три, пять, десять дней полной безопасности и перед шоблой, и перед вохрой, и даже перед кумом? Ну, а насчет радио, так более всего привык Всеволод к «Свободе», хотя и находил принцип подачи «Последних известий» на этой радиостанции несколько тенденциозным. He-политических, не-обличительных передач Всеволод не слушал до тех пор, пока не понял, что на русском языке цензура зарубежная позволяет вести только тем или иным боком обличительные, политические. Стал слушать подряд.
Полгода тому назад началась по радио романовская вакханалия, а сидеть Всеволоду оставалось еще четверть срока, и никаким досрочным освобождениям при его-то статьях, при всем положении на зоне, он не подлежал. Но однажды, поздним декабрьским вечером, в двадцатый раз слушая брехню о том, какая светлая судьба ждет Россию, стоит ей лишь признать ошибочность истолкования подлинных целей Октябрьского переворота, – а цели эти сводились, понятно, к свержению узурпаторов и вручению вожжей правления рабочему классу во главе с подлинными его представителями, законными наследниками российского престола стоит лишь признать царем законного наследника, Павла Федоровича Романова, уроженца Екатеринбурга-Свердловска… При этих словах раздался в мозгу тридцатилетнего пахана по кликухе Шило словно бы хрустальный звон. Он вспомнил давно забытую фамилию своей страстной мачехи. И вспомнил, что был у нее брат Павел, которого она терпеть не могла. И вспомнил, что кроме брата… кроме брата… был у нее еще и сданный государству, незаконный, добрачный сын. И с удивлением, восторгом, радостью понял, что этот сын, успешно трахаемая всеми желающими шоколадная дырка по кличке Дуся, она же Гелий Романов, шестнадцатилетнее малолетнее, оттого малосрочное дерьмо, храпит не далее как на другом конце барака. Всеволод Глущенко знал покорных ему зеков не только в лицо, он и личные дела помнил наизусть, иначе сам не выжил бы. Вполовину срезанный срок Гелия кончался в марте. Всеволод немедленно принял решение выйти тогда же. Он нимало не относился к числу поклонников Гелия, – а было их много, потому что из лагерных петушков был он и моложе других, и смазливей, но знал его хорошо и какие-то подачки ему бросал. Софья некогда назвала ему имя своего «сданного сына». Теперь этот сын сидел в одном бараке с Всеволодом. Никогда не опознал бы Глущенко этого самого Гелия, но, во-первых, вообще в жизни не встречал человека с таким именем, а во-вторых – сходство. Сходство! Кровь прилила к базальтовому лицу Всеволода, и на миг, в первый и последний раз в жизни, ощутил он к лицу почти что мужского пола что-то вроде желания, и немедленно обматерил себя в душе: он путал мать с сыном. А желание, обращенное к матери, выдохлось уже много лет назад. Тогда хрена ли?
Куму за выход на свободу при такой статье, когда с отягчающими обстоятельствами человек мента пришил, кому другому пришлось бы выложить на стол тысячу николашек-рыжиков, если не десять тысяч. Всеволод ничего не выложил, а просто шило показал. Всеволод и Гелий вышли вчистую под завывание западносибирской вьюги и трясущимся местным самолетиком долетели до Тобольска. Слава Богу, Гелий не рыпался и раздражал Всеволода только бесконечными покушениями на его целомудрие. Но тоже не очень, боялся шила. У Всеволода, как всегда, мысль была только одна. У Гелия тоже мысль была всего одна, но совсем иная: кому бы дать. Однако же Всеволод это ему запретил: мол, пока сам не разрешу, зашей свою «люську» суровыми нитками. Гелий вел себя тихо, соблюдал целомудрие, хотя внешностью вызывал у попутчиков легкое потрясение: безвозрастный, исключительно красивый, несмотря на редко посаженные зубы, курчавый, весь какой-то виноградный, Гелий нравился даже тем мужчинам, которые сроду ничего подобного от себя не ожидали, даже тем женщинам, которые прекрасно понимали, что это за мальчик-девочка. В самолете какой-то неуч-попутчик Всеволода спросил: «Это с вами юноша или девушка?» Всеволод, даже не взбеленившись внутренне и шила не обнажая, на неуча поглядел. Все.
Из лагеря не взял Всеволод даже ложки. Обычай все оставлять, брать с собой ложку, если она у тебя есть, он уважал, но ложку отдал совсем зеленому, совсем погибающему косоглазому дурню, привезенному в Тувлаг за неделю до освобождения Всеволода. Дурачок такой китайский, да еще из родного Свердловска, малосрочник, и за что таких шлют? Гелию тоже с собой ничего брать не разрешил. Так надумал.
Дальше Всеволод все знал точно, – если правда, что у Софьи брат будет императором, – а об этом ему в наушники все уши Запад прожужжал, – то у него на руках не меньше, чем марьяж, отдавши короля, на даму взятку точно получишь, если, конечно, ход свой. Но для полного марьяжа нужен был еще и родной отец: Софья отперлась бы от сходства, а вот папаня вряд ли, – тот самый король, с которого ходят. И либо Софье, либо ее брату, если они и впрямь воцарятся, придется кое-что ему, Всеволоду, подбросить, – а уж он от родственника лишнего, от Гелия, если все будет без лажи, уберечь сумеет, рук не марая. А и нужно Всеволоду – поквитаться с кое-кем. С милицией, всего-то, есть о чем базарить, а?
Отец наконец-то домусолил свой сырок и перестал трястись. Жестом Всеволод показал: на выход. Отец послушно оделся. Всеволод встал и легонько кольнул сквозь одеяло храпящего царевича, тот хотел разразиться бранью, но дальше звука «е» ничего произнести не рискнул – шило уж больно знакомое.
– Не удумай, задрыга, линять. Даже встать с кровати не удумай. – Для убедительности еще раз кольнул, царевич смолчал. – Так что, родитель, пошли. Передумал я. Три снимешь для меня. И еще себе возьмешь, сколько захочешь. Поедешь в Москву с нами.
Виктор немедленно и послушно отвел сына в сберкассу с самым большим вкладом, – было еще штук двадцать, но там везде поменее, – сколько-то снял под вопли кассирш – заранее не заказали! план горит! – и оформил аккредитив для себя на четыре восемьсот, после чего на книжке осталось три семьдесят. По возвращении домой Виктор сразу бросился к бутылке, даже раньше, чем сын успел ткнуть в нее шилом: мол, пей. Всеволод подошел к спящему подопечному.
– Вставай, гадюка.
Гелий не пошевелился, и Всеволод немедленно понял, что худшие его подозрения оправдываются: если бы время их отсутствия царевич в самом деле проспал, то вскочил бы сейчас на его голос как ошпаренный. Тогда точно рассчитанным движением Всеволод всадил, будто шприц, свое шило в заднюю часть царевича, что и возымело действие.
– Самообшмон или как? – спросил Всеволод, не повышая голоса.
– Да нет у него ни фига… – попытался оправдываться царевич, отчаянно растирая место укола, хныча, но, тем не менее, зазывно вращая глазами. Но понял, что номер не пляшет. Он сполз с постели и вытащил из-под нее большой, увязанный узлом плед – все, что нашлось достойного в доме Глущенко. Всеволод наклонился и выкинул из пледа бюст Маяковского.
– Вот и хорошо, – успокоительно произнес молодой пахан, – вот и вещи укладывать не надо. Вот и поехали.
Вечером все трое уже сидели в купе. Четвертое место тоже принадлежало им, седоухий проводник, что разместил некогда Павла и Джеймса в предпоследнем купе, пришел за билетами и потребовал трешку за белье, с большим сомнением глядя на компанию – от нее за версту разило уголовщиной. Трясущийся пожилой дурак, прямой и сухой тип со стеклянными глазами, развязный сопляк, а вместо вещей – чемодан без ручки и узел клетчатый, словно ограбили кого-то – нет, не жди с такой публики тринадцать рублей вместо трех…
– Котик, дай в ротик! – вдруг, не выдержав, взвился Гелий и полез в объятия к проводнику. Тот с проклятием вырвался и захлопнул за собой дверь. За бельем пришлось идти Виктору; белье проводник дал, а трешку швырнул директору автохозяйства в лицо, по опыту знал, что с таких лучше ничего не брать, – а чаю они до самой Москвы так и не видали. Впрочем, Виктор постоянно таскался за водкой в вагон-ресторан, для себя и для Гелия, больше одной за раз ему ни за какие взятки не давали, у самих было мало, – коньяк же организм Виктора не принимал на дух. А Всеволод не пил ничего, кроме воды из умывальника в туалете. И не ел тоже ничего. Он и хотел бы поесть – но сознание того, что близок его звездный час, отключило в нем все физические потребности начисто. Будь это необходимо, он смог бы, наверное, обойтись без кислорода, дышал бы там вообще азотом, или гелием… Тьфу. Всеволодом двигала идея. Царевич почти всю дорогу спал; сперва он попробовал пить вровень с Виктором, однако же оказалась кишка тонка, от стакана водки, которого директору автохозяйства было мало даже для поправки, Дуся мгновенно вырубался. А Виктор пытался вырубиться, но не мог, бутылка кончалась раньше, нужно было плестись за следующей. А из следующей Дуся опять норовил что-то выжрать, опять не хватало…
В Москве Всеволод не был прежде никогда, но со слов подчиненных ему в недавнем прошлом тувтинских специалистов знал, что делать: немедленно с вокзала взял такси и поехал в Банный переулок, где с утра пораньше уже, как водится, толклась и перешептывалась московская биржа жилплощади. Всеволод прислонил Гелия к Виктору: чтобы не убежали, специально с ранья ни тому, ни другому не дал ни капли. И пошел потолкаться. Жаждущих снять было очень много, и все покладистые, неприхотливые и ненаглые, а жаждущих сдать было мало, и все с претензиями, со специальными условиями: только одинокому военнослужащему не старше сорока девяти и не ниже полковника, – только безногому инвалиду гражданской войны, в крайнем случае с одной ногой, не больше, – только молодой женщине без ребенка, – только интеллигентному пенсионеру, непременно знатоку крылатых слов и выражений, – только студенту не старше двадцати и не ниже ста восьмидесяти, – только с пятым пунктом, только с распиской, только без прописки, только под залог гаража…
– Трехкомнатная на два года, деньги вперед, – вдруг произнес кто-то безнадежным голосом под самым ухом Всеволода, и тот обернулся. Перед ним стоял во всем джинсовом, красный как рак, совсем еще молодой, жутко о себе возомнивший ввиду бойкого знания английского языка внешторговец, каждая веснушка которого беззвучно вопила о предстоящем отъезде в капстрану Бурунди на указанный срок, вопила о том, что квартиру не на кого оставить и деньги к тому же нужны позарез. – Двести в месяц, – добавил внешторговец, из красного становясь от наглости белым. Всеволод перемножил в уме, для него деньги цены не имели, но он понял, что наличных трех тысяч ему не хватит, и вспомнил родительский аккредитив.
– Плачу аккредитивом, – тихо и твердо произнес он и подхватил внешторговца, падающего в обморок от счастья.
К вечеру расплатились, расписались и водворились. Рыдающий от упоя Виктор, – не аккредитива жалко, а жизни! – был уложен в постель; почти протрезвевший, все ж таки организм молодой, шалашовка Гелий отпущен был временно на все четыре стороны погулять, ибо Всеволод точно знал ту единственную сторону, в которую Гелий пойдет и где его искать, когда надо будет, да и вообще с крючка ему не слезть; сам же Всеволод отправился на поиски Софьи Романовой, а лучше Павла Романова. Ничего, кроме довостребовательного адреса, по которому можно было начать розыски Софьи, а также сообщений западного радио о том, что наследник престола уже в Москве или под Москвой и ведет переговоры с советским правительством об окончательном соглашении, – советского опровержения на это гнусное сочинение почему-то не было, московское радио вообще передавало одного «Манфреда» Чайковского и прочую погребальную музыку; ничем, кроме похорон вождей, советские органы не занимались, и со страхом ждали со дня на день кончины самого главного в государстве специалиста по поддержанию видимости движения туда, куда его, это государство, раз и навсегда послали предшественники, – ничего, ничего больше не было в руках Всеволода. Но терпения было ему не занимать, им двигала идея. Он без злобы рассматривал стоящих вдоль оцепления по Садовому кольцу милиционеров и представлял их себе в лагере под Большой Тувтой, на утреннем разводе.
Гелий тем временем зябко плелся по весенней Москве к давно ему памятному дому недалеко от Смоленской площади. Он был там еще до глупой своей посадки, был не раз, потому что когда из детдома сбежал, то кантовался в Москве больше года, и кто, как не хозяин этой хаты, Аким Чингизович Парагваев, в просторечии Рашель, заплатил тогда за его, Дусиного адвоката, заплатил почти что ни за что, – Гелий и переспал-то с ним всего четыре раза? Судьба и Шило сделали Гелию неожиданный подарок: снятая на два года квартира на Садовом кольце, в доме напротив американского посольства, оказалась буквально в двух шагах от Смоленской. Свернув с площади в тихий переулочек, а из него – в еще более тихий тупичок, царевич оказался перед здоровенной, одноподъездной, кооперативной башней.
– В семьдесят третью, – буркнул Гелий старухе, сидевшей в глубине подъезда возле письменного стола, что-то вязавшей и, ясное дело, сомневавшейся, можно ли пустить в дом кого бы то ни было. Гелий с натуралками, иначе говоря, с «настоящими» женщинами вообще разговаривать не любил, хотя сам он тоже числил себя женщиной, но был не «натуралкой», а «подругой». Так что ограничивался бурканьем. Ему с ними просто было не о чем разговаривать. Покуда лифт поднимал его на высокий этаж, вспомнились Гелию молодые годы, когда его, юную и цветущую, перебивали друг у друга и Рашель, и Влада, и Жакилина, и кормили икрой, и поили коньяком, и если бы не проклятая, с первых детдомовских лет прижитая привычка щипача не упускать полного кармана, не сел бы он никогда за мелкое воровство, сел бы, как полагается, за «люську», а то и за нее не сел бы… И вытащил-то занюханные двадцать девять рублей, а впаяли, как за мульён… Хорошо хоть вот подосвободился пока что, только вот Шило на крючок взял, и хрен с него слезешь, хоть бы трахал, а то и того нет, так хоть вечерок по-людски пожить – и то радость. Сердце Гелия забилось учащенно, когда он звонил в дверь семьдесят третьей.
Дверь открылась сразу, на пороге появился некто зализанный на пробор, очень пьяный, и вопрос задал совсем уж неуместный после того, как дверь была открыта:
– Кто там?
– Я здесь, – кокетливо ответил Гелий, и вдруг вспомнил кликуху отворившего, – Милада! Сколько лет, сколько…
Отворивший вгляделся в Гелия и просиял:
– Дуся? Подруга? Давно ли?
Обнялись и поцеловались – по инерции взасос, но сами же смутились, оба были женщинами, делать им друг с другом было нечего.
– А я плов сделала – ты прям кончишь…
В большой комнате, с начисто отрезанным верхним светом, при двух тусклых бра, сидя толпилось человек десять. Лиц не было видно вовсе, но особый, мускусный дух привычно говорил Гелию – все свои. Иди там разбери, парное тут количество, непарное, прикадриться всегда найдется к кому, даже если тут семь мужчин на семь подруг, – Гелий прекрасно сознавал цену своим внешним данным, уж если кто любит молодых, высоких, смуглых, с исключительной кожей, – то это все ему, Дусе, в карман, в жизненный актив и куда еще там захотят. Деньгами он за любовь почти никогда не брал; в лагере лучше было взять харчами, спиртом, всего лучше планом, – а на воле Гелий что-то уже давно не был. С хамским «Вот и я!» он прошел к столу, на котором дымился только что поданный в огромном фаянсовом кузнецовском блюде плов, с исключительно профессиональными черными звездочками барбариса, – и налил себе чего под руку попалось. Попалась сладкая, безалкогольная водичка. Ругнулся. Нашел водку, тоже выпил. Стало хорошо, несмотря на полумрак, на задымленность. Тут только Гелий понял, что в гостиной хотя и все свои, но не так чтобы окончательно уж все.
Под одним из бра на диване сидел человек с гитарой, лет на вид сорока и явно не «свой». Это был не «бард», а «менестрель», что в тонкой фразеологии любителей пения под гитару и означало человека, который песни поет, но сам их не сочиняет. Где-то его, «менестреля» за это и вовсе не считали человеком, но здесь, в полумраке парагваевской гостиной, это превращало его как раз в человека высшего сорта, пусть и не «своего» по половой ориентации. Артист был знаменитей любой звезды блатного мира, он лет пятнадцать уже пел в основном «по вызову» в компаниях у друзей, а чаще вовсе не у друзей, а у тех, кто был способен выложить за вечер пения в гостях две-три средних зарплаты советского человека. Артист был болен, он жил на дорогих лекарствах и трех пачках болгарского «Солнца» в день; впрочем, в парагваевской гостиной, кроме немалого гонорара вперед, ему выдали еще и блок «Голуаза», который гость немедленно упрятал в футляр от гитары. Он пел на износ, лишь по привычке добавляя к четырем основным аккордам переходные, пел с душой и со слезой, пел неповторимым, мягким, как замша, баритоном, вкладывая в игру и пение столько собственно блатного искусства, сколько в силах выдержать искусство подлинное. Он был знаменит, некрасив и болен, жить ему оставалось разве что несколько месяцев. Весь гонорар за вечер завтра предстояло отдать за лекарства, а вечером снова петь, чтобы послезавтра утром было чем за лекарства заплатить. Многие песни приходилось повторять, если они уж очень западали в душу публике. «Корнет Парамонов», петый всей Россией чуть ли не в тридцатые годы, по-настоящему прославился именно в его исполнении, но «корнет», видимо, уже поднадоел, сейчас звучало другое:
– Гонит ветер опять листья мокрые в спину… Нелегко тебе ждать, одинокий мужчина!..
– Да! Одинокий! Мужчина… И одинокая подруга… старая хризантема…
Певец остекленевшими глазами не смотрел уже никуда, песня оканчивалась, потом он выпивал полрюмки и глухо говорил:
– А на этот раз эта песня… посвящается… для Толика… да, для Толика… – И вновь начинал: «Кто к тебе постучал этой ночью не в двери…» песня кончалась, и непременно кто-то навзрыд подпевал в финале: «Одинокий мужчина!» – и заваливался в темноту за один из диванов, чтобы не быть больше, видимо, столь пронзительно одиноким. Артист давал передохнуть пальцам и украдкой смотрел на часы: минут через сорок он имел право тихо слинять.
– Где Рашель, дорогая? – с полной плова пастью проговорил Гелий, пользуясь паузой в пении.
– Не бойся, дорогая, не взяли, – ответил пьяный полухозяин, явно непарный в здешней компании. При свете бра, под которым он почти лежал в кресле напротив артиста, обнаруживалось, что лет автору плова уже не то под тридцать, не то за сорок, так что, вспомнил Гелий, его прежнее самопрозвище «Старая, увядшая хризантема, еще сохранившая свой аромат» – нынче было ему очень впору, по крайней мере в первых двух словах. – Нынче наша дорогая подруга отбыла в Элисту-сити на кинофестивлюй-с. Новый свой супербоевик повезла, «Калмык всегда калмык», он ведь у нас сам из ближней Азии, так его туда все тянет и тянет… Ты барбарису, барбарису, а то не ощутишь, не кончишь! Барбарису!..
Гелий отдавал должное барбарису, он вообще ел горячее первый раз с выхода из Тувлага, по телу приятно текло тепло от «Московской», с меньшим, чем в Сибири, количеством депрессантов, вообще было хорошо и не доставало только любви. И это дело надо было поправить, прямо сию же минуту, без любви нельзя.
Из темноты на него смотрели огромные глаза. Сперва Гелий даже не понял, есть ли там что-нибудь, кроме глаз. Огромные, черные, чуть карие и поблескивающие, если вглядеться, они сливались с окружающим полумраком и буквально пожирали Гелия, – в свою очередь, пожирающего невообразимое количество действительно выдающегося Миладиного плова. Не то чтобы Гелию-Дусе стало не до плова. Он отложил эти глаза в жизненный актив – до утоления голода. Наедался он, впрочем, быстро – и уже видел, что, кроме глаз, имеет там, на софе, место примыкающий к ним парень лет на вид двадцати, несколько восточный, очень хорошенький, но явный мужчина, и еще там, на софе, имеет место свободное место, на которое он, Дуся, дожравши плов, сейчас же и пересядет. Впрочем… Хрен с ним, с пловом. Пора пересидать. И пересел. И, ни слова не говоря, вложил левую свою, большую, но классически красивую руку в маленькую и жаркую ладонь этого самого с глазами. Плов Милада и в другой раз тоже хороший сделает. Неважно.
Артист уложил гитару в тот же футляр, что и «Голуаз», и куда-то испарился. А на другом конце комнаты раздался нарастающий шумок.
– Ну и что?.. А и скажу всем… Думаешь, я свою теорию из этого самого высосал?.. Хрен тебе в палец… У меня программа для человечества, может, путь к спасению, а ты мне лапшу на уши вешаешь… А и скажу… И в облачении скажу, не стыдно мне, пусть тебя самого завидки берут! Я тебе не натуралка, я сам переоденусь, сволочь, не трожь меня! Отскребись сей же час! Вот возьму и все скажу!
Вконец упившийся Милада вырвался из рук тех, кто его, видимо, благоразумно удерживал, и исчез в соседней комнате: с ней у Гелия были связаны какие-то воспоминания, но все они сейчас были царевичу малоинтересны: молчаливая ласка этого неведомого, который с глазами, вся до последней йоты перепадавшая его левой кисти, искупала долгие годы зоны. Ему, Гелию, ничего больше не требовалось. Он выпил, он поел, его хотели, его грозили полюбить. Еще чего? Помирать можно…
Милада очень скоро выплыл из соседней комнаты. Действительно, одеяние заместителя хозяина дома несколько поражало воображение: он был облачен в длинную, до полу, лиловую рясу с широким, пока что на лицо опущенным капюшоном, и подпоясан был чем-то широким и прозрачным, в чем Гелий с удивлением опознал парашютную стропу.
– Отскребитесь! – хрипло визжал Милада, забираясь на стол. При этом выяснилось, что он бос и что пальцы ног у него хорошо напедикюрены. Лиловой тушей возвысился он над столом, над блюдом с собственным пловом, над прочей жратвой и выпивкой, которых оставалось на столе немало, – видать, не за тем тут люди собирались. Что-то пророческое засветилось на толстой роже Милады, когда он откинул капюшон и приблизил ее к лиловому, под цвет рясы, бра. «Фамилия его Половецкий», – вспомнил Гелий.
– Подруги! Подруги! Сестры и… женщины! И мужчины! – значительно более низким, но совсем охрипшим голосом заговорил Милада, весь содрогаясь от сознания важности начинаемой речи; он воздел руки к потолку, потолок был низкий и руки в него уперлись, отчего зрелище сильно потеряло запланированную патетичность. – Сеструхи! Я возвещаю вам истину, бля, кто не хочет, может не слушать и пусть идет трахаться с натуралками! А я, бля, истину буду говорить, мы, бля, все тут и повсюду, мы – пере… про… возвестники человеческого будующего! Будующего, бля! Наша, бля, планета, перенаселена до охрененной матери! А как, бля, самым простым, естественным и приятным способом избавить ее, планету, от перенаселения? Это ж, бля, яснеей ясного – всем идти… в подруги! – Милада сильно икнул. – Вон, обезьяны-то, обезьяны, говорят, совсем своих натуралок не трахают, и минет строчат лучше нашей сестры, – из темноты донеслось: «А ты пробовал?» – но Милада не услышал, снова икнул и продолжил: Вон, говорят, в Индии стипендию специальную устанавливают, кто в подруги идет. А Великая Влада, думаете, не наша была? Она, говорят, даже после смерти факаться вставала, пока они там вдвоем лежали. А эти… – Милада сглотнул слюну и сопли и, скорей от перепоя, чем от отсутствия образования, с трудом выговорил: – Эти… Герцен с Огаревым… они, бывало, как под колокол заберутся, так и факаются. Вот, говорят, скоро царь будет, так он первым делом сто двадцать первую отменит, он сам из наших, говорят, награждать орденами будут, кто в прежние годы за наше дело боролся, кто подругой докажется с до… до… Доконтрреволюционным стажем! Бю… Бюсты ставить будут… в скверике у театров…
Милада покачнулся, запутался в рясе и грузно осел в блюдо с пловом. Его речь никого не тронула. Подобную похабщину прямым текстом, как знал Гелий из прежних времен, не только тут не одобряли, но и мылили за нее шею, главным образом «чтобы хата не накрылась», но псевдохозяин Милада все-таки всех кормил на свои деньги, благо они непонятно откуда у него всегда были, и давал кров тем, кто его не имел: ну, у кого родители против того, чтобы сынули к себе мальчиков водили, или же другие какие родители у кого, которые и слов-то таких не знают, или кто вообще без квартиры, или кто вообще в общежитии, или кто вообще без дома, или кто вообще без паспорта. Но все тут всегда происходило пристойно, в крайнем случае – в ванной, в туалете, за спинкой дивана. Групповуха здесь была невозможна. Ну, по крайней мере, почти невозможна. Народа за время речи Милады стало как-то поменьше. Отогревшийся едой, питьем и целомудренно нарастающей лаской со стороны того, который с глазами, понял Гелий чутьем, что, значит, время уже за двенадцать. К этому времени обычно разбирались на пары и расходились, кто куда мог. Оставались только непарные увядшие хризантемы, вроде Милады. Милада же, похоже, немного протрезвев, больше не проповедовал. Однако из блюда на столе так и не встал, а, напротив, горстями выгребал из-под себя куски захолодавшей баранины, облепленные барбарисом и рисом, и яростно чавкал, глотая их. Потом медленно поднял взор, обшарил комнату, увидел тесно прижавшихся друг к другу Гелия и его глазастого напарника и удивился:
– А что же мой плов-то презираете? Кто вам еще такого барбарису даст? Или не уважаете? Ах я бедная, увядшая, старая хризантема…
– Но еще сохранившая аромат барбариса… – не удержался напарник Гелия, нежно покусывая ему мочку уха.








