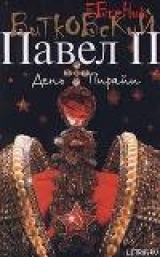
Текст книги "День пирайи (Павел II, Том 2)"
Автор книги: Евгений Витковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
Совсем неясной оставалась линия сестры Павла – Софьи. Сама она куда-то делась, из Москвы как будто упорхнула, в Свердловск никоим образом не припорхнула. Совершенно также неизвестно, куда исчез ее незаконный сын Гелий Ковальский, перед самой кончиной прежнего вождя зачем-то освобожденный из Тувлага, где отбывал небольшой срок за малолетнее рецидивное воровство, отягченное пассивными действиями. Незаконный папаша Гелия оказался и вовсе за пределами досягаемости для Сухоплещенко, он попросту умер. Законный муж Софьи, Виктор Пантелеймонович Глущенко, напротив, оказался вполне досягаем. Его единственного из всей этой линии – случайно поймали в буфете на Ярославском вокзале в Москве, так и не выяснили, откуда он тут взялся, но из коматозного состояния вывели, отвезли на максимально дальнюю дачу – в Мордовию – с чудесным, еще от сороковых годов оставшимся забором, приставили врача с водкой и пока что отправили в забвение. Однако порядка ради пошуровал Сухоплещенко и в биографии Виктора, выяснил, что женат он второй раз, что первая его жена-конькобежка погибла в знаменитой авиакатастрофе, укокавшей всю советскую конькобежную школу в конце пятидесятых годов, и здесь усмотрел некое неприятное напоминание: в том же самом самолете погибла и жена его второго шефа, маршала. Это было неприятным напоминанием о необходимости служить обоим господам. Сухоплещенко вздохнул и сел сочинять сгрехомпополамный доклад маршалу и от огорчения не разработал до конца линию Глущенко, а в результате прозевал само существование Всеволода, который уже изучил каждый кирпич в стенах Староконюшенного особняка, с истинно лагерным терпением оставаясь незримым для мусоров что в форме, что без. Доберись до него Сухоплещенко вовремя, отправь на далекую дачу – кто знает, как сложилась бы судьба России дальше. Но маршалу Сухоплещенко все-таки должен был хоть что-нибудь доложить, и Всеволод ушел из его на диво длинных рук.
Зарубежными Романовыми пока никто не занимался. Здешних еще не всех отловили, а лондонская тетка подождет, там у нее болгарских друзей полно. Сам Павел под бдительным присмотром вкушал в Староконюшенном покой, кофе, осетрину и радости любви, Тоня находилась при нем безотлучно, знать не зная о том, что Шелковников, опасаясь роста ее влияния на императора, дал указание подобрать ей на всякий случай высококачественную замену. Сухоплещенко, увы, заняться подбором кандидатки не мог, занимался писаниной, времени не оставалось, так что взял да и схалтурил, доложил, что кандидатуры отобраны, сейчас идет проверка на качество. Так что медовый, уже четвертый в календарном счете месяц у Павла с Тоней ничем омрачен не был. Но сам Шелковников времени не терял, армейский напарник тоже, оба они основательно работали с теоретиками, перетасовывали цитаты из классиков, доказывая неизбежность перехода к социалистической монархии как высочайшей стадии развития общества. Одновременно, конечно, перекладывали во все мыслимые швейцарские и сальварсанские сейфы кое-что про запас, вдруг да и эта стадия общества высшей не окажется. Кто ж его знает, ясновидящего-то нету! Спокойна была только Елена Шелковникова. Но она вообще всегда была спокойна. Кончался июнь, над Москвой шли летние грозы, столица жила обыкновенной жизнью. Люди жили как люди, а начальники, ну что начальники, им бы только стул понадежней – и каждому его собственный стул, увы, не казался самым лучшим. Но иначе и быть не может. Нигде и никогда.
Но кто-то на свете все-таки пребывал в движении – даже белее непрерывном и неукротимом, чем Сухоплещенко, тот ведь не железный был, даже более неудержимом, чем Хур Сигурдссон, тот ведь зимовал иной раз, не без этого, – в соблазн вечного движения впал Жан-Морис Рампаль, ныне всемирно известный необъяснимый дириозавр, герой международных переговоров, научно невероятных фильмов и бесконечных анекдотов. Больше всего было про армянское радио и про то, как он туда залетал и там все залетели, но были и про то, как влетает дириозавр в пещеру, и много других, тоже неприличных. Спутник дириозавра, хоть и малоприметный, и науке, и анекдотам был тоже известен. Летающие неразлучники двигались над всей планетой, наслаждаясь неслыханной свободой. Если кто-то порою пытался их обстреливать, дириозавр привычно отлавливал те предметы, коими стреляли, и забрасывал их на орбиту, – получались искусственные спутники, создавая угрозу и советской и американской астронавигации. Вскоре обе державы это заметили и наложили международные санкции на обстрел стального ящера. Соколе везло – он был маленький, в него поди попади, однако не может ведь удача сопутствовать до бесконечности! Бывают и у рыбки-лоцмана свои мелкие несчастья, а ведь акула своего лоцмана любит, она ведь тоже разозлиться может!
В нежаркий зимний день, – дело было в Южном полушарии, – в столице Хулио Спирохета построенный на доброхотные даяния великих держав стадион принимал гостей из многих стран мира, шла всемирная спартакиада по неолимпийским видам спорта – от кикбоксинга и серфинга до скоростного поедания Книги рекордов Гиннеса. Сегодня диктатор на состязания прибыть не изволил, хотя первые дни сидел на трибуне безвылазно, особенно когда Гиннеса ели. Сегодня шли состязания по метанию кувалды среди женщин; злые языки говорили, что диктатор не любит монументальных баб, не то кувалды побаивается, но на самом деле вчера вечером он обожрался президентской, тьфу, диктаторской ухой, с утра прилетал Долметчер и ее варил, деликатно напоминая тем самым, откуда взялось в стране ее нынешнее благосостояние. Старик обожрался так, что теперь болел в лежку. Врачевать его было некому, он был диктатор и тиран, никому не верил, да и вообще почти все врачи занимались теми, которые давеча ели Гиннеса. А тем временем на стадионе с первой попытки захватила лидерство в метании кувалды юная спортсменка из молодой развивающейся страны Нижняя Зомбия. Прелестная Табата Да Муллонг пленила сердца подданных Спирохета, сразу сложился круг ее тиффозных болельщиков. Она метнула кувалду прямо вверх на высоту сто двадцать три метра и двадцать два с пятой долей сантиметра и уже значительно превысила подобное достижение среди мужчин. Первенство было ей обеспечено; стадион привык изматывать лидера корриды, ревел и требовал нового рекорда. Вторая попытка принесла Табате Да Муллонг, несмотря на переменившийся ветер и отчего-то потемневший воздух: сто пятьдесят один метр и один с восьмой долей миллиметр. Но на свою беду ополоумевшая публика требовала от чемпионки еще и третьей попытки. Идя на побитие совершенно уже лично ей не нужного рекорда, могучая зомбианка раскрутилась и метнула кувалду в воздушные просторы.
Лучше б уж она не крутилась, лучше б уж ничего не метала и вообще сидела бы в своей Африке. Лучше бы хоть кто-нибудь из зрителей вовремя посмотрел вверх, увидел там величественно, медленно проплывающего дириозавра, но все смотрели только на крутящуюся зомбийку. А дириозавру на спортивные страсти было наплевать, он просто плыл в воздушном океане, в непосредственной близости от его сверкающего брюха плыла и сверкающая бензопила. Табата Да Муллонг отпустила кувалду, глянула ввысь, заорала от восторга, – потом клеветали, что от ужаса, – но все равно было поздно. Тяжкая кувалда, еще хранящая в рукоятке жар девической ладошки, описав сложную дугу, врубилась прямо в лопасть бензопилы «Дружба», отлетела прочь и не побила рекорда, она упала вдалеке от стадиона, прямо в океан, едва не побила всех участников чемпионата по отливному серфингу. Но она побила и бензопилу, и та стала терять высоту, явно нарушая гармонию мира, может быть, она больше уже не могла летать. Соколя повис в воздухе сам по себе и возвел очи к дириозавру: теперь, без пилы, Соколя мог оказаться недостойным сопровождать Его Совершенство. Лишь микросекунда понадобилась двумозгому ящеру на то, чтобы все понять, осудить виновных и разгневаться, спасти пострадавших и утешить их печали. Из брюха ящера высверкнул лиловый от ярости яйцеклад, перехватил и Соколю, и пилу и зашвырнул в сумку на ремонт, но выметнулся снова, утолщаясь и удлинняясь, приводя в ужас всех тиффозных, наконец-то глянувших в небо. Ящер мстил. Он вознесся над стадионом на высоту в добрый километр, а потом из яйцеклада вырвался огромный, с пятиэтажный дом хрущевской постройки размером, предмет, к тому же загадочной пятигранной формы, с грохотом рухнул на поле спортивных состязаний, чуть ли не целиком его разворотил, усыпал зрителей бетоном и землей, а Табату Да Муллонг так и вовсе поначалу погреб. Спортсменка, к ее чести, восприняла случившееся хладнокровно, быстро и по-деловому себя откопала и принялась откапывать своих поклонников. Несмотря на общую панику, кое-кто из корреспондентов успел сделать кадр-другой в хвост улетающему во гневе дириозавру. А сброшенный им предмет оказался настоящим пятигранным яйцом, дириозавр был все-таки самкой и клал яйца, если нервничал.
В последующие дни его пытались разбить, но не смогли, хотя Спирохет крайне опасался вылупления из него нового дириозавра, двух: не дай Бог, яйцо двухжелтковое. Но, кажется, это все-таки был болтун: чего еще ожидать от одинокой самки. Точно этот вопрос разрешен не был, яйцо не вскрылось, может быть, от отсутствия должного насиживания, а может быть, и вовсе неизвестно почему, – но история о том, как стадион яйцом накрылся, в памяти поколений сохранилась на века.
Стоял все еще июнь, и никто на белом свете почти не ждал того, что случилось дальше, в частности, никто не ждал от меня прозы. Подлости от меня ждали многие, да и теперь ждут, но не прозы. Но именно в тот июнь я не выдержал и приступил к давно задуманному правдивому описанию событий, сопутствовавших логическому перерастанию социализма в его высшую, монархическую фазу. Правда, предикторы ван Леннеп и дю Тойт об этом моем намерении загодя кого надо предупреждали, но поскольку подлости от меня всегда ждали, то именно здесь и заподозрили какой-то дьявольский подвох, но уж никакую не прозу и уж подавно не трилогию о Павле Втором. Ну, им же хуже.
11
Мы тебе ераплан либо там дерижаб даим, только ты его за границу не угони.
Б.ШЕРГИН. ЗОЛОЧЕНЫЕ ЛБЫ
Борьба за культуру выражалась здесь полным отсутствием пепельниц, курили поэтому втихаря, ну, и окурки в результате оставались тоже под столом. Народу было не особенно много, Гаузер с аппетитом закусывал очередные двести грамм тарелкой борща, а профессиональным слухом примечал все, что говорилось в разных концах зала. Подлый Герберт борща принес как нужно быть, много плеснул борща, но плеснул его, гнусняк, в грязную тарелку. Он там других на кухне не нашел, а спросить, скотина грязная, боится, и вообще, все время только за рукав и дергает, гадина, педераст употребленный. Бэ-е.
– Ну, переобул я его так на сто шестьдесят… Где-то так…
– Она же мне вместо спасибо, что отпускаю со свиньей ее паршивой, в морду плюнула. И вроде жвачки никакой не жевала, а слюна у нее такая едкая, жгучая, темно-зеленая оказалась. В правый глаз мне попала, в медпункте промывали потом… Ушла, подлая, а мне неприятности. И в глазах теперь двоится, хотя вот уж неделя скоро…
– Постановление вышло: теперь незваный гость будет считаться лучше татарина!
– Вот как царя назначат, точные сведения есть, сразу коммунизм только и будет. И денег тогда не будет. Ах ты Господи, опять не будет, вечно их нет…
– Нет, насчет войны, думаю, ты неправ. Будет. Обязательно. Очень скоро. Какая разница – с кем? Пойдем, пойдем мы с тобой покорять. Что? Что-нибудь пойдем…
– Майонез, значит, в двенадцать раз подорожает, спичек будет по восемь штук в коробке, но обещают, что зажигаться будут. Портвейн по четыре, а хлеб обязательно, из сверхточных источников…
– Ты мне счет неси, я не пообедать вышел, у меня вылет через час двадцать пять, регистрация, помидор терпеть не будет…
– Беспокоит вас, говорит, одна из компетентных организаций. Я его по голосу узнал, я ж честный, не кадрись, говорю, больше двести на родной карман не кладу, верхушки дальше сдаю, ему и звони. Дурень этот возьми да и позвони ему, вот теперь в Кулунде помыкается, мне главный точно обещал…
– Это уж просто ну не знаю что, это уже смертельная жизнь!..
– Во вторник, значит, дежурю: из Грузии две дуры две тысячи роз парнишке такому, в вельвете, за тысячу передали, и к себе. А я ему руку на плечо, интересно познакомиться, говорю. Налей, тошно… А он глядит на меня: да, вот как раз прикупил букет к могиле Неизвестного Солдата. Ну, говорю, бери транспорт, поприсутствую, говорю. Нет, говорит, я привык общественным транспортом, я привык общественно класть. А, падла, думаю, стреляный, отчего ж я первый раз тебя вижу? Вижу, отпускать надо, мне за такси кто деньги вернет, и назад не доберешься, говорю со зла: часто кладешь? А он мне – кладу, кладу, вам тоже класть желаю… Вот теперь и думаю – не положить ли… Ну давай тогда…
– Англичанка на такое заявление говорит: «Ну и что?» Немка спрашивает: «Когда?» Итальянка – «Чем?» Француженка – «С кем?» Русская – «За что?..»
– Гертруда это что, нашему засрака дали, я не ругаюсь, а он на торжественном вручении говорит: мол, полон сил и на пенсию не пойду. Сидит на шее у нас пока что. Заслуженный работник культуры это, молога пропасная…
– Молоко по восемьдесят одной должно стать…
– Да не заворачивай ты мне контрфалды… Не слыхал? Дубина… Зеленый…
– Никакой не зеленый, в самом цвете мой помидор: аджарский, хочешь пробуй, не хочешь – так уйду, если счет сей минуту не будет! Помидор милиции сдам! Зря думаешь, что не возьмет… Детдом моим именем назовут!.
– Знала бы, говорит, что ты такой, так хоть штаны бы надела!..
Гаузер не вполне ясно помнил, как они сюда попали. С тех пор, как по Савеловскому направлению железной дороги они где-то проводили Рампаля, кажется, они несколько раз катались на границы области и обратно, и одолевало предчувствие, что надо быть поближе к аэропорту. Теперь, тоже по наитию, Гаузер пешком довел своих спутников от железной дороги до аэропорта Шереметьево-2, что делать дальше – не знал, но необходимо было мощно выпить, чтобы русский язык вспомнить, ну и поесть хорошо, как раз ресторан открыт. Питаться в ресторане невидимой группе было трудновато: платить, конечно, не надо, и места твоего тоже никто не займет, но, увы, и обслуживания невидимкам тоже никакого. Коллективом рубали все, что приносил Герберт в грязных тарелках. За бутылками Гаузер ходил к буфету сам, потому что Герберт не успевал поворачиваться. Несколько часов назад Гаузер под очередной стакан словил телепатему из Колорадо: сворачиваться, в Москве они больше не нужны. Дальше шли нежаркие поздравления и приятный сюрприз: пусть проездом, но предстояло побывать в Венгрии.
Форбс сообщал, что полковник Бустаманте закончил эксперименты с собачьим потомством трансформатора Оуэна, получил блестящие результаты и принципиально решил проблему увеличения штата оборотней: все щеночки, покушав рудбекию, тако-ое показали… Теперь даже тому несчастному, что в образе слонихи стоит, аборт делать не будут. Теперь ему придется, как это сказать по-русски, бэ-е, слониться, что ли? Итальянский маг доказал, что потомство принявших женскую трансформу оборотней, засеянных семенем почетного оборотня Аксентовича, прекрасно оборачивается в людей, а потом опять во что надо, поэтому свинок, всех тринадцатерых, тоже надо быстро собрать на Западной Украине и немедленно вернуть на историческую родину. Надлежало ехать на Волынь, прибрать к рукам поросятню, угнать ее через венгерскую границу, в Будапеште посадить на самолет – и домой. Причем все делать быстро, не то хохлы волынские как раз поколют, срок подходит. Предстояло ехать в Луцк, стало быть, набрехало вещун-сердце, какого лешего занесло их всех в международный аэропорт? Или Волынь уже отделилась? Кто президент Волыни?.. Бэ-е…
Гаузер грузил на поднос очередные эскалопы, Гаузер сгребал с буфетной стойки все, что приглянулось из числа бутылочных изделий, и никто их, конечно, не видел. И вдруг кто-то тронул Гаузера за рукав. Был это, как ни удивительно, тот самый невезучий и обиженный тип из УБХСС, что жаловался на маленькую свою зарплату, из-за которой даже на такси к могиле Неизвестного Солдата съездить не может. Явный неудачник, плюгавый. Вскоре тому появились доказательства.
– Что это, гражданин, вы тут делаете? – спросил парень. Был он молодой, чернявый и симпатичный. Гаузеру, как всегда, померещилось, что ему глазки строят. «Педераст проклятый», – подумал Гаузер и тут сообразил, что происходит невозможное: парень и его, и, не дай Господи, всю группу, видит. Но Гаузер туго помнил, что именно положено делать в подобных случаях, начальство не лыком шито, инструкцию не вчера придумало. Гаузер отставил бутылку, подбоченился и повернулся к чернявому.
– И каким же, с позволения сказать, способом вы меня видите? – спросил он с резким «акающим» грузинским акцентом.
– Глазами, гражданин, глазами, – спокойно ответил чернявый.
– Двумя или одним? Которым? – продолжал Гаузер допрос.
Парень похлопал глазами. Вопрос застал его врасплох.
– Правым! – наконец, выпалил он. Видимо, для него самого было неожиданностью то, что левым глазом он Гаузера не видит.
– Ну, тогда вы слишком много видите! – подхватил появившийся рядом Герберт, которому вся эта процедура знакома была по тренировкам. Герберт размахнулся и точным ударом ткнул чернявого в правый глаз согнутым суставом среднего пальца. Гемофтальм, кровоизлияние в глазное яблоко, на несколько лет неудачливому чернявому было гарантировано, а потом пусть видит, что хочет ой, что он тогда увидит!.. Пусть сейчас попытается объяснить начальству, откуда взялось у него это самое кровоизлияние, особенно сейчас, когда он несколько под банкой. К упавшему стали сбегаться люди. Гаузер взял отставленную бутылку и приказал группе сматываться отсюда вслед за ним, наелись, надо надеяться, гады прожорливые.
Они брели через зал ожидания, но на полпути к выходу пришлось задержаться. Путь им преградила плотная и в чем-то невероятная не только для СССР, но и для современного мира вообще, процессия. Большая группа людей медленно передвигалась поперек зала, от таможни к отделению милиции. Впереди шагали два десятка милиционеров, очень перепуганные, и еще столько же лиц в штатском, но с военной выправкой, которая их перепуганности не скрывала. Гаузер мысленно решил, что это все проклятые педерасты. Следом за ними шли, по флангам обставленные милицией, тоже перепуганной, шестеро тучных, расплывшихся, в черных балахонах до пят, босых, и все с толстенными свечами из красного воска, чье пламя трепыхалось на сквозняке и норовило угаснуть, но рыхлые толстяки прикрывали свои свечи пригоршнями, оберегая. Головы толстых были наголо бриты, лица желто-землисты, наметанный глаз гипнотизера немедля опознал в них скопцов; от удивления он даже мысленно их никак не обругал. Следом за скопцами шли двое: совсем молодой парень южного типа, в отличной черной тройке и лакированных ботинках. Под руку парень вел существо, непонятней которого Гаузеру не случалось видеть много лет. Там выступал плавной походкой еще более молодой, еще более высокий и совершенно исключительно красивый мальчик в одежде, хотя мужской по покрою, но кружевной, белой, чуть не тюлевой, в общем, подвенечной. На голову мальчика была накинута фата, схваченная обручем, а весь обруч был обвешан здоровенными восковыми фруктами: виноградными кистями, плодами фейхоа, персиками и еще чем-то помельче. Фата затеняла лицо мальчика, но блудливые глаза шарили по сторонам, сверкая ярче крупных камней, может быть, фальшивых, но, может быть, и подлинных, унизывавших пальцы мальчика. Гаузеру стало ясно, что перед ним не то невеста с женихом, не то, страшно подумать, уже молодожены; он грязно выругался по-венгерски. В душе тут же обрадовался: не забыл, значит, венгерский. Позади пары шло еще шестеро скопцов со свечами, дальше угрюмо передвигали ногами человек двадцать советских обывателей с баулами и сетками. Замыкал шествие еще один наряд милицейской охраны, перемешанной со штатскими, которые смотрелись в этом штатском как плохо оседланные коровы. Двигалась процессия очень медленно, темп ей задавала отнюдь не милиция, а свадебно-скопческое ядро. На Гаузера пахнуло средневековьем, флагеллантами, альбигойцами, папой Александром Борджиа, аква-тофаной, мальвазией и другими благородными напитками. Но времени разглядывать шествие у Гаузера не было, ему требовалось перебраться в Москву и уехать в город Львов, который по-немецки называется Лемберг, а как по-венгерски – Гаузер не мог вспомнить, и это его расстраивало.
Процессия тем временем добрела до милицейского участка, разделилась на две группы и просочилась в две двери: понурые обитатели с малым количеством милиции в одну дверь, скопцы и молодожены с основной частью милиции – в другую. В комнате начальника молодожены без приглашения сели на диванчик и прижались друг к другу. Скопцы остались стоять. Свечи в их руках превращались в огарки, тогда из широких складок извлекались новые. Наконец в комнате очутился некто в штатском, сидело это штатское на нем тоже как на корове, но, пожалуй, так выглядела бы корова, оседланная хорошо и умело. При появлении данного персонажа всю присутствующую милицию аж передернуло от его высокопоставленности. Персонаж сел за стол. Он очень нервничал, несколько раз подвинул к себе и обратно один из телефонов на столе. Наконец тот зазвонил прямо у него в руках. Человек снял трубку, долго слушал, а потом с трудом выговорил:
– Сейчас заполним. Есть. – Он положил трубку, и неожиданно вежливо обратился к юноше в черной тройке: – Имя? Отчество? Фамилия?
Юноша с трудом оторвался от своего компаньона, встал и слегка поклонился спрашивающему.
– Романов. Ромео Игоревич.
По лицу допрашивающего прошла скверная судорога.
– Год рождения?
– Одна тысяча девятьсот шестьдесят четвертый.
И вдруг скопцы хором добавили:
– От Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Аминь.
Человек за столом поглядел на скопцов с большим сомнением, но продолжал:
– Образование?
– Не сдал экзаменов за десятый класс.
– И сдавать не будет! Правда, котик? – развязным тоном вмешался его компаньон, сделал попытку дотянуться до ноги Ромео и погладить ее, Ромео нервно дернул коленом и отодвинулся. Человек за столом глядел на сцену, все больше тускнея. И вдруг, видимо, принял внутренне какое-то решение, успокоился и сказал:
– Я рад вас приветствовать, дорогой Ромео Игоревич. Прошу подождать некоторое время, сюда должен прибыть ваш папа… и, может быть, дядя.
– Ах, свекор! Душка! – возопил тип в фате. Он закинул голову, заломил руки и потянулся, отчего виноградные кисти съехали на затылок. Тип встряхнулся, кисти вернулись на место, одна налезла на глаз. Тип недовольно оторвал ее и стал вертеть в руках, явно не зная, что делать дальше. Один из скопцов, казалось, вовсе не глядевший в эту сторону, быстро взял кисть и спрятал ее в складки сутаны.
– Мы будем вести переговоры только в присутствии посла Дании, – твердо сказал Ромео.
– И посла Соединенных Штатов Америки! – хором, тонкими голосами, но грозно почти пропели скопцы. Человек за столом посмотрел на Ромео с укоризной: мол, такой ли тон мною был вам предложен?
– Помилуйте, Ромео Игоревич! К чему переговоры? О чем? Все уже улажено, и с вами, и с… с… товарищами? – у него явно были сомнения, могут ли черноризные свещеносцы именоваться товарищами, ведь вряд ли у них есть советское гражданство, или, на худой конец, партийный билет любой несоветской компартии. Если же есть, то совсем плохо, конечно. Положение спас – бывает же такое – тип в фате.
– Пусть выставит дюжину шампани, как тогда, милый, помнишь?.. А платит пусть свекор, правда?
Человек за столом по-военному опередил приказание, явно готовое вырваться из уст Ромео, нажал клавишу селектора и выговорил:
– Четырнадцать… Нет, пятнадцать бутылок хорошего шампанского из ресторана… Со льдом, икру там, пусть поглядят, что есть хорошее, нет, брют мы допили, Даня знает, какое хорошее…
Воцарилось молчание, нарушаемое только шипением свеч. Ромео сел на диванчик. Голова у него несколько кружилась, в ней мелькали картины последних месяцев жизни, и, как в стробоскопе, картинки эти сливались и начинали приходить в движение. Без отступления в сторону этих месяцев, конечно, было бы совершенно невозможно понять, чего ради в наше повествование затесались скопцы-субботники, и уж тем более – каким образом Ромео Игоревич Аракелян стал Ромео Игоревичем Романовым.
Той давней ночью, когда Милада Половецкий, сидя на столе в блюде с пловом, принялся таковой пожирать пригоршнями, твердя свое бесконечное: «Барбарису!.. Барбарису!..» – судьба Ромео переломилась. Гелий не вернулся на Новинский бульвар ни в ту ночь, ни в следующую, вообще никогда не вернулся. Ромео не возвратился в отчую квартиру. И первая их ночь, и ряд последующих прошли в самой задней комнате парагваевской квартиры, временный распорядитель которой точно понимал – кого гнать в шею, кого не гнать, и кто кому родственник. Ромео не был новичком в нехитрой науке однополой любви, но за краткие часы мартовской ночи, незаметно перетекшей в утро, Гелий успел просто свести с ума своего нового друга всякими штучками, умением полностью забыть о себе и отдаться желаниям партнера. Проходили часы, пылкий Ромео не уставал, Гелий тем более, лишь несколько уменьшалось количество полных бутылок в шкафу у дрыхнущего Милады, лишь прибавилось пустых бутылок в задней комнате вокруг дивана, на котором, размечтавшись, нежился виноградный красавец среднего пола. Ромео приносил очередную, отпивал и кидался на Гелия, и Гелий не был против. Он унаследовал от никогда им не виданной матери сметливость, он понял, что делать то, что планировал поначалу, вовсе не стоит, – а собирался он дождаться, чтобы этот мужчина с черными глазами кончил столько раз, сколько ему надо, и заснул, а потом обчистить его и слинять. Но черноглазый тут ему кое о чем протрепался, пока свет был потушен, и Гелий почуял, что вышел на дело куда более крупное. Покуда, конечно, Шило не очнется и сюда не дотянется, так тем более надо на глаза к нему не показываться, – а и вообще тут, с черноглазым, совсем не плохо. Но от Шила не убережешься, как от удара молнии, лучше сил не тратить, пусть черноглазый силы тратит, пусть сойдет с ума от счастья. Так ему и надо, мужчине. Как всякая подруга, Гелий мужчин, конечно, ценил больше натуралов, и беречь их умел, поддавал, подмахивал, ни одна натуралка такого не сумеет, все прочее он тоже делал классно, хотя, конечно, не уважал. Уважать только подругу можно.
На второй день Ромео неосмотрительно повел Гелия в ресторан. На седьмом этаже одной не очень известной гостиницы, чтобы меньше было шансов кого знакомого встретить, устроились. Там Гелий до свинства напился очень вкусно пахнущей водкой. Ромео тоже подвыпил и к вечеру плюнул на осторожность: повел непротрезвевшего Гелия в «Пекин». Премьер умер, его все еще поминали, никто особенного внимания на пьяную пару не обращал. Вели они себя тихо: Гелий – от упитости, Ромео – от влюбленности. Ночью Ромео дал бесплодную клятву не позволять Гелию напиваться: тот спал, как убитый, хотя позволял делать с собой все, что угодно, но это было уже совсем не то.
На пятый день загула у Ромео кончились деньги. Он умудрился вызвонить по телефону самого младшего из братьев, безропотного Горика, и велел ему взять у деда из-под Беатриссиного гнезда оба кошелька – и правый, и левый, не трогать только бумажник, там не деньги, там документы. Горик все привез к метро «Академическая», с братом Ромео передал деду записку, чтоб его не искали, не то хуже будет, а сам он придет, когда сможет. В парагваевской квартире Ромео вскрыл широкие бисерные кошельки лагерной работы, бумажек там оказалось много, были деньги советские, была большая пачка датских крон, но там же оказались и документы, какие-то донельзя старинные, десять писем готическими буквами с восковыми печатями. Ромео смутно помнил, что у деда хранится архив кого-то из его дворянских друзей, того друга, что ли, который в зоопарке работает. Мысленно он выругал Горика за то, что тот деда заставил волноваться. Деньги, Ромео это знал, дед ему простит. Знал, впрочем, что дед простит ему что угодно.
Оторваться от Гелия Ромео не мог. Он плохо понимал, чем весь его загул кончится, статьи 121 советского кодекса не боялся – отец выручит, если уж очень нужно будет, по этой статье сажают только тогда, когда другой нет; обо всякой венерической пакости никогда не думал и теперь не помышлял, хотя Милада, порой болтавшийся под ногами, все время пророчил появление какой-то новой спецболезни для голубых и лиловых. Ромео думал о другом, он был очень молод, но знал, что через довольно короткий срок любая страсть остывает, а с ним самим получалось что-то непонятное. Тут вот уж сколько дней, и без перерыва, а любострастие грызло парня все сильней. Однажды Ромео лежал без сна, ибо опять нечаянно упоил Гелия, а сам недопил, да и вообще пить не любил, он заметил, что чем-то ему ребро царапает. Сунул руку в надорвавшийся за последние дни матрац и вытащил револьвер. Изучил. Оказалось – настоящий, «беретта», только… стартовая. На кой хрен Парагваеву такая игрушка, или это вообще кто-то из гостей запрятал, – об этом Ромео не задумался, а стал размышлять о другом. Скуки ради и во имя дамы сердца решил Ромео совершить что-нибудь, что-нибудь…
Наутро не совсем опохмеленный Гелий обнаружил себя в аэропорту, в зале ожидания. На вопрос «Мы куда?..» его мужчина только загадочно улыбнулся и сунул Гелию вскрытую бутылку коньяку. «А…» – сказал Гелий и снова уснул с открытыми глазами, по тюремной привычке. Так он и в самолет вошел и совершенно трезвым казался. Вещей у них с собой почти не было, только Ромео держал в руке яркий пластиковый пакет с непрочитываемой надписью. В таможне их не досматривали, Ромео несколько раз пробормотал с удовлетворением: «Да, деньги пока что могут у нас очень и очень многое», – но слов его никто не слышал, а менее всех – спящий Гелий.
Очнулся Гелий уже в самолете. От боли в правой кисти: в нее вцепился мертвой хваткой Ромео, оравший на весь салон: «Экологическое оружие! Экологическое оружие!» – и размахивавший цветным пакетом. «Куда?» – робко спросила наиболее смелая стюардесса. Ромео вспомнил, что купюры у него в кошельке датские, и рявкнул: «В Копенгаген!» Самолет медленно ушел в вираж и сменил курс чуть ли не на сто восемьдесят градусов: вообще-то он должен был попасть в Свердловск.








