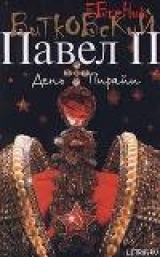
Текст книги "День пирайи (Павел II, Том 2)"
Автор книги: Евгений Витковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 29 страниц)
Елена Эдуардовна остановила ЗИП возле планетария, никому не кивнув, прошла в комиссионный магазин, торговавший импортными магнитофонами, там привычной дорогой удалилась в кабинет директора. Директор молча склонил голову и быстро выскочил из кабинета, оставив Елену Эдуардовну одну. Она заняла его кресло, мельком взглянула в зеркало пудреницы, подвинула к себе допотопный «Ремингтон» и одним пальцем, стараясь не повредить маникюр, напечатала, – притом никакой бумаги в машинку не вложив:
ПЕРЕТУ ПЕРЕНОН
Повинуясь раз и навсегда заданному коду, директорское кресло унесло Елену Эдуардовну в глубокие подземелья под магазином. Спуск был скоростным, но все же длительным, в конце концов Елена Эдуардовна очутилась в белом и чистеньком помещении, ни дать ни взять ординаторская в институте имени Склифосовского, там кресло остановилось, а когда Елена Эдуардовна соизволила его освободить, унеслось ввысь. Дальше по чину ложи полагалось четверть часа «одиночного радения»: теоретически считалось, что Елена Эдуардовна, стоя на одной только пятке правой ноги, вертится очень-очень быстро, так, чтобы даже лица нельзя было увидеть, а превратилась бы почтенная канцлерша как бы в белую колонну. После этого разрешалось еще – по желанию – поговорить неведомыми языками, но не обязательно. Елена Эдуардовна была воспитана в традициях реалистических, хотя и теософских, и, ясное дело, ни на какой пятке не крутилась: отведенные на это занятие четверть часа употребила она иначе: вызвала из стены некое существо в белом балахоне а-ля ку-клукс-клан, которое и подправило ей износившийся за день маникюр. Что же до говорения иными, неведомыми языками, то не без основания полагала Елена, что в ее ложе займутся этим другие.
Елена Эдуардовна никогда не опаздывала, если куда было назначено. По истечении всех приготовительных сроков и ни секундой позже поднялась она, переоблачилась с помощью ку-клукс-кланоподобного существа в просторные белые одежды, положенные заповедными гренландскими уставами, и, изредка поворачиваясь вокруг своей оси, – для тренировки, не более, – пошла длинным белым коридором, уровень коего понижался и повышался без всякой видимой причины. В отличие от подвалов Хитровки, за столетия под чьими только флагами не побывавших, кудринские катакомбы спокон веков служили одной цели: были тут винные подвалы, заложенные кем-то в прошлом столетии, потом более или менее по тому же назначению использованные гранд-очаровашкой маршалом Берией, чей дом располагался рядом; позже часть подвалов досталась высотному гастроному. Но только часть, и самая сырая, та, что поближе к речке Пресне, вообще-то заключенной в трубу, но в старом зоопарке протекавшей свободно, выдавая себя за пруды. Остальная часть подвалов, приблизительно девять десятых, принадлежала масонской ложе. Были подвалы не особенно глубокими, но на диво просторными, из-за них даже подземного перехода через Садовое кольцо возле Кудринской нельзя было построить. Там, за тысячами сорокаведерных бочек бастра и мальвазии, то есть, конечно, сплошного абрау, но древние запреты ложи не разрешали думать и выражаться современными символами, – располагалась комнатушка, где ложа «Лидия Тимашук», или, иначе, Ложа Жены Великой Добродетели, проводила свои агапы, – иной раз даже с водочкой.
Одновременно с поместным мастером-вредителем через несколько дверей вошли в комнатушку шесть из девяти членов ложи. Свое председательское место давно уже занимал венерабль-вредитель Горобец, или, по-здешнему, брат Владифеликс Виссарэдмундович. Напротив него, на другом конце длинного деревенского стола, сидела пожилая, даже очень пожилая женщина, чье присутствие в масонской ложе было загадкой даже большей, чем сам Горобец. Звали ее просто Баба Леля; носила она с самого, кажется, основания ложи звание ритора-витии и каждый раз поднимала бунт, если кто-либо в обращении ронял привычное масонскому уху «сестра-вредительница». «Никакая не вредительница! – вскипала Баба Леля. – Сам ты вредитель», – и допустивший оплошность, памятуя, что это чистая правда, что он самый настоящий почетный вредитель, а Баба Леля старейший член ложи, смущенно умолкал. Беря в руки любой предмет, вручаемый ей во время агапы-заседания, Баба Леля говорила загадочное заклинание: «Беру и помню». Известно было о ней совсем немногое: что живет она под Москвой, что она вдова сельского учителя, мучится подагрой и ревматизмом, а желчный пузырь у нее и вовсе вырезан. Ходил также слух, что она знает все: только вот думы в ней много, а ничего не скажет. Однако совершенно достоверен был тот факт, что однажды к ней за консультацией обращался сам предиктор ван Леннеп, и ему Баба Леля сделала исключение, ответила. Она сказала: «Да кто же его знает, милок», – и ван Леннеп был ответом совершенно удовлетворен. Еще было известно, что происходит она из каких-то дремучих старообрядцев-забайкальцев, и это в глазах членов ложи придавало ей колорит еще большей таинственности – такой таежный.
Когда все восемь членов ложи опустились в положенные им кресла, Горобец расправил полы своего просторного белого балахона, ритуально похлопал по два раза под каждым ухом, что повторили за ним все присутствующие, кроме Бабы Лели, которая по причине подагры вот уже лет двадцать как не похлопывала. Горобец чуть привстал и простер перед собой руки.
– Порадеем? – вопросил он.
– Порадеем! – ответила часть голосов. Одно место за столом пустовало, Баба Леля, ясное дело, молчала, а хранитель печати был к членораздельной речи сегодня не расположен.
– Что содеем?
– Все содеем!
– Ча-ча-ча да чи-чи-чи! На печи сидят врачи! Долбят носом кирпичи! Ты, Лидуха, не молчи, паразитов проучи! Лидия! Лидия!
– Буду в лучшем виде я! – по долгу, низким голосом ответила Елена, хоть и неприятно ей было изображать Лидию Тимашук.
– Лидия отличная!
– Справлю дело лично я!
Председатель снова похлопал, и вступительная часть кончилась. Заговорил Хамфри Иванов: длиннобородый, угрюмый, искренне улыбающийся при этом, вечно сексуально напряженный, – это было слышно даже Елене, на что уж она себя застрахованной от мужских чар считала, а ее тоже задевали волны половой энергии, исходившие от хранителя печати.
– Ла-ла-ла-ла! – понижая и повышая тон, начал он, – ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
– Брат вредитель, вы правы, – нимало не смущенный, ответил Горобец, – но это не все на сегодняшний день. Есть и более сильные слоги.
– На-на-на! – радостно-утвердительно закивал Хамфри, – на-на-на-на-на!
– Вот хотя бы, – миролюбиво согласился Горобец, – но и это не все на сегодняшний день. Есть и более сильные слоги. На-на – очень сильный слог, согласен. Но не самый сильный.
– На-на-на-на-на-на-на-на! – багровея, возразил Хамфри, сильно повышая тон, но его оборвала Баба Леля:
– Ой, чего ты так кричишь! Чего так кричишь! Сперва пусть поедят, потом поговоришь… Дай поесть людям, венерик!
Венерабль, ничуть не смущенный обращением «венерик», согласно кивнул. Баба Леля вынула из-под стола привезенный ею традиционный торт в форме кирпича, и толкнула его через стол Горобцу.
– Беру и помню, – тихо, но отчетливо произнес Горобец.
– Уж и кила ирисок-то жалко, – неодобрительно буркнула Баба Леля. Этот диалог повторялся каждый раз, лишь очень давно, когда Елена сюда еще доступа не имела, рассказывали, приключился такой конфуз, что Горобец, приняв торт, никакого «Беру и помню» не сказал. Тогда Баба Леля громогласно и торжествующе провозгласила: «Бери и помни – гони ириски!» Горобец извлек из складок балахона кулек, Баба Леля его приняла, сказала «Беру и помню», поглядела в кулек и добавила уже неодобрительно: «Мог бы и сливочные». На следующий день сняли Булганина.
Горобец взял серую тяжелую лопаточку из благородного металла и быстро принялся нарезать торт: славен был венерабль-вредитель своим бесподобным искусством нарезать торт на неравное от случая к случаю число кусков, притом разного размера, согласно званию присутствующих, не оставляя при этом ничего лишнего. Полученный кусок полагалось съедать дочиста, что представляло собой символ неутечки информации из ложи. Лишь Баба Леля имела право свой кусок до конца не съедать, обычно она его только надкусывала – все-таки желчный пузырь вырезан! – и заворачивала в газетку, чтоб увезти с собой для неведомых домашних надобностей. Ходили слухи, что младшая ее внучка, личность бесцветная, на этих пирогах выросла. Баба Леля с самого основания ложи пекла торт сама, для чего брат казнохранитель каждый раз выдавал ей один рубль пятьдесят две копейки: сырьевая цена торта была установлена раз и навсегда, девальвации и понижения цен на ней не сказывались. Больше тридцати лет Баба Леля брала эти рубль пятьдесят две и твердо говорила: «Беру и помню».
Елена нехотя доела свой кусок, он нарушал ей диету, но открыто идти против правил ложи из-за какого-то торта определенно не стоило. Хорошо еще, что торт был крестьянский, без крема, больше напоминал коврижку, проложенную слоем какой-то бедной ягоды, кажется, черемухи. Хамфри свой кусок тоже доел и начал с новой силой:
– Ла-ла-ла-ла-ла…
– На-на-на! – одернул его Горобец с помощью более сильного слога, и бородач пристыженно замолчал, пробормотав только что-то вроде «тала-бара-ката-маза-гада…» – Так вот, братья вредители. Пустует среди нас пост великого попрошая! Пустует, и милостынька приходит в нашу казну ох как неудовлетворительно!
«Черта с два, – подумала Елена, – это в мою казну неудовлетворительно, а в твою, сволочь, все в сроки сдаю».
– И предстоит нам, братья, порадеть о новом члене! – Хамфри собрался снова залопотать, но на него цыкнула Баба Леля. – Брат Ужаса, прошу вас.
Бибисара Майрикеева, знаменитая московская целительница, скульпторша и певица, служившая в ложе «приуготовителем-вредителем», или же «сестробратом Ужаса», откликнулась немедленно:
– Увы, увы, увы! Кандидат Всеволод, коему мы доверчиво протянули нашу дружескую руку, отверг ее! Ответил, что не знает, чем даже очень чистые душой масоны могут помочь великому делу истребления милиционеров.
– Недостоин. Пусть, – твердо сказал Горобец. – Второй кооптированный?
Глаза Бибисары сверкнули:
– Готов принять свет истины!
Елене сразу стало скучно. Это означало, что сейчас начнется обряд посвящения в члены ложи, а это затянет агапу на лишний час. Тем временем в далеком Свиблове отец, видать, давно уже смотрит на часы, но судьба ему нынче сидеть и ждать с зоопарковскими друзьями, выпивать по наперсточку, курить, вспоминать прошлое и сидеть, и сидеть, и сидеть. Но никуда не денешься. Без масонства нынче ни до порога.
Рекомендации у «профана» были внушительные, как доложила Бибисара. «Одна индийская махатма» за него очень и очень просила, притом когда еще была живая, потом ее сепаратисты ужасно сепарировали. Да и сам «профан» был человеком довольно известным, он был поэтом, хотя и твердил на каждом углу, что он «всего только старая скважина», и писал он не стихи, а мутации. Самая его знаменитая мутация «Ты должен быть, вбывать и выбывать, и вновь вбывать, и выбывать, вбывая!» как-то раз на заседании ложи «Лидия Тимашук» послужила долгим предметом предагапного собеседования. Елена Эдуардовна вообще-то в гробу видала все мутации и все правила поведения для тех моментов, когда на тебя никто не смотрит, но чарующе-глупое «быва-быва-быва» даже ей запомнилось.
Погас, как обычно, свет, прозвучало несколько аккордов знаменитого хита «Молчи ты, Сольвейг» в исполнении ансамбля «Гага». Потом вспыхнул мощный прожектор и высветил за спиной впавшего в прострацию Хамфри Иванова белую дверь, которая нарочито медленно уползла в сторону. На пороге стоял одутловатый человечек лет пятидесяти, босой, в белой полотняной рубахе и таких же портках. Елена брезгливым и зорким взглядом сразу заметила на них метки прачечной. «Профан» держал в руке зажженную свечу, в луче прожектора довольно бесполезную, однако сильно чадящую. В другой руке, как того требовали правила приема в ложу, он держал пачку денег зеленого цвета. Меж бровей человечка ясно виднелось плохо отмытое пятно; обычно Сидор Валовой ходил по Москве с намалеванным тилаком, но Бибисара знала твердо, что подобных игривостей венерабль не одобряет, индусский символ пришлось отмыть.
«Молчи ты, Сольвейг» затихло, натужно хряснули изношенные долгим профанированием рычаги, из-под потолка опустилась огромная деревянная нога, разрисованная – согласно легенде – красками с палитры если не самого знаменитого Никанора, то уж точно с палитры знаменитого его индийского сына Блудислава. Поскольку ложа «Лидия Тимашук» всегда состояла на две трети из женщин, условно именуемых здесь сестро-братьями, к ноге был привинчен железный каблук-шпилька, вонзившийся в пол за спиной «профана»; носок ноги опустился прямо на его голову и заставил присесть на корточки – впрочем, Горобец держал руку на рычаге и следил, чтобы посвящаемый сохранял остатки соображения и чтоб ветхое бельишко на нем тоже не лопнуло, – как-никак престиж будущего великого попрошая-вредителя тоже особо не должен был страдать раньше времени.
– Имя твое? – прогремел из-под потолка многократно усиленный голос Горобца.
– Сидор… Маркипанович Валовой…
– Ложь!
– И… Исидор…
– Ложь!
– Правда, Исидор… Член союза… В билет посмотрите… Правда, Исидор… Потомственный долбороб…
– Кончай брехню, долбороб! Прошу – Глас Истины! – Горобец возвел взоры к динамику, откуда послушно зазвучал загробный, очень низкий, специально подобранный в радиокомитете голос:
– Дуппиус Исидор Маркипанович. Отец: Дуппиус Маркипан Маркович, сотрудник спецторга СССР до тысяча девятьсот сорок седьмого года, по национальности метис. Скончался в одна тысяча…
Бедный поэт, придавленный деревянной ногой и гнетом собственной лжи, корчился на полу, члены ложи зевали одними ноздрями, кроме Хамфри, который все лопотал какой-то беззвучный слог. Фамилию Валовой носил материнскую, мать его была жива и до сих пор торговала театральными билетами в киоске у Павелецкого вокзала. Дальше зазвучали ужасные подробности происхождения бабушек и дедушек Сидора, но Елену Эдуардовну заинтересовать чьей-то липовой биографией было невозможно, она даже как-то удивлялась, что ее собственная биография содержит так мало липы, верней, тому, что ей о себе самой так много известно. Бархатный призрак из радиокомитета дочитал родословную Сидора. Сидор заскулил.
– Вступая в Ложу Девяти, помни, гнусный, о кандидатском стаже! – Горобец перешел ко второй части посвящения. – Помни, ничтожный, что таланта у тебя шиш! Даже ни шиша!
Каждому новопринимаемому Горобец наносил наибольшее возможное оскорбление. Помнится, принимая Бибисару, он объявил ей, что, сколько она не блядствуй и не колдуй, все равно останется она на всю жизнь наивной невинной девушкой. Про свой прием Елена Эдуардовна ничего не помнила, она умела все неприятное сразу забывать. Она подремывала, нашаривая под зубопротезными мостами кусочки торта Бабы Лели. Бибисара и еще два сестробрата, тоже из электросенсов, или как их там, все же как-то следили за процедурой «умаления профана». Прочие были в отключке, очень уж все надоело. Наконец, канонический поток помоев иссяк, Горобец встал и сделал шаг к Сидору.
– Несчастный! – взвыл он уже сам по себе, без всякого усилителя. – Червь! Жидовская морда! – Не по годам лихо Горобец врезал Сидору в левое ухо. Тот упал бы, если б мог. Следом трижды включился и выключился мощный вентилятор: в Сидора вдувался «масонский дух». Горобец отошел к столу и щелкнул рычагом, деревянная нога с отчаянным скрипом уехала под потолок. Сидора подхватили служки в белых балахонах. Из темноты возникла большая кадка, от которой сильно разило аммиаком. Теоретически считалось, что там смешана сперма дракона с кровью льва, на деле, видимо, в обычную водопроводную воду вливали нашатырный спирт и досыпали марганцовку. Кадка опрокинулась на голову Сидора с тем, однако, чтобы ни свечу не затушить, ни деньги не замочить.
– Добрый молодец! Ты больше не жид! Ты еси гой! – обрадованно объявил Горобец. – Радуйся! Внеси вступительный взнос!
Сидор безропотно протянул пачку зеленых бумажек расторопному сестробрату-казнохранителю, высокой, несколько усатой женщине. Та мигом обменяла доллары на рубли по курсу Центрального Императорского Банка, отсчитала рубль пятьдесят две и протянула их сладко похрапывающей Бабе Леле.
– Беру и помню! – очень бодрым голосом объявила та, взяла деньги и захрапела снова. Служки подвели сильно воняющего Сидора и усадили в пустое кресло. Отныне он стал великим попрошаем-вредителем ложи «Лидия Тимашук». «Все же с какой швалью возимся», – подумала Елена. Была ведь в Москве еще и третья ложа, но в ту никто из Шелковниковых пока проникнуть не мог. Состояла она из трех человек, а место ее заседаний никогда засечь не удавалось, – может быть, она и не заседала вовсе. Возглавлял ее, понятное дело, Горобец, еще входил туда какой-то неведомый священнослужитель с Брянщины, известный лишь своим пристрастием к игре на некоем музыкальном инструменте, не то на баяне, не то на саратовской гармонике. Москву он то ли посещал наездами, то ли не посещал вовсе, то ли вообще был лицом вымышленным. Третье место, кажется, пустовало, его Елена Эдуардовна была бы не прочь занять сама, но загадочная Верховная Ложа кооптировала туда какую-то другую женщину: то ли Донну, то ли Донью, узнать о ней пока что удалось лишь то, что она наполовину француженка, вроде бы хороша собою и молода. Сфера влияния этой третьей ложи была совершенно непонятна. Возможно, что ложа эта вообще ни на что не влияла, только устрашала всех прочих масонов своим возможным существованием.
– Но помни, брат, о кандидатском стаже! – уже довольно спокойно сказал венерабль. – Не выдержишь – пришьем!
– Шейте! – восхищенно ответствовал Сидор.
– Итак, братья-вредители, вопрос второй. Теперь мы в полном кворуме, поэтому наши решения становятся еще более законными, как и держава наша тоже очень и очень узаконивается согласно принятым нами мерам по ее модернизации, повышается качеством своей законности, легитимнеет буквально на глазах. Призванный нами монарх уже почти утвердился на своем родовом престоле, и, как только последует намеченная на второй четверг кончина… известного лица, во второй четверг ноября состоится коронация нашего государя. Поэтому полагаю необходимым одного из наших братий заслать на коронацию, чтобы тот был нашими глазами, ушами, носом, языком и кожей, высматривал бы, прислушивался бы, вынюхивал бы, пробовал бы, осязал бы. Полагаю, что сестробрат наместный мастер-вредитель сможет сослужить нам эту службу.
Елена кивнула. Хотела бы она видеть любого другого из здешних гавриков на коронации в Успенском соборе и на трапезе в Грановитой палате. Впрочем, не удивилась бы она, увидев на коронации самого Горобца, не удивилась бы появлению его ни в какой роли, – разве что неприятно было бы увидеть его в роли коронуемого. Уж не он ли сам придумал идею возобновления монархии в России, обуявшись комплексом незаконности своей масонской власти? Горобец продолжал.
– Итак, братья-вредители, вопрос третий. Напоминаю, что один из кандидатов наше предложение о вступлении в ложу отверг. Можем ли мы не покарать его за подобное небрежение?
– Не можем! – возвысила грудной голос Бибисара.
– Прошу не забываться, – оборвала ее Елена официальным тоном, действительный тайный советник Глущенко неофициальным приказом его будущего императорского величества назначен на пост министра внутренних дел Российской Империи. Можем и не карать.
– Себе дороже, – подтвердил Горобец, – можем и не карать. Тогда четвертый вопрос. Сегодня в нашей ложе гость.
Прожектор высветил дверь за спиной Бибисары. Она распахнулась, на пороге стоял высокий, очень смуглый мулат с прямыми чертами лица, с длинным носом и ровными волосами, почти доходящими до плеч. Мулат кивнул и пошел к столу, где служки поставили ему кресло рядом с Бабой Лелей.
– Ла-ла-ла-ла-ла-ла… – опять заговорил Хамфри Иванов, явно обращаясь к пришедшему. Тот с вниманием слушал долгое и богато модулированное лалаканье, но Горобец вмешался.
– Воистину, брат хранитель-вредитель, воистину! Однако ведь это не все! Гость, полагаю, может поведать нам еще многое и помимо этого драгоценного слога.
Хамфри замолк, а гость кивнул. На миг повисло молчание. Горобец продолжил.
– Наш гость прибыл в Москву с целью участия в коронации. Будучи изолированным руководителем изолированной ложи, с которой мы уже двадцать лет как заключили конкордат, наш гость сам скажет нам все, что посчитает нужным сказать.
– Ла-ла-ла… – снова начал Хамфри, гость резко его прервал и обратился сразу к нему:
– Ма-ма-ма-ма-ма! Мама! Мамамамамамамамамамама!
Хамфри побелел, откинулся на спинку кресла и стал медленно сползать на пол. Гость удовлетворенно цокнул языком. Горобец кивнул и продолжил:
– На-на-на-на-на-на! Я же говорил вам, брат-вредитель.
Хамфри закинул голову и, видимо, потерял сознание; возникшие из темноты служки быстро подхватили кресло Сидора вместе с ним самим и сунули воняющего нашатырем попрошая прямо под нос хранителя печати. Тот с трудом разлепил глаза. Сидора убрали. Мулат молчал. Видимо, он вообще не считал нужным говорить что-либо сверх уже изложенного.
– А-а-а-а-а! – четко и раздельно, как говорят детям, сидящим на горшке, вдруг проговорила Баба Леля. Хамфри от ужаса рухнул в новый обморок. Елена перевела глаза на мулата и увидела, как его оливковое лицо сереет, как судорожно вцепляются его тонкие пальцы с обведенными темной каймой ногтями в подлокотники кресла. Видимо, и он не ожидал услышать подобное.
– А-а-а! – яростно вращая глазами, в гробовой тишине закончила Баба Леля. Возразить было нечего.
КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ
1982–1984








