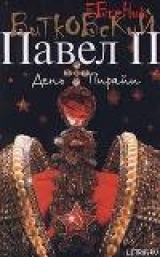
Текст книги "День пирайи (Павел II, Том 2)"
Автор книги: Евгений Витковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
8
Муху из стакана выкинешь, а с женой – что делать…
САША ЧЕРНЫЙ. УЮТНОЕ СЕМЕЙСТВО
Очень отчетливые такие насекомые, крупные, как чернослив, раньше их тут, кажется, для богатства разводили, а теперь они уже сами. Одно приятно в профессии, что ни в котором облике они тебя не кусают. Чуют.
По ассоциации вспомнил Рампаль свой царственно-дезинфекторский облик, в который был введен неведомыми до того дня серьезной западной науке сибирскими пельменями. На досуге, а в последнее время у оборотня было оного немало, он об этих пельменях статью для служебного журнальчика написал; журнальчик этот на двадцати пишущих машинках распечатывал ушедший на пенсию множественный оборотень Порфириос, – то ли питал старик отвращение к любому современному множественному средству, то ли искал способа занять свои очень множественные руки. Выходило по науке так, что в случае необходимого мгновенного постарения без выхода из принятого образа пельмени эти, фабричного производства, с начинкой из мяса неопределимого происхождения, чуть ли не вдвое превосходили эффективностью столь дефицитную сушеную левую заднюю лапку суринамской пипы, обработанную креозотом и слюной пантеры. Ради этой пипы сколько средств у налогоплательщиков американское правительство повыгребало, а пельмени в Свердловске – на каждом углу, и какие эффективные! Экономный француз не сомневался, что его научная работа будет положительно оценена начальством. Эх, кабы чем заменить и морского ежа!
Сейчас Рампаль не был ни царем, ни дезинфектором. Насекомые, обильно заселявшие его отдельный двухкоечный номер в гостинице «Золотой колос», получили полную свободу ползать и по потолку, и по полу, и по единственному, обе койки снявшему жильцу. Перебираться сюда пришлось вслед за Софьей, видимо, сильно перетратившейся, из более комфортабельной «Украины». Одно хорошо, что горничные тут не пристают, а только презирают за то, что у него пустых бутылок не остается. Эх, да Господь с ними, с женщинами, вечно только неприятности.
Мыслей за последние месяцы «почти-что-отдыха» в голове оборотня перебывала тьма-тьмущая. Были, конечно, мечты о научной карьере, – вот как он на пенсию выйдет и ферму купит под родным Аркашоном, или, на худой конец, где-нибудь под Новым Орлеаном, обязательно с уютным, в пятидесятые годы любовно и со страхом выстроенным прежними хозяевами бомбоубежищем, нынче, понятно, потерявшим свой первоначальный смысл начисто, но как хорошо там каминную сделать или комнату для тенниса! Вот там и сидеть бы у огня, наукой заниматься в своей природной шкуре, и писать мемуары, скажем, под таким заголовком: «Как я был разными вещами», в книге этой, конечно, его нынешние российские похождения займут немало места. Тут Рампаль понял, что название книги мысленно произнес по-английски, и горько взгрустнулось его французской душе.
Было почти одиннадцать, весеннее солнце светило вовсю прямо в старческое лицо Рампаля: он находился в облике президента Теодора Рузвельта, но для полной неузнаваемости удалял с лица все волосы вплоть до бровей, брил голову и ел два пельменя ежедневно. Однако же Рампаль из-под одеяла и не думал вылезать. Подслушивание, проведенное им в комнату Софьи, говорило, что потенциально-нежелательная русская императрица почивает, сквозь зубы бубня грубый русский глагол в угрожающей форме будущего времени, – радиотрансляция же на подоконнике долго и упорно молчит, хотя ей в такое время положено истекать музыкой.
Рампаль дотянулся до штепселя своей радиоточки и потыкал им в розетку: что за молчание, какую такую там космонавтику запустили? У них здесь такое молчание либо космос означает, либо похороны очень серьезные. Нет, сейчас, конечно, будут похороны: ради космоса они тут молчат короче, никому уж не интересно, и без того все время кто-нибудь у них отсидку на орбите отбывает. Похороны, ясно. Где они улиц-то напасутся? «А вдруг…» – мелькнуло в Рампалевой президентской голове, неся отзвук робкой, недозволенной армейским уставом надежды. Одних-то конкретных похорон ждал он более всех других событий на свете, они немедленно освободили бы его от наблюдения за Софьей, которая все-таки сильно ему надоела походами по пустым, но полным покупателей магазинам и бесконечными поездками по разным концам подлежащей перепланировке Москвы. В магазинах то там, то здесь появлялся какой-нибудь новый, ранее не продававшийся предмет, к примеру, в апреле шла молодая картошка, называлась она «кубинская», из чего явствовало, что с некоей картофелеобладающей страной отношения улучшились, – но когда Софья в меховом магазине, где меха, сильно подорожавшие, все-таки были, задала вопрос, часто ли бывают манто из меха панды, продавец просто залился смехом, и стало ясно, что отношения с пандообладающей страной, похоже, нынче ухудшились. Глухие волны мировой политики бились в московские прилавки, донося рокот событий на Ближнем и Дальнем Востоке, в Центральной и Крайне-Северной Америке, отовсюду, с кем только еще могла испортить отношения заканчивающая исторический этап развития держава. Рампаль никак не мог надивиться: неужели им не понятно, что любое появление чего бы то ни было на их прилавках – результат не переменного улучшения-ухудшения отношений, а всегда и без исключений только результат ухудшения таковых? Пропало масло – значит, испортились отношения с той страной, откуда его ввозили, появилось – значит, испортились отношения с другой страной, куда вывозили… А Софья, с головой захваченная идеей реконструкции столицы, мерила солдатским шагом разные московские монастыри и заставы, помечая что-то свое на купленной в киоске туристической карте Москвы. На месте древнего Новодевичьего монастыря Софья поставила жирный крест видимо, монастырь подлежал сносу, потому что на полях она приписала: «Будущий мемориальный комплекс Софьи I». Увы, подумал Рампаль. Видимо, неприязнь к женщинам обречена была пребывать вместе с ним до конца дней. Но и Господь с ними, еще много хорошего есть на земле и помимо них.
И вдруг тишина закончилась. Проклюнулся, как из тухлого яйца, голос оперного недоноска из-за пыльной ткани, обтягивающей динамик. Не лопотание поплыло оттуда, не размеренное заупокойное канонархание, уместное любому известию о кончине главы правительства, а нечто вроде выкликания слов по отдельности, со все большей энергией, обещающей главную информацию в следующем, еще не выплюнутом слове: «комитета» – еще совсем тихо, «коммунистической» – уже громче, «партии» – с оттенком угрозы, «Советского» тоном ультиматума, «Союза» – берегись, прячь баб!.. Потом опять потише: «девятнадцатого» – эдакое зыбкое волнение на Черном море, «апреля» – та же зыбь, но уже тихоокеанская, «в восемь» – вроде прилива у берегов Лабрадора, «часов» – как небольшое цунами, «пятнадцать» – как большое, «минут» извержение нового, доселе не известного вулкана на территории Демократической Антарктиды, из которой даже архиепископ Архипелагий безо всякого самолета слинял в прошлую пятницу… Господи, неужто все-таки помре?..
Дальнейшее произошло для оборотня все как-то сразу, вплоть до выбегания из гостиницы примерно через час. Но в сознании отложилось, что сегодня двадцатое, день рождения очень популярного в Советском Союзе западного военного преступника, впрочем, преступник сам по себе никого особенно не интересовал, всем нужен был его воскресший дух, а таковой был не так давно весьма искусно воскрешен Фердинандом Резникяном в очень-много-серийном телефильме, называвшемся, помнится, «Восемь с половиной мгновений тоже плачут», как раз по погоде. Иначе говоря, вождь умер вчера утром, а он, Рампаль, был свободен уже больше суток, но, как хризантема в проруби, мотался за солдатообразной бабой! Не могли уж подождать до дня рождения собственного вождя, до некруглой годовщины, но какова получилась бы магия чисел – двадцать два – сто одиннадцать – и бабах! Сразу бы ясно тогда, отчего именно все случилось, а так будут в народе сомнения, но хрен с ним, с народом. Постановления же о переименовании мыса на Чукотке, реки Вилюй, городов Почепа и Мологи, трех улиц в Алма-Ате и двух в Тирасполе в знак увековечения памяти загнувшегося премьера неслись мимо сознания оборотня. Инструкций больше не имелось, точней, они хранились в запечатанном конверте у коллеги-оборотня Сазерленда, уже который год исполнявшего роль очередного американского военно-морского атташе; таковых советское правительство от себя чуть не каждую неделю высылало, и экономичней было держать на этой роли одного и того же оборотня, летающего в Вашингтон и обратным же рейсом возвращающегося в новой плоти. Но – думал Рампаль – нельзя же так просто и эту дуру бросить, у нее билет на самолет на одно из последних апрельских чисел, она ж дотратилась! У нее подлинники исторических документов, у нее план ее собственной перестройки Москвы! Хотя все в копиях имелось и у Рампаля, но, рискуя выговором, мнимый Рузвельт полез в тумбочку, там на крайний случай хранилась бутылка совершенно драгоценного по здешним меркам напитка: водки «Лимонная», без единой русской буквы на этикетке. Мысленно Рампаль перекрестился, отчего-то по-православному – и высадил больше чем полбутылки единым духом, без закуски. Ее у него, впрочем, и не было, того гляди съешь что-нибудь недиетическое, превратишься в… хорошо, если козленочка… Нет, совсем неплохой напиток, хотя делает тебя только самим собой и никем другим…
Несколько минут прошло в напряженном прислушивании: не вломится ли в его сознание приманенный незнакомым напитком индеец Джексон со своим историческим вопросом. И вдруг вместо этого голову Рампаля стали как бы пронизывать голоса потустороннего мира. Оборотень не знал, что индеец недавно перенес белую горячку и стал периодически работать теперь как огромная трансмиссия от множества одних пьяных мозгов к множеству других, чем с необычайной ловкостью воспользовался Форбс: его за подобное открытие, конечно, повысили бы в чине, если бы имелось куда повышать. Правда, непьющему древнему китайцу пришлось стать пьющим, и то, что китайским поэтам-пьяницам приносило немеркнущую славу, теперь неплохо работало и на американского генерала австралийских кровей. Форбс самостоятельно, через сознание Джексона, находил нужных ему нетрезвых и вступал с ними в сношение, – разумеется, позволив индейцу сперва выпросить все, что было ему интересно. Сквозь первый слой мыслей порой проступали другие слои, мог послышаться лай бесшерстых в бункере Джексона или шорох рассаживающегося в генеральском кабинете множественного грека, могла послышаться чья-то пьяная брехня с другого конца земли или даже с другой планеты, а еще можно было ненароком забрести в пьяную голову собутыльника и взглянуть на себя со стороны, но командовал всем этим огромным пьяным хозяйством все-таки в принципе непьющий генерал. К своему ужасу Рампаль обнаружил, что пьет Форбс не что-нибудь, а советскую водку «Лимонная» в экспортном исполнении, без единой русской буквы на этикетке, причем пьет не потому, что напиток этот неизвестен Джексону, а потому, что напиток этот зачем-то нужен присутствующему господину множественному оборотню Порфириосу. Неужели это не просто водка, возвращающая человеческий, нормальный облик? Испуганный Рампаль пытался уследить, не становится ли он козленочком, и не мог: зачитываемый на совещании в кабинете Форбса текст расшифровки очередного ночного бреда Джексона лился в его голову через все хлебнувшие в этом кабинете мозги, и ничего другого не оставалось, как слушать, что читают.
«…тогда Джемалдин сказал, что у них положено не одну женщину делить на двоих джигитов, а самое малое трех женщин иметь каждому… И что в конце концов я ему и кровь-то как следует разогреть не могу, поэтому они больше с собой меня возить не хотят, а отвезут куда-то в горы, меня у них алтаец соглашается взять незадорого, если гордая не буду и работать буду. Я тогда уже на все согласна была, лишь бы на меня каждый чеченец по четыре раза за ночь не лазил, думала я, главное – от чеченцев избавиться. Наутро меня Ахмет посадил в „жигули“, синие, помню, отвез потом сюда, сюда-то дорога есть, но километров с тридцать все по склону, ни вправо, ни влево, захочешь уйти, непременно догонят, изобьют, вернут. Пробовала я, больше не попробую…»
Незнакомые имена проплывали перед сознанием Рампаля в сложной латинской транскрипции, видимо, и сознание самого референта было тоже подключено к Джексону. Убедившись в невозможности скосить собственные глаза, чтобы убедиться в отсутствии незапланированной метаморфозы, Рампаль скосил глаза несобственные, чужие ирландские глаза скосил, усилием воли прочел заголовок зачитываемого текста и его первые строки. И защемило сердце.
«Жалоба (плач) императрицы (товарища) Екатерины Васильевны (Власьевны, Вильгельмовны) Романовой (урожденной Бахман) по поводу ее длительного пленения (продажи в рабство) в аймаке (селении) Горно-Алтайской Автономной Советской Республики (территория оспаривается Западным Китаем) в качестве четвертой жены (наложницы, скотницы) у неизвестного вероисповедания автохтонного скотовода-кумандинца».
«…и вспомнила я совет старичка в Свердловске, что, когда станет мне в жизни совсем невмоготу, чтобы выпила я водки, я, значит, утащила у хозяина бутыль с… непереводимо, видимо, имеется в виду молочная водка однократной перегонки, домашнего приготовления, на основе ферментированного конского молока, популярный у коренных народов центральной Азии напиток, – и выпила, сколько не затошнило. Вот и мерещится мне, что разговариваю с кем-то, вот и сожалею о горькой моей и разбитой жизни. Ох, да полетела бы я к речке Исети, смочила бы головушку… Ох, как домой охота. Паша ведь если даже всю милицию в Свердловске и здесь на ноги поставит, не сыщет меня, наш аймак такой, что над ним хозяин горы живет, а здешняя милиция хозяев этих боится больше начальства. Они тут все без паспортов и без переписи, говорят по-ойротски только, хозяин десять слов со мной по-русски говорит, не горы хозяин, а мой хозяин, тот, что меня у чеченцев купил. Расскажу-ка по порядку, с тех пор как из Свердловска ехала я, и меня двое чеченцев…»
Куда же это послал он, Рампаль, бедную женщину, на съедение каким-то азиатам? Получалось так, что именно это он и сделал, хотя говорил он Кате только то, что предписывалось инструкциями, исходившими, конечно, из предсказаний ван Леннепа, но, однако, все же обречь женщину на такие испытания! Вспомнив свои собственные страдания в женском облике, Рампаль несколько успокоился: время сгладило чувства непоправимости происшедшего. Он перестал косить чужие глаза, – его усилия могли ненароком ударить по О'Харе, и переключился исключительно на слуховое впечатление. Голос ирландца-референта тем временем продолжал:
«Чай они тут пьют страшный, с бараньим жиром, с мукой, живут, в общем, сытно, но антисанитария!.. Крылья бы мне, крылья бы мне, крылья бы мне…»
«Достаточно, O'Хара», – вознесся колокольный голос Форбса, чье сознание держало сейчас всю подвыпившую аудиторию в узде, и, видимо, оно-то Рампалю и не давало открыть собственные московские глаза. Зато глазами Форбса увидел Рампаль генеральский кабинет, и в первую очередь развалившегося в восьми одинаковых креслах, в восьми одинаковых позах мэтра Порфириоса: все восемь стареющих студентов мормонского университета в Солт-Лейк-Сити покуривали одинаковые трубки, вопреки категорическому запрету своей религии; Порфириос опознавался в этих студентах немедленно. Что-то застопорилось во время очередного марша-протеста в организме престарелого оборотня, и меньше чем в восемь тел он собраться не мог. Оборотень, как известно, живет две жизни: первую простую, с превращениями во что захочется, а чаще – во что велят, и вторую, когда, дожив до старости, он последний раз может превратиться в молодого человека и стареть еще раз вплоть до естественной смерти, но вторая эта жизнь сопряжена со строжайшей диетой, чуть съел что-то переоборачивающее рискуешь рассыпаться прахом. Вот такой добавочной жизнью жил сейчас Порфириос в своих восьми телах, ничем особенно не рискуя, ибо восемь голов в восьми умах расчеты делали почти с компьютерной скоростью, Порфириос никогда не позволил бы себе обернуться восемью старыми козлами.
«Итак, данная информация в свете предсказания мистера ван Леннепа о предстоящей вчера кончине глубокоуважаемого генерального вождя, в настоящий момент на связи с нами находится в должной контактно-спиртовой кондиции…»
Громовое самосознание Джексона, внезапно проснувшись, раскатилось голосом Господа Бога:
«Жан-Морис Рампаль, по его собственному свидетельству, только что пил не спирт, а советскую водку „Лимонная“ в экспортном исполнении, по моим данным, являющуюся, в отличие от большинства советских водок, продуктом перегонки…»
«Когда я успел ему ответить?» – подумал Рампаль, но из-под громовых мыслей Джексона снова пробился голос Форбса, умеющего, как выясняется, даже и алкогольных телепатов ставить на место, не теряя их расположения: «Благодарю вас, мистер Джексон, напоминаю, что мы в данный момент эту проблему уже изучили практически, уже не рассматриваем более», – Джексон вспомнил, что именно пьют все присутствующие, сконфузился и уплыл куда-то на дно. – «Как все уже поняли, капитан Рампаль находится в данное время на прямой связи с нами, поскольку мы, пользуясь терминологией мистера ван Леннепа, упились в рабочее время, и то же сделал он, с крайней степенью риска нарушая предсказания предиктора, однако же в полном соответствии с нами, ибо через полчаса горничная без стука войдет в его номер, и он должен успеть убраться с глаз долой, иначе расширяющийся инвариантный поток чреват для Соединенных Штатов так называемой Орегонской Проблемой…» – «Знать бы еще, что это такое…» просочилось в эфир из подсознания Форбса, – «поэтому передаю слово вам, господин Порфириос, обращайтесь прямо к капитану Рампалю, мы будем транслировать», – тут Форбс явно сделал большой глоток, Рампаль тоже вслепую нашарил бутылку и допил ее.
Множественное сознание Порфириоса алкоголем почти не дурманилось, ему ли, иной раз заполнявшему тесными рядами марша-протеста всю дорогу из Пасадены в Голливуд, или же половину улиц Филадельфии, скажем, было окосеть с такой дозы! Мысли его до Москвы не долетали, но голос проникал в уши Форбса и в уши прочих присутствующих, а потом долетал через их хмельные мозги в продувное сознание выздоравливающего индейца – прямо в погрустневшее сердце Рампаля. Невероятность грядущего превращения стала ему ясна с первых же рунических индексов умножения массы, которыми престарелый оборотень начал чтение совершенно непонятной не-оборотням магической формулы. Рампалю предстояло превращение в нечто столь большое, что начинала кружиться бедная Рампалева голова, пока еще сидевшая на природно-человечьей шее.
«Трижды девятнадцать опаленных маховых перьев сенегальской дрофы, вдохновенно произнес Порфириос, – вода святого Хызра в полной фазе минус огнистый жабник и два перекати-поля…» – Рампаль наскоро и вслепую стал записывать формулу на этикетке «Лимонной», бутылка была скользкой, а диктовал грек слишком быстро, но, кажется, удалось все-таки без ошибок. Потом, почти без перехода, видимо, по команде Форбса, стал диктовать инструкции Мэрчент. Рампаль от ужаса трезвел, голос полковника удалился, и слова «…до получения дальнейших указаний» донеслись в «Золотой колос» уже словно с берегов Коцита. Оказывается, в посольстве для Рампаля была приготовлена не инструкция. Был там заготовлен невкусный предмет, который следовало проглотить, дабы полноценно обернуться. Был предмет угловатым, зато небольшим, с куриное всего лишь яйцо, однако неизвестно зачем пятигранное. Как сказал зачем-то Мэрчент, только благодаря верному другу США, свободно и всенародно избранному президенту очень длинной страны Хулио Спирохету, удалось вывезти таковое яйцо из-под носа хунты Романьоса. Впрочем, угловатый предмет жрать не президенту, а ему, Рампалю. Оборотень обрел зрение и с трудом сжевал одну из последних обложек журнала «Огонек», что привело его к возвращению в обритый облик Рузвельта; он лишь на несколько секунд опередил появление горничной с ведром, которая рванулась к пустой бутылке, но Рампаль ее опередил. Провожаемый злобным «тоже прохвессор, бутылку сам сдавать пошел», удалился Рампаль из гостиницы навсегда, плюнув на остатки почти истраченного снаряжения, – так, несколько лапок кистеперой рыбы латимерии, корень пиона уклоняющегося, золототысячник, особенно железняк, насчет которого так и не собрался вычислить Рампаль – зачем тот нужен; ну, да кто и что во всем в этом поймет? Ну, еще динамита капельку осталось, так он под пасту для бритья оформлен, впрочем, если кто решит с его помощью побриться… ну, так тому и надо.
Визит к американскому посольству прошел удачно. Рампаль вылез из троллейбуса на остановке «Магазин „Ткани“» и собрался уже боком-боком попробовать нырнуть в ворота посольства, но, похоже, номер и так и так не прошел бы, милиционер, конечно, знал, что стережет он тут не только американцев, но и прорвавшихся в посольство в середине шестидесятых годов кзыл-ординских скопцов-субботников, человек пятьдесят, эти вселились в посольство в знак протеста против насильственного труда по субботам два раза в год. Им давно уже предлагали визы в Израиль, но они соглашались выйти из посольства только прямиком в небесный Иерусалим; едва Рампаль собрался рвануть, а милиционер – пресечь, как у посольства затормозила машина военно-морского атташе, то бишь коллеги Сазерленда. «О, какая удача!» – заорал атташе-оборотень по-английски и дверцей отрезал Рампаля от намеревающегося милиционера, уже спешившего установить, что за такой бритый-лысый, уж не скопец ли политический?.. Атташе немедленно рванул с места.
Рампаль сидел рядом, скосив глаза на брючину атташе, читал пробегающие по ней буквы, – ясное дело, в машине было советское прослушивание.
«…в метро сразу оторвитесь от меня, в самом крайнем случае доедете до станции „Площадь революции“ и займете там место статуи „Пограничник с овчаркой“, там овчарка отломилась, ее ремонтируют. Но до ночи сядете на Савеловском вокзале в электричку, доедете до платформы Шереметьевская, пойдете по ходу поезда и налево, в сторону аэродрома, до него там еще очень далеко, но вы пройдете лес, примете трансформу и возьмете пассажира. Да, пассажира, он будет ждать. Возьмете разгон и полетите на Алтай…»
Атташе резко свернул, и глазам Рампаля предстала станция метро «Краснопресненская», со стороны, противоположной той, у которой и сейчас торговала историческая, месяцев семь или восемь назад толкнутая Джеймсом Найплом мороженщица. Невдалеке от трамвайной остановки увидел Рампаль более чем странную группу, составленную из каких-то необычных людей: в этой небольшой группе все, кажется, стояли, прислонившись ко всем. Пирамида была составлена из молодых людей обоего пола, отлично одетых, а в центре ее стоял немолодой, но одетый, напротив, чрезвычайно неопрятно, и при этом что-то орал. Однако Рампаль заметил: на группу никто не обращал внимания. Чутким обонянием он ощутил не только дурной запах, – вся она, видимо, не мылась с доисторических времен, – Рампаль заметил, что одутловатый крикун ему хорошо известен. Эберхард Гаузер со своей командой недавно посетил магазин «Березка», где всех этих свиней переодел в новое и чистое, больно уж раздражали его все эти грязные самцы и самки в грязном. Сам переодеваться не стал, ибо себя не раздражал. Последнее время платить он в Москве перестал принципиально за что бы то ни было, его гипнотическая способность усилилась от месяцев непрерывной пьянки, так зачем еще деньги? Сейчас Гаузер находился в состоянии легкого забытия русского языка, но с устатку не спешил вернуть себе знание оного. Сегодня ему для разнообразия хотелось ночевать в зоопарке, у львов. Заросший щетиной Герберт безнадежным голосом убеждал его, что хватит рисковать, что накануне и так дико рисковали, ночуя в кабинете у шефа КГБ, что нельзя до бесконечности искушать судьбу, что ночевка в мавзолее была чистым безумием, но там хотя бы хищников не было, а намерение провести ночь в клетке у львов глубокая со стороны майора Гаузера ошибка, напряжение глазоотводящего поля может упасть, а при сложном метаболизме хищников семейства кошачьих и вообще неизвестно, действует ли на него поле, что в крайнем случае нужно избрать для ночевки кабинет директора зоопарка, – Гаузер, угрюмо ругаясь, отвечал, что именно потому и идет в клетку льва, что знает точно: там поле будет действовать охранительно только в отношении самого Гаузера, он как раз собирается и Герберта и всех прочих подонков скормить льву, ибо все вы тут одни кобели и педерасты, суки и лесбиянки, – и Герберт обреченно умолкал.
Неизвестно, как на льва, а на оборотней поле Гаузера и вправду не производило впечатления, оба отлично видели группу семерых пьяных, слышали ее и обоняли. Атташе рванулся с места, а Гаузер на нем остался и поспешил к ругающемуся телепат-майору. Хотя тот был старше по званию, но знал, конечно, что у Рампаля чрезвычайные полномочия. По инерции и с непрошедшего хмеля Рампаль, лицо коего было сильно перекошено взаимодействием водки и «Огонька», заговорил с Гаузером по-русски.
– Майор Гаузер, примите меня под контроль вашего поля и проводите до станции метро «Новослободская»!
Гаузер замолчал и уставился куда-то в живот Рампаля, отчего живот сильно зазудел. Потом в грубейшей форме по-английски предложил Рампалю совершить над собой нечто такое, что, конечно, было по плечу разве только оборотню высшего класса, да только зачем бы? Поскольку это не могло быть приказанием, это было оскорблением. Рампаль вспомнил, что Гаузер понимает по-русски не всегда, и перешел на английский.
– Майор Гаузер, прошу не рассуждать!
Гаузер покрутил глазками и перестал рассуждать как раз вовремя, ибо трое каких-то жилистых субъектов отделились от черной «волги» метрах в двадцати и рванули к засеченному ими Рампалю. Добежать им ни до кого не удалось, доложить начальству пришлось о том, что неизвестный с бритой головой, который объявился в столь ответственный, опасный и скорбный для каждого истинно советского человека день в машине уже подлежащего высылке атташе, просто ускользнул в неизвестном направлении, – а совсем не о том, что увидели они на самом деле, не о том, что розовый слон, – чье появление, видимо, как-то связано с близлежащим зоопарком, но не цвет же! – попытался хоботом сгрести их в одну кучу и очень грубо при этом разговаривал по-английски.
Поздно вечером того же дня из вагона электрички, следующей по маршруту Москва – Икша, дружески попрощавшись с немаскирующейся пьяной компанией, одни мы что ли в поезде, а за упокой вождя можно ли не выпить, мы и дальше в этом поезде пить будем, пока не приедем, а как приедем, обратно поедем и дальше пить будем, вон у подонка полная сумка зря что ли, нам чего пить до утра хватит, – вышел в своей истинной плоти Жан-Морис Рампаль на влажный весенний перрон маленькой платформы Шереметьевская. Подождал, пока немногие пассажиры исчезли с платформы, и побрел по ней вперед. Потом сошел вниз, свернул налево и углубился по почти неосвещенной и слишком давно асфальтированной дороге в глубь дачной деревни. Рампаля качало; гипнотическое поле Гаузера прикрывало его столь надежно, что он дал себе волю и расслабился в условиях совсем уже позабытой безопасности, выпил много культурных напитков типа джин-тоник, – из грязной пивной кружки, которую где-то утащил и теперь возил с собой ставший как бы завхозом Герберт, – Рампаль знал, что сейчас не только может, но даже должен немного расслабиться, ибо в том новом образе, который надлежало принять, как он понимал, отдыха не предвиделось очень долго. «Как-то там мои детки», – неожиданно вспомнил Рампаль свои волынские похождения, вздохнул и свернул направо. Потом вскорости свернул и налево, в переулочек, прямо уходивший в мокрый молодой густой еловый лес.
Тропинка была очень хлипкой – по весеннему сырому времени. Рампаль дважды падал с нее и больно ушибался о стволы елочек. К счастью, лесок скоро кончился, тропка пошла вдоль длинного серого забора с колючей проволокой, а потом и вовсе углубилась в редкий и совсем голый лес, старый, насквозь пропитанный влагой. Здесь ноги начали увязать по щиколотку, тропка постепенно затерялась, последние огоньки деревни исчезли за подлеском, и оборотень остался в полной темноте. Вдали глухо взревел двигатель самолета устаревшей турбореактивной конструкции, до аэропорта Шереметьево здесь не было и девяти километров. Вскоре и этот лес стал кончаться, пошли прогалы, и вот уже открылось впереди пустое пространство, озаренное недальними лучами посадочных огней. Впрочем, лес еще продолжался по левую руку, выдаваясь мыском и отгораживая оборотня от аэродрома, все еще неблизкого. «Как-то там мои детки», – снова подумалось так отчего-то, снова вздохнулось. Рампаль опять упал. Ничего, скоро все эти синяки пройдут. «Скоро мне станет очень трудно получить синяк даже по приказу начальства», – произнес Рампаль вслух и по-русски, вставая. Невдалеке деликатно вспыхнул огонек сигареты: пассажир ждал на месте, как полагалось.
– Привет, старина, – прозвучал знакомый голос. Голос при этом был немного простужен. «Ничего, согрею», – подумал Рампаль и приветственно ухнул филином, как было условлено.
Найпл стоял у набухшей почками березы и курил. Ночным зрением он видел валкое появление Рампеля и слышал его бормотание. Никакой обещанной сумки при оборотне не было. К тому же это был все-таки только оборотень, а не маг, и он не мог поэтому, конечно же, сотворить сумку из ничего. А ведь полученные утром инструкции ясно говорили, что он, Джеймс, должен добраться до этой лесной прогалины и сесть в сумку к капитану Рампалю, ибо предстоит операция по вызволению Екатерины Романовой, угодившей на Алтае в рабство к каким-то аборигенам грубо анимистических верований. При упоминании о Кате сердце Джеймса дрогнуло, он даже и не стал размышлять про сумку. А вот теперь, получалось, нет возможности выполнить инструкцию, нет у Рампаля никакой сумки.
– Мне приказано сесть к вам в сумку, – сказал он. Рампаль исподлобья посмотрел на него и ничего не ответил. Он топтался на месте, словно разминаясь, при нем не было вещей, вытянутые руки он держал в карманах ветхого демисезонного пальто, опираясь на них так, что подкладка трещала. Рампаль несомненно к чему-то готовился. Вдруг он замер и обратился к Джеймсу:








