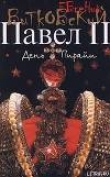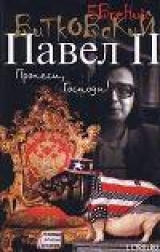
Текст книги "Павел II. Книга 1. Пронеси, господи!"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
14
Его превосходительство
Любил домашних птиц…
ЛЕВ КАМБЕК
Дед Эдуард встал, как обычно по субботам – ни свет, ни заря, в четыре утра. Рыбуня, самый старый и почтенный из попугаев, тоже проснулся как обычно – вместе с хозяином, зашебуршал у себя на перекладине и объявил совершенно категорически:
– Москва – Пекин! Москва – Пекин!
Эту фразу дед слушал уже двадцать пять лет каждое утро. Рыбуня, здоровенный гиацинтовый ара, весь синий и немножко желтый, совсем еще не был стар по попугаячьим меркам, только-только ему исполнилось двадцать шесть. Когда-то его чуть не подарили делегации пекинского, не то шанхайского, зоопарка, никто уже не помнил какого, но китайского точно – делегация привезла в Москву двух неприжившихся впоследствии панд, – но при первом же знакомстве лихой Рыбуня бодро откусил неосторожному китайцу палец, за что был бит нещадно, кажется, даже с применением приемов ужасной борьбы кун-фу, о которой тогда у нас еще и слыхом не слыхивали, и собирался совсем подохнуть, но случился рядом дед Эдуард, тогда не дед еще, а просто приехал в Москву к другу, с которым девять лет на Воркуте отдыхал, а друг как раз в зоопарке восстановлен в правах был, над броненосцами южноамериканскими в начальники вышел. Пожалел будущий дед полудохлую птиченьку, тут же получил ее в сактированном виде, короче говоря, стал полноправным обладателем единственного в стране гиацинтового ара-самца, приволок его на квартиру старшей дочери, что уже тогда была замужем за молодым генералом, правда, генерал тогда гостил в Албании, – а потом и выходил птичку-то, и с собой в Ригу увез. С этого случая начался в жизни Эдуарда Феликсовича третий период, самый спокойный и счастливый, когда смог он наконец-то бросить медицину, уйти на пенсию, разводить птичек, сидя под крылом у двух зятьев, растить внуков и так далее. Периоду этому предшествовали два других: первый был ничего, в двадцатые и тридцатые годы жил дед в буржуазной Латвии, входил в правление общества имени Рериха, лечил травами, научившись этому ремеслу у своего отца, очень знаменитого гомеопата, умершего в конце двадцатых, – давал деньги на издание «Тайной доктрины» Блаватской, которую светлой памяти Елена Ивановна перевела на русский язык перед самой войной, двух дочерей завел, потом войну там же, в Риге, пересидел как-то, а в сорок пятом вызвали его в одно место и спросили: вы ли, мол, тот самый Владимир Горобец, что общество памяти Ульманиса возглавлял; Эдуард ответил, что, мол, не я, и вообще такого не знаю. Эдуарду кивнули понимающе и дали десять лет. Сразу после этого начался в его жизни другой период, поначалу тяжелый, а потом тоже не особенно плохой, ибо в лагере на Воркуте попал дед не в шахту, а в больничные врачи, хотя диплом у него был ненастоящий, несоветский (Эдуард Корягин учился в Париже), сразу в старшие патологоанатомы лагеря. Вскрывал. Вынимал «гусака» (все внутренности разом). Свидетельствовал. Не боялся никого: по должности ножи-скальпели имел такие, что всю лагерную администрацию мог бы раз и навсегда освидетельствовать. Да и гравиданотерапия, будь она неладна, очень помогала существовать; рассказал Эдуарду Феликсовичу про эту науку один врач на Вятской пересылке: все лагерное начальство, как один человек, желало лечиться от импотенции, ну, а моча беременных баб всегда была в избытке, благо кое-кто из зеков импотенцией все же не страдал. Кипятил дед эту самую мочу, становилась она «гравиданом», потом впрыскивал ее куда надо, а взамен мясо получал, сало, сахар, шоколад даже. Тревожился, впрочем, все годы: как-то там его дочки. Старшей, Елене, было девятнадцать, когда он сел, младшей, Наталье, одиннадцать. И – никого у них на белом свете, ни в Риге, нигде. Только и надежд было, что на пробивной характер Елены. Надежды эти, надо сказать, оправдались, да еще как.
Знать не знал в те годы Эдуард Феликсович, что весь остаток своих долгих дней по выходе из лагеря он посвятит такому неожиданному занятию, как разведение дорогостоящих синих попугаев. Еще менее ожидал гомеопат-прозектор, что та самая старшая дочка, на которую он столько надежд возлагал, оправдает их самым неожиданным образом: не успел Корягин выйти на волю с бумажками о реабилитации в кармане, как выскочила она замуж ни много ни мало за молодого генерала госбезопасности, человека неожиданно положительного, из старой московской семьи обрусевших армян, Георгия Шелковникова. Так в жизни Эдуарда Феликсовича почти одновременно появились действующие лица, в корне эту самую жизнь переменившие: зять Георгий и попугай Рыбуня. Через год друг-броненосник из зоопарка при довольно темных обстоятельствах сактировал деду гиацинтовую самку Беатриссу, от какового союза в Риге дед совершенно неожиданно получил кладку – иначе говоря, три больших белых яйца, из которых при стечении обстоятельств должны были бы вылупиться несусветно дорогие гиацинтовые птенчики. Но дочка выписала отца в Москву, поселила его пока у себя на даче, в Моженке, и яйца при переезде побились. Эдуард Феликсович не уныл и через полгода получил другую кладку. И стало попугайное дело не только любимым, но и прибыльным. А в шестьдесят первом, в долгие три зимних месяца, когда по всей стране люди меняли старые деньги-простыни на новенькие – маленькие, не замечая, что пучок лука как стоил десять копеек старыми, так и стоит десять копеек новыми, состоялся медовый месяц и у младшей дочери, Натальи, отчего-то тоже с офицером ГБ. Весть о том, что второй зять тоже армянин, Эдуарда Феликсовича так потрясла, что все остальное, зятьев объединявшее, – а именно ГБ, – от его сознания уже ускользнуло. Дед и вообще перестал обращать внимание на что бы то ни было, кроме Рыбуни и его семейства. Вскорости переехали в Москву и Наталья с мужем, под крыло к старшему зятю, а дед с неуютной дачи перебрался к ним же. Скоро и внук первый народился, Рома, – не Роман, правда, а Ромео, но это уж у армян национальная страсть к Шекспиру. Появился еще один смысл у дедовой жизни. Старых рижских, «рериховских» связей дед специально не поддерживал, но кое-какие из них восстановились сами по себе. Зять Георгий, толстевший с каждым годом, отчего-то эти связи очень одобрял, интересовался всякими криптограммами Востока, Жоффруа де Сент-Илером, Успенским, агни-йогой, Махатмами, даже повесил на стену у себя картину художника Сардана, иначе говоря, проявлял внимание ко всему тому, что в прежние времена, когда общение Корягина с госбезопасностью еще не стало семейным, а ограничивалось разве что гравиданотерапией, было ему близко и дорого. Но жизнь деда Эди была теперь полна попугаями и внуками, нрава он и без того был всю жизнь смешанного угрюмого и жизнерадостного, причем первая часть проявлялась внешне, а вторая внутренне. И познакомил дед старшего зятя кое с кем. Никому от этого знакомства плохо не стало, даже квартиру кому надо и где надо выхлопотать удалось. Ну, и ладно, а попугайчики подросли, и жить в доме с пятью гиацинтовыми стало немыслимо, да еще Наталья опять с пузом ходила, собирался родиться внук Тима, не Тимофей, правда, а Тимон; вздохнул дед и повез самого маленького попугайчика на птичий рынок. Думал, полсотни уж наверняка выручит. Но решил постоять и подождать – сколько предложат. Простоял на Калитниковском до часу дня без малейшего толку, только дивилась публика на синего попугая, да шипели конкуренты, толкавшие зеленых волнистых, и так-то спросу чуть, а тут еще бородатый какой-то с синим, не иначе крашеным. А около часу дня подошел дядя в дубленке, тогда еще не модной, и с сильным акцентом сказал, что больше тысячи сейчас при себе не имеет, но, если дед согласится с ним поехать, он заплатит полную стоимость. Что есть полная стоимость – дед и помыслить не мог, ежели тысячи мало. Но не растерялся и на хорошем французском языке выразил согласие поехать. Пораженный посол Люксембурга, для которого французский язык на птичьем рынке был таким же потрясением, как предложенная цена для деда Эдуарда, купил попугая в итоге за полторы тысячи, и в последующие годы каждое лето по птичке покупал, пока его в семьдесят пятом самого ливийские террористы не похитили. И грузины тоже покупали. Армянам приходилось дарить. Но денег вдруг стало навалом. Так вот и получил дед Эдуард от советской власти сперва свободу, а теперь, через посредство зоопарка и птичьего рынка, еще и независимость.
Вскоре семейство младшего зятя, у которого жил дед Эдуард, увеличилось настолько, что ему выдали новую квартиру, в «Доме на набережной» у Каменного моста. В пяти комнатах семь человек помещались, конечно, легко, но, кроме семи человек, в квартире жили еще шестеро попугаев, – три пары, точней. Безукоризненно послушные деду, – ибо талант к дрессировке попугаев у деда открылся совершенно внезапно, вместе с талантом к воспитанию внуков, что, в сущности, одно и то же, – птицы жили в его комнате, в других почти не гадили, хотя иной раз и перекусывали кое-где провода, расклевывали телефонные аппараты, отгрызали ручки у портфелей, съедали Натальину косметику, похищали водопроводные краны, магнитофонные кассеты, кошельки с хозяйственными деньгами, орденские колодки, мыло, посуду, особенно подстаканники, и многое другое. Лишь когда лучший сын Рыбуни, Михася, перегрыз трубу центрального отопления и устроил в доме потоп, терпение Аракеляна кончилось и он пошел к деду разговаривать всерьез: взял да и положил перед ним восемь тысячных пачек десятками, полный взнос за кооперативную квартиру, которую сам же и брался устроить. Дед ничего не сказал, вынул из-под тряпичного гнезда Беатриссы большой кошелек и отсчитал на стол восемьдесят сотенных бумажек, деньги за четырех последних красавцев, которых оптом купил директор бакинского рынка. И подвинул зятю вместе с первой кучкой, – Аракелян понял, что это ему самому предлагают отселиться в кооператив, шестнадцати тысяч наверняка на это хватит. А дед оставит себе внуков и прочее. А дед еще и к телефону, злодей, потянулся, не приведи Господи, позвонит Шелковникову. Аракелян забрал свои деньги, извинился и, весь красный, удалился. Поле боя осталось за дедом, который отныне безраздельно властвовал над квартирой, над попугаями, над внуками, над полковником и даже в конечном счете над Шелковниковым, – тот не только отчего-то безумно дорожил дедом, но, не надо забывать, был еще и под каблуком у жены Елены. Начни даже Рыбуня или Пушиша откусывать пальцы или там еще что-нибудь у Аракеляна и его друзей – и то полковник не сумел бы ничего поделать. Лечиться-то пришлось бы опять-таки у деда: старик умел какими-то душистыми мазями и приятными на вкус жидкостями вылечивать почти любые болезни. Кстати, когда, нарушая все служебные правила, Аракелян поднял личное дело деда, то узнал, что именно за это свое искусство и сидел дед на Воркуте. И реабилитирован был тоже за него.
Дед прошел на кухню и поставил чайник. Ручка у чайника дрожала в руках и грозила отвалиться: попугай Пушиша, видимо, точил об нее клюв. Дед перекусил чем-то из холодильника, задал корм попугаям, прибрал «подарочки» – кучки попугаячьего дерьма, неизбежно попадавшиеся по всей квартире, несмотря на дрессировку, – тщательно осмотрел Розалинду, сидевшую на яйцах. Посадил Михасю в клетку, завернул в войлок и в шесть утра, как только метро открылось, вышел из дома. Дед не имел намерения продавать Михасю, он торговал попугаями как мебелью, по образцам. Да и не было у него сейчас попугаев на продажу, последнего забрал зять Георгий, чтобы подарить кому-то из своих начальников, дед знал, что над Георгием их всего два, не считая Бога, в которого этот толстый человек втайне очень верил. Дед ждал птенцов Розалинды, двух покупателей на очереди он уже имел, с одного даже аванс получил. Нужен был третий покупатель, поскольку яиц было именно столько. Вот и стоял дед по субботам и воскресеньям на птичьем рынке с Михасей, вот и ждал этого самого третьего покупателя. Деду важны были даже не деньги, он знал, что цена гиацинтового ары на самом деле в пять-шесть раз больше тех двух тысяч, за которые он отдавал своих питомцев, – деду важны были хорошие руки. Отлично знал дед, что страшная, гиньольная сказка Пушкина о золотом петушке – не вымысел, а самая настоящая действительность. Еще как и заклюет, если в дерьмовых руках окажется. Мысли деда переключились на Пушкина. Какой все же страшный, безжалостный, мрачный писатель, – думал дед. На досуге, несколько дней тому назад, прочел он книгу какого-то провинциального пушкиниста. А потом стал Пушкина перечитывать. И целые дни теперь ходил еще мрачней обычного. Что ни вещь – то кошмар. Взять хоть сказки. В одной детки до смерти друг друга мечами пыряют, а папаню ихнего петух до смерти заклевывает, в другой, самой, казалось бы, светлой, отец сына родного и жену в бочку пихает и топит, потом опять же глаз кому-то выклевывают, еще – человека щелчками насмерть забивают, еще медведиху, кормящую мать, убивают и свежуют; а другие его вещи чего стоят! То полная комната мертвецов, то убийцы, то самоубийцы, привидения всякие, одна кровь и грязь, так что даже бывшему лагерному прозектору и то не по себе. Жуткий писатель, что и говорить. Это ведь ему за насаждение культа жестокости теперь памятники ставят везде. Не иначе.
На Таганской дед вылез из метро и пересел в трамвай. Ходила к Калитниковскому и более удобная маршрутка, но только с восьми утра. А дед любил приезжать к самому началу, хоть и знал, что его место в попугай-ном ряду неприкосновенно, давно уже примирились с его существованием многочисленные торговцы волнистыми попугайчиками и более редкие, более солидные поставщики сотенных неразлучников и корелл по сто рублей пара. Вообще ценами выделялся дед над рынком, как Эверест над сопками Маньчжурии: редко-редко что вообще стоило на рынке больше ста рублей, разве только в собачьем ряду какая-то высокопоставленная дура вот уже седьмой год пыталась продать по восемьсот рублей все одних и тех же щенков афганской борзой, – хотя за семь лет щенки, мягко говоря, подросли, но цена оставалась прежней, даже за шестьсот рублей дура с ними расставаться отказывалась. Еще хорьки стоили дорого, некоторые породы голубей; однажды вышел какой-то хмырь продавать обезьяну неведомой разновидности, тысячу рублей просил, но его заулюлюкали, не пошло у нас обезьянье дело. Все, пожалуй. С дорогими попугаями, кроме деда Эди, не стоял обычно никто; только раз в год приезжал из Борисоглебска Федор Фризин, привозил одного-двух изумительных жако, уже обученных говорить десяток фраз, толкал их чуть ли не сразу по пятьсот рублей, а потом весь день стоял с Эдуардом Феликсовичем, зазывая покупателей и нахваливая гиацинтового ару как самонаилучшего попугая-долгожителя и красавца. Фризин и Корягин друг друга глубоко уважали, как уважали друг у друга и попугаев: Корягин уважал жако как несомненно лучше всех говорящего попугая, Фризин ару – как несомненно наиболее красивого и трудного в разведении. Дальше оба старика непременно вздыхали, что не удается наладить в неволе разведение черного какаду, не несется, подлец, и все тут, получил Тартаковер в Сиднее в двадцать восьмом году одну кладку, и все, с тех пор не отмечено, вздыхали еще разок-другой и расходились. А прочие продавцы с годами смекнули, что дед и его двухтысячный, орущий на неприятных типов «Иди отсюда!», им даже выгодны: придет покупатель, охнет от цены на синего красавца и уже спокойно платит сотню за пару корелл, – раньше, без деда, конечно же, эта сотня казалась большими деньгами, а теперь мелочью стала. Мелочью она стала, впрочем, еще и от времени просто. Но это уж совсем не про попугаев разговор.
Дед встал в ряд и аккуратно раскутал своего красавчика. Михася в большой клетке за толстенным стеклом, с умело встроенной вентиляцией, чувствовал себя на рабочем посту: поворачивался левым и правым боком, точил клюв о специальную железяку, вообще работал на покупателя. Дед же, высокий, с торчащей вперед бородой, зорко вглядывался в толпу, почти из одних зевак да рыбошников состоящую: не идет ли кто серьезный. За долгие годы научился Эдуард Феликсович безошибочно определять серьезность намерений клиента; даже вопрос, заданный в форме «Сколько этот ваш стоит», уже лишал деда малейшего интереса к вопрошающему, ибо серьезный человек спрашивает: «Сколько такой будет стоить», ясно же ведь, что племенной не продается. А справа и слева все бойчее становился слышен обычный треп торгового ряда, где основное развлечение болтовня с соседями, тертые, плохо рассказываемые анекдоты, сведения вражеского радио – кто что расслышал (особенно теперь, когда опять глушить стали), а также совершенно точные сведения из первых рук – на что нынче следующим делом цены поднимут. Ну, и обычное зазывание тоже.
– А ну, волнистых, волнистых, на разговоры, на племя! Тридцать пять дней, на разговоры! А ну, кто хочет на разговоры! Волнистых!..
– И что ты, спрашивает, будешь делать, если муж тебе изменит один раз? Я, говорит, отрежу на сантиметр. Ну, а если он еще раз тебе изменит? Тогда, говорит, еще на сантиметр отрежу. А если, говорит, в третий?..
– И сколько такой тянет?..
– Кореллы есть! Кому кореллов?
– Масло будет пять пятьдесят, хлеб – двадцать пять тот, что восемнадцать, пиво по рублю, а бензин крашеный…
– Я, говорит, на тебя кляп имею!..
– Можешь представить, я на тринадцати слушаю, целая передача была, говорят, есть наследник русского престола, законный царь, и будто бы не за горами, что его советская власть признает, ни хрена себе!
– Да отрубись ты со своим мотылем!..
– На племя! На разговоры!
– Да нет, я ее арматурой, и пластиком, вовнутрь такую хреновину разводами, на нее сколько ни нагадит, все кажется, окрас такой, купят, купят!..
– Ишь, говорящего ей за семь рублей, вон, к деду иди, у него говорящие по две тысячи…
– Еще студенческое масло будет, как в Новосибирске, по два шестьдесят, жарить на нем нельзя, а мажется хорошо…
– Говорили, будто и княжны великие, и наследник – всех их святые люди на западе выкупили. И до сих пор живут они все в одном чудном монастыре, и государь Николай там же с ними…
– Да ему же лет сто теперь…
– А что, вон спроси у деда, попугаи живут и ничего, а тут человек святой…
– На племя!..
– Это ж не кенарь, это ж мечта моего счастья!..
Цену у деда спрашивали редко, чаше всего с благоговением, говорившим заранее: я у вас такого купить не смогу, нет у меня таких вот денег, но все-таки, любопытства ради, осведомите, мол, сколько такой красотизм стоит. Дед отвечал охотно, рассказывал о дорогих попугаях, советовал в зоопарк пойти, – уже дважды люди после визита в зоопарк возвращались к нему за попугаем, – в зоопарке гиацинтовые ары уже много лет принципиально не приживались, правильно, кстати, делали, дед Эдя обеспечивал им куда лучшую жизнь. За тем, чтобы в зоопарке они не приживались, зорко следил старый лагерник Юрий Щенков, по сей день командовавший там броненосцами, он твердо помнил об интересах деда Эди, так же, как помнил и мерзлые больничные огрызки, которыми спас его прозектор в сорок седьмом, спас доходягу, погибавшего от пеллагры. А вот сейчас на улице был декабрь, покупателей по холодному времени толклось не особо, да и продавцов тоже. Воздух рынка действовал на деда наркотически, мысли навевал самые приятные: о гиацинтовых ара и еще о внуках.
Около двух часов объявились, кстати, двое старших: Ромео без всяких документов водил отцовскую машину уже больше года и сейчас приехал на ней за дедом. Отец нынче стряпал что-то невообразимое, ждал к шести дядю Георгия. Внуки все как один любили пожрать, и деда тоже любили, хоть и знали, что отец с дедом в контрах, но допустить, чтобы все было съедено без деда, ясное дело, не могли. Эдуарду Феликсовичу все эти армянские лакомства были до фени, он бы предпочел латышский суп из пахты и цвибельклопс (блюдо сомнительно латышское, но сами латыши в его национальное происхождение всегда свято верили). Но не отказывать же внукам. Да и дядю Георгия, толстого-претолстого, внуки тоже любили: за веселый нрав – и, опять-таки, за его привязанность к деду Эде. Дед укутал попугая, на прощанье буркнул кому-то, что производителя не продает, тем более за триста, сел на заднее сиденье и задремал до самого дома, и видел во сне северное сияние, и слышал мантрамы Елены Ивановны.
А дома внуков и деда ждали запахи. Дух виноградного листа, вымоченного в винном уксусе, ибо полковник, конечно, готовил долму; аромат распаренной баранины, ибо полковник, конечно, и кюфту тоже готовил; тихий запах попугаячьего дерьма, ибо и птички, конечно, не только дремали. И другие запахи, более слабые, но обитателям квартиры, – кому какие, конечно, – весьма дорогие. Дед с порога выпустил из клетки Михасю, тот расправил крылья и коршуном кинулся проверять: не изменила ли ему Розалинда с родным братом, синим до лиловости Пушишей. А Рыбуня рявкнул приветственное «Москва – Пекин». А полковник на кухне тихо выматерился по-русски, но дед этого не слышал. Была половина четвертого, через час Георгий выедет со своей дачи в Моженке и не успеет пробить шесть, как с эскортом въедет во двор «Дома правительства». А долма к этому времени успеет разве? Одна надежда на деда Эдуарда, будь он проклят, что хоть на полчаса шефу мозги загадит своими попугаями, может быть, и кюфта успеет!..
В назначенный срок, за четверть часа до шести, ЗИЛ Шелковникова и две «волги» с охраной вкатились во двор. Сперва из «волг» вылупились здоровенные охранники, все как один в штатском, но с той самой необманчивой выправкой, выстроились редкой цепочкой вдоль маршрута от ЗИЛа к подъезду; кто-то в лифт забежал, проверил на предмет заминирования, кто-то по лестничным клеткам прошвырнулся, поискал террористов и не нашел. А ЗИЛ тем временем разверзся, и вылез из него генерал-полковник Георгий Давыдович Шелковников, человек совершенно необычайной толщины и во многих других отношениях тоже необыкновенный. Когда-то, в начале века, обрусевшим московским армянам принадлежала в Москве знаменитая красильня. Где-то среди необычными способами уцелевших бумажек хранил генерал у себя и старую рекламку этой красильни и в нетрезвые минуты, особенно в последние годы, когда стало полезно подчеркивать, что ты не из болота родом, а хорошей старой фамилии, лучше всего дворянской с титулом, кое-кому он эту рекламку показывал, прежде всего родственникам, а также и двум своим единственным начальникам: министру-председателю, первым заместителем которого был, – Илье Заобскому, и, конечно, паралитичному премьеру. После этого донести на него было уже некому и некуда, даже если бы злейший враг – а такового, конечно, Шелковников имел, – об его непролетарском происхождении пронюхал. Рекламку Шелковников берег нежно, в ней говорилось, что «Красильня, пятновыводка и плиссировочная Ф. А. Шелковникова в Москве, с фабрикой на второй Тверской-Ямской и магазинами на Тверской-Садовой, дом театра Буфф, также на второй Тверской-Ямской, также на Домниковской улице; производит химическую чистку и окраску шелковых, шерстяных и бархатных материй, а также красит, чистит и плиссирует всевозможные дамские и мужские платья в распоротом виде, шторы, драпировки, ковры, брюссельские кружева, оренбургские платки, меха и лайковые перчатки, – а также занимается чисткой мебели на домах, и еще ажурной строчкой (мережкой)…» В былые годы, особенно до пятьдесят третьего, боялся Георгий Давидович этой бумажки как огня, считал, что не сохранилось ни единого экземпляра ее, а потом, выросши в чине уже до Бог знает каких высот, извлек последний ее экземпляр… из собственного личного дела, которое сподобился увидеть в начале шестидесятых. Все, оказывается, знали в отделе кадров с самого начала. И не трогали. Доверяли, с одной стороны. Проверяли, с другой. По исконным принципам.
Появился на свет Георгий Давидович, впоследствии Давыдович, в бурном девятнадцатом году, когда от красильни уже рожки да ножки остались, вся Россия отплясывала бессмертное «Яблочко», а семья бедного Давида Федоровича, Федор-богач умер тремя годами раньше от апоплексии, – ютилась в уплотненном виде в одной комнате на Арбате. Таким нищим и голодным было детство рано осиротевшего Георгия, что даже когда время подошло от своих родителей печатно отрекаться, – даже от этого оказался он избавлен. По происхождению Георгий раз, но, как теперь выясняется, не навсегда, стал сыном малоимущего кустаря-одиночки, красильщика. Очень рано приняли его в пионеры, потом в комсомольцы. Стал пионервожатым. С тридцать пятого года в Кратове каждое лето воспитывал юных пионеров. И там-то и приключилось с ним незначительное, на первый взгляд, событие, из-за которого даже теперь, более чем сорок лет спустя, спал Георгий Давидович не совсем спокойно. Мало ли одиннадцатилетних пацанов находилось в те времена у него под началом? Мало ли отвесил он колотушек и пенделей, ловя кого за курением, кого за онанизмом? А того, плюгавого, из-за которого сон имел теперь не совсем спокойный, поймал разом на том и на этом: одной рукой цигарку держал, другой – испытывал, так сказать, самоудовлетворение. Ну, и врезал вожатый Жора этому юноше, причем, видимо, именно тогда, когда ему особенно хорошо было по всем причинам. Тот отлетел с крыльца, штаны застегнул, утер кровавые сопли, сказал: «Я тебе припомню». И, нет ни малейшего сомнения, рано или поздно собирался свою угрозу исполнить: даже теперь, когда пионервожатый Жора стал ни много ни мало генерал-полковником госбезопасности Г.Д. Шелковниковым, первым заместителем всесильного Заобского, – так ведь и сопливый онанист за эти годы успел стать ни много ни мало как маршалом танковых войск И.М. Дуликовым, первым заместителем всесильного Везлеева, и то хорошо хоть, что здоровье у Ливерия Устиновича крепкое.
В сорок первом году Жора Шелковников был уже в армии и очень быстро полез в чинах, заведуя продовольственным снабжением СМЕРШа на юго-западном направлении, фронта он, можно сказать, не видел до сорок пятого, когда Берлин занимали. Даже ранен был в предплечье. Правда, осколком кирпича, но считалось – ранение. Тоже потом невредно оказалось. Словом, кончил он войну молодым генералом. Потом пошел по линии государственной безопасности, вовремя стал бороться с культом личности, а затем, когда лучше стало бороться уже с последствиями неумеренной борьбы с последствиями так называемого культа якобы личности, – возглавил и эту борьбу. Потом по специальной линии внезапно удалось доказать свою незаменимость, – совсем как мало ему знакомому и топчущемуся где-то далеко под ногами полковнику Углову. Результаты были теми же: первому заместителю Заобского никогда уже не светила перспектива сесть в кресло шефа, больно уж незаменимым оказался в роли заместителя. А тут еще Дуликов. Вот и отдался Георгий Давыдович страстям чисто человеческим, из которых наиболее человечной почитал страсть к хорошей еде, прежде всего национальной, армянской. Вот и кушал всегда, когда время позволяло. Здоровье имел хорошее, лишь изредка маялся, после праздников, когда по разным приемам приходилось съедать по четыре обеда кряду. А ведь потом, хочешь не хочешь, ноги, верней, колеса, несли его в дом к младшему зятю, а там попробуй не обожрись. Вот и прихварывал иногда. Но только по праздникам.
Детей у генерала не было. На досуге, с помощью профессионального журналиста Подсосина, написал он и издал свои мемуары о Великой Отечественной – «Смело мы в бой пошли!», снял потом кинофильм по этим мемуарам, шестисерийный, с партизанами и настоящими танками, с артистом Лонным в роли разведчика Курбатова и даже с самим Резникяном в роли Гитлера. Получил Государственную премию по кинематографии, в которой, правда, не смыслил ни уха ни рыла, но очень этой премией гордился. Хотя о действительных заслугах Шелковникова перед советской властью знали, пожалуй, всего три-четыре человека. Даже всесильный Ливерий, пожалуй, не знал, а лишь узнавал кое о чем от премьера в туманной форме: «Нам стало известно…» А за пределами России о всех его исторически-важнейших делах знали, пожалуй, три, не то четыре человека. Но тут уж ничего не попишешь. Пописывать Георгий Давыдович вообще любил, не одни только мемуары числил он в своем литературном активе, хотя пописывал, ясно дело, не собственноручно. Об этом еще меньше людей знало. Но это так, на черный день.
Генерал поднялся в лифте. В прежние годы, еще в семьдесят пятом, скажем, он, иной раз, моциона ради, поднимался и пешком. Теперь – дудки, годы его не те, шестьдесят второй пошел, не был бы генерал-полковником, так был бы пенсионером. Что среди руководства КГБ он был моложе всех – это роли не играло. Дверь в квартиру свояка уже стояла открытая, телохранитель позвонил. Молодец он, кстати, этот Сухоплещенко, чин ему очередной пора. А из квартиры свояка пахло. Долмой. Кюфтой. Больше ничем: за попугаями дед к этому времени чисто прибрал с помощью тихо проклинавшей свою горькую, хотя чрезвычайно хорошо оплачиваемую судьбу Ираиды. Дед Эдуард с Рыбуней на плече; за ним, несомненно как младший по званию, Аракелян, традиционно для начала в фартучке – мол, только что сервировать закончил, а на кухне даже еще присматриваю. За ним стройная Наталья. Внуки пока что у себя в комнате, их только к столу выпустят. Георгий Давидович осторожно протиснулся в дверь, уже слегка для него узковатую, поздоровался со всеми. Телохранитель, все тот же незаменимый капитан, внес ящик «Еревана», без этикеток, прямо с розлива. Все как обычно. И сразу – кушать, к столу, все свои, без церемоний обойдемся. Большую часть «Еревана», кстати, сразу отдали охране, расположившейся вдоль пути от квартиры к машине и еще под окнами, и еще в квартирах у соседей, давно привычных и безропотных.
Кушали и кушали. Лихой Рыбуня только раз за весь обед сорвался и гаркнул, – но не чреватое политическими осложнениями «Москва – Пекин», а совершенно уместное: «Здравия желаю, господин генерал!» – «И ты будь здоров», – ответил Георгий Давыдович и, двинувши в воздухе рюмкой в сторону попугая, оную тут же и выпил. А полковник знай себе метал на стол деликатесы, понимал, что для него лично никакого другого пути к сердцу шефа нет. После долмы, за бастурмой, перекурили; дед откланялся, Наталья тоже, Георгий Давыдович ей ручку поцеловал и сказал, что Елена тоже в гости придет, как только с Тайваня вернется. Остались вдвоем и только тогда расстегнулись.
– Врагов читаешь? – напрямую, но очень доверительно спросил генерал, разумея машинописные и размноженные ксероксом тексты передач «Голоса Америки» и «Свободы». Аракелян кивнул и генерал продолжил: – Ну, и что скажешь? Как тебе эта новость с Романовыми?