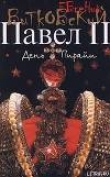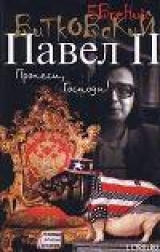
Текст книги "Павел II. Книга 1. Пронеси, господи!"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
– Капитан, – сурово сказал Форбс, – возьмите себя в руки. Я выцарапал вас у этого подлеца не для того, чтобы вы истерику устраивали. Вы нужны для исполнения важнейшей миссии.
– Но я прошу об отпуске! Хотя бы на неделю! На семьдесят два часа! О, вы никогда не были женщиной, генерал!
– Вы правы, капитан. Никогда не был.
– А я был не просто женщиной! Я сидел в гареме! А вы представить себе не можете, чем заполняют свой досуг эти бабы! Полсотни баб с лишним, и один этот выродок с усами, который ни черта не понимает в сексе, который и требовал-то нас к себе только по одной!
– Опамятуйтесь, капитан, в вашем секторе нет ни единой женщины!
– Нет! – взвизгнул Рампаль. – Женщин – нет! Но есть почти тридцать, теперь на одну меньше, Брижит Бардо в возрасте от двенадцати до пятидесяти с чем-то лет; больше двадцати Мэрилин Монро, одна Софи Лорен, ему нравится, и семь штук этой русской дуры… Словом, знаете, как у нас там. Разговоры только о тряпках, все в роль вжились, знаете, долг все-таки, а лесбийская любовь чего стоит? И безграмотная какая, даром, что на самом деле чистая педерастия! И я единственный француз! И я должен попасть к врачу, со мной определенно не в порядке что-то!
– Вы мнительны, капитан. Вот вам еще виски, а потом вас ждет полковник Мэрчент и группа инструктажа, там и врачи есть. Вас ждет важнейшее задание, ваше имя может войти в историю Америки еще больше, чем уже вошло!
– Неужели снова Вьетнам? – оживился Рампаль. – Это были золотые дни.
– Нет, капитан. Россия. Во имя любви и…
Капитан нарушил субординацию и перебил Форбса:
– Нет уж, хватит с меня любви! Генерал, но и остальных вызволить надо! Вы не представляете, как мучится Оуэн, ведь ему в роль-трансформации всего двенадцать лет, а этот выродок все время требует от него невинности, а Оуэн даже старше мэтра Порфириоса, легко ли в девяносто лет по три раза невинности лишаться? А… Что это? Виски, виски я пью!
Форбс наклонился к селектору:
– Немедленно усыпите Джексона.
* * *
Два неопознанных летающих объекта пересекли в едва брезжущем осеннем рассвете советскую границу в районе Владимира-Волынского. Для советских станций слежения за девственностью воздушного пространства они не представляли интереса, были слишком незначительны по размерам, а если и производилось какое-то наблюдение, то сперва должна же быть проведена идентификация: не являются ли они, скажем, птицами. А эти два неопознанных летающих объекта как раз являлись не чем иным, как огромными лебедями-трубачами. Только двигались эти лебеди по осеннему времени явно не туда, куда полагалось, они летели на северо-восток. Несомненно, это были сумасшедшие лебеди.
На спине каждого лежал небольшой тючок, намертво пристегнутый тонкими ремешками к спине. На левой лапе у каждого из лебедей красовались кольца, гравировка на коих сообщала, что окольцованы лебеди орнитологическим центром в подмосковном городке Хлебникове год назад. Вряд ли, даже попади эти кольца в руки пограничников, те сообразили бы, что лебедей под Москвой не кольцуют, ибо они туда вообще не летают. Но, возможно, этих сумасшедших лебедей окольцевали сумасшедшие орнитологи.
Клюв одного из лебедей был просверлен в нескольких местах, и он все время насвистывал какую-то мелодию, неслышную из-за шума ветра и большой высоты. Другой лебедь просто все время стучал клювом: от холода. Впрочем, это могла быть и азбука Морзе. Кто их знает, лебедей сумасшедших.
Спрятавшись от зорких земных глаз над небольшим облаком, лебеди сделали несколько кругов и убедились, что прямо под ними находится легендарное озеро Свитязь. Лебедь с просверленным клювом ловко отстегнул со своей спины тючок и перебросил товарищу. Товарищ пропустил в постромки лапы, потом крылья. Потом сглотнул что-то мелкое из лапы, перевернулся в воздухе, помахал на прощанье стремительно тающими крыльями и стал падать с восьмикилометровой высоты, на глазах увеличиваясь в размерах, теряя оперение и все более напоминая парашютиста, каковым и должен был стать невдалеке от земли. Прозрачный купол парашюта без остатка растворился бы в воде, опустись парашютист на подернутую свинцовой рябью гладь Свитязи. Парашютист с этого момента получал право, о котором каждый оборотень может только мечтать: быть кем хочет, кем умеет, но по своему разумению, по обстоятельствам, приказа не дожидаясь.
Проводив ласковым взором товарища, лебедь с просверленным клювом повернул назад, на юго-запад. Вскоре, пересекая венгерскую границу, он почувствовал голод, сильно снизился, дернул окольцованной лапой и достал пристегнутый под брюхом пластмассовый туб, аккуратно открыл его и, урча от удовольствия, загребая крыльями, присосался к нему, на лету роняя крупные капли крови.
– Попал я в него, далеко не улетит, – сказал венгерский браконьер внизу, опуская ружье. Он не знал, что на этого лебедя пуля ему понадобилась бы по меньшей мере серебряная.
Последние метры Рампаль пролетел уже в своем природном облике. Грузно шлепнувшись в прибрежную тину Свитязи, он медленно встал и по пояс в воде смотрел, как быстро и неуловимо для глаза тают в мутной воде стропы его парашюта. Еле-еле светало, но Рампаль, как и все оборотни высокого класса, обычно пользовался кошачьим зрением. Сколько раз оно спасало его в джунглях Вьетнама! Довелось ему сидеть в плену в Ханое, – плен был, впрочем, довольно респектабельный, ибо находился тогда Рампаль в облике генерала Дженкинса, а пленных генералов берегли (впрочем, для правительства США теперь, в исторической перспективе, ценность такой подмены была сомнительной: сам генерал, того гляди, мог бы посидеть до конца проигранной войны, а вот лучшего оборотня пришлось выменивать со всей возможной сговорчивостью), – и тогда никтолопия выручала Рампаля не единожды. Спасла она Рампаля и теперь. Ибо к нему через полотно шоссе, видимо, окружающего Свитязь, бежал человек с двустволкой наперевес и кричал что-то.
Рампаль соображал быстро и принял немедленные меры. Одним движением утопил он свой рюкзак под прибрежной корягой, затем яростно впился в свои наручные часы, – бывшее «хлебниковское» кольцо, – с хрустом разгрыз их и проглотил, почти не жуя, царапая пищевод, но вовсе этого не замечая. Шея Рампаля стремительно растолстела, торс также, ноги, напротив, укоротились, ступни исчезли вовсе, лицо преобразилось сперва в несусветную карнавальную маску, затем приобрело полную идентичность с мордой одного из известнейших представителей животного мира. Рампаль упал на четвереньки и полез на берег, прямо на остолбеневшего мужика с ружьем.
Жан-Морис Рампаль стал свиньей.
Уже выбираясь на берег, он почувствовал странную дурноту, но грозно хрюкнул и пошел прямо на мужика. Тот что-то крикнул, кажется, по-украински (этого языка Рампаль не понимал, он и русский только-только выучил) и пустился наутек, бросив двустволку. Рампаль без спешки подошел к двустволке, на всякий случай раздавил ее, наступив на магазинную часть левым передним копытцем и перенеся на эту ногу весь вес своей несомненно рекордистской туши. Тут дурнота стала совсем невыносимой, и оборотень повалился набок. Еще не понимая причин жуткой рези, пронзившей его утробу, он бессознательно уполз с дороги на обочину, под ивовые кусты, в канаву. Тут, с трудом устроившись на жухлой и мокрой осенней траве, скосил он глаза на свое брюхо, ставшее совсем чужим, и с ужасом увидел маленькое розовое существо, копошащееся между его задними ногами. Существо отчаянно верещало и ползло к первому из ряда крупных сосков, покрывающих брюхо Рампаля. Несомненно, капитан американской армии Жан-Морис Рампаль самым жутким и неестественным образом поросился под ракитовым кустом на берегу легендарной Свитязи.
Дурнота на какое-то время отошла. Рампаль с трудом согнулся, мощная туша повиновалась ему очень плохо, к тому же, видимо, очередной поросенок был уже на подходе, – Рампаль слюняво хрюкнул, лизнул свое дитя и, чавкая, сожрал послед. Ему, как оборотню, в жизни приходилось глотать самые странные предметы, даже страшного морского ежа, – это поглощение имело следствием немедленное превращение в недоброй памяти президента Уганды Иди Амин Дада, и Рампаль был очень рад, когда этого президента уличили в людоедстве и свергли, очень уж ежа кушать больно было, – но рожал он впервые, поросился тем более, и вкус последа показался ему очень необычным. Никакого превращения не случилось, только судорога стала сильнее, и очень скоро второй поросенок, такой же писклявый, явился на свет, был облизан одуревшим родителем и прилип к очередному соску.
Через несколько часов, когда совсем рассвело, вконец измотанный Рампаль лежал на пропитанной кровью траве, а двенадцать отпрысков, родитель не уследил даже, сколько которого пола, яростно дергали его двенадцать сосков, тогда как тринадцатый, к которому Рампаль испытывал что-то вроде нежности, ползал по тельцам братьев и сестер, пытаясь отбить и себе сосок. Сам Рампаль глядел в небо и обреченно похрюкивал. Как могло это произойти? Он десятки раз уже был в жизни свиньей, правда, всегда кабаном. И вообще – он с ужасом начинал осознавать, что нигде и никогда не принимал женского облика до тех пор, пока не попал под командование пресловутого почетного поляка, продержавшего его в женской шкуре столько месяцев. И от кого все эти поросята? Рампаль вытянул шею, сколько мог, и захрюкал совсем яростно, подумав при этом мимоходом, что, будь он не свиньей, а собакой, его вой разнесся бы до самой польской границы. Теперь Рампаль понимал причины странных недомоганий, терзавших его последние месяцы в образе Б.Б. Откуда он мог знать, что все это – проявления беременности?
Кто-то остановился на обочине. До Рампаля донеслись звуки почти непонятной ему украинской речи:
– Гляди, Петро, хавронья-то опоросилась. Не иначе, Микитенкова это, я ее еще в воскресенье видел, все собиралась. Ты поди, Петро, Микитенке скажи, чтоб пришел и забрал, с него за это литр причитается. Прибавление дай Бог каждому. И пожарит, и закоптит, и в Шацк на рынок отвезет. Рано только что-то она, наши все еще через месяц-полтора только пороситься будут. А ему, хрычу старому, счастье так и прет, видать…
Рампаль собрался с силами, дотянулся тупым рылом до тринадцатого своего дитяти и резко ткнул его, отдав ему тем самым чей-то сосок. Поест пусть пока. Рампаль чувствовал, что с детьми ему предстоит скорейшая разлука. Внутренне он, конечно, оплакивал и их, и себя, но долг для него, для капитана американской армии, оставался превыше всего.
Поросятки, наевшись, стали засыпать и отваливаться. Рампаль заботливо вылизывал их и устраивал поудобнее. Вот и тринадцатый тихо уснул. «Воистину дети греха», – патетически подумал оборотень, поднялся на нетвердые ноги и встряхнулся. Странно, но его произведшая на свет тринадцать потомков туша почти не похудела. В человеческом облике Рампаль очень ценил свою некоторую полноту, хотел бы даже растолстеть, но хлопотное ремесло разведчика-оборотня не давало для этого возможности, более того, полнеть было просто опасно. Несмотря на море разливанное отцовских, не то материнских чувств, затопивших душу Рампаля, долго оставаться в этом облике было нельзя. Рампаль бросил прощальный взгляд на поросяток и, семеня копытцами, потопал к берегу, где под корягой спрятан был заветный рюкзак. Плюхнулся в воду, с наслаждением почесал бок о корягу, вытащил из-под нее искомое. И услышал тонким слухом разведчика громкий и не совсем трезвый говор тех самых мужиков, что останавливались у его родовой, так сказать, постели, к которым примешивался голос третьего, незнакомый, визгливый до жути – явно голос того самого Микитенки.
– Да говорю вам, не поросилась еще! Не поросилась! Чтоб у вас повылазило, не поросилась! Чтоб у меня повылазило! Не поросилась, покрыли ведь только! Рудычиху спроси! Коломийца спроси! Дома она, дома, как ей тут быть! Чтоб у нее повылазило!
Второй мужик что-то ответил, но Рампалю слушать было некогда. Быстрым и длинным прыжком вылетел он из воды и помчался по шоссе, следом свернул в сторону, стараясь скорее пересечь сжатое поле и скрыться в маленьком лесу. Больше всего боялся он того, что, может быть, бежит в сторону польской границы. Эта страна была ему теперь ненавистна на всю жизнь. Что-то теперь будет с его поросятками. Лучше не думать. Рампаль слышал позади себя гомон что-то не в меру резвой погони. Превратиться же во что-нибудь более быстроногое не было времени, тем более тяжелый рюкзак мешал несказанно, а бросить его было никак нельзя.
– Держи ее, она мой кожух украла, а у меня в нем кошелек!..
Оторвавшись от преследователей шагов на двадцать, Рампаль влетел в лесок. Непослушные копытца были сбиты в кровь. К тому же он чувствовал себя очень слабым после родов. Любой ценой требовалось превратиться во что-нибудь мужского пола, ибо, как догадывался оборотень, дурнота от родов тогда пройдет, они вообще станут для него невозможны. И Рампаль решился. Он выхватил пастью из рюкзака крупный желтый грейпфрут и, петляя между деревьями, чавкая и хрюкая, сожрал его. Быстро перехватил рюкзак в появившуюся руку, другой же заколотил себя в грудь и с ревом пошел на преследователей. Двухметровый самец-горилла произвел на них неотразимое впечатление: мужики с воплями бросились наутек. Но, ясное дело, ненадолго, собираясь вернуться со всякими берданками небось.
Но главное было сделано: послеродовую дурноту как рукой сняло. Рук у Рампаля, кстати, сейчас оказалось четыре, это было неудобно. К тому же в свинском облике он холода не чувствовал, горилле же, существу тропическому, в свитезянских пущах было явно прохладно. Рампаль прошел километр-другой, выбрал укромный кусточек, сел под него, достал волосатыми пальцами из рюкзака пол-литровую бутылку, – кокандского розлива! – выпил, стал человеком. Сориентировался по уже взошедшему солнцу и, одевшись в советское, пошел в Шацк. Так, никем не замеченный особо, хотя и не говорил по-украински (а другой речи вокруг слышно не было, разве только когда он обратился по-русски, спрашивая цену на что-то съестное, чего, однако, купить не успел, несмотря на то, что стоило дешево, – подошел автобус), никем не замеченный, уехал в Луцк. Оттуда добраться до Москвы – проще простого. Рампаль должен был, начиная от Москвы, пройти той же дорогой, что и Джеймс, найти его, помочь ему, заодно и проверить, не превысил ли он полномочий, – впрочем, неограниченных, – и не использовал ли служебных способностей в личных целях. Но это уж так, для порядка: Рампаль знал Джеймса и очень его уважал.
В московском поезде Рампаль хорошо отоспался.
* * *
– Знаешь, Гера, – анекдот есть такой – про женщину, которая дает?.. опохмеленным уже и счастливым голосом распространялся собеседник Рампаля. Так же, знаешь, как все, как все, хи, хи… – собеседник щурил маленькие глазки, морщил картофельный нос и всем своим видом выражал благодарность этому славному, опохмелившему его командировочному.
Два капитана – Синельский, конечно же, и Рампаль (ясное дело – Герман Лобиков, командировочный из Могилева) задушевно пили первую бутылку и закусывали тоже пока еще в кафе «Олень». Рампаль пришел сюда по следам Джеймса, а Синельский последние дни почти не вылезал отсюда. Денег ему все не выдавали, уехать он не мог даже туда, куда был командирован, и он решил не тратить времени попусту, полагая, что если не сам Федулов, то уж кто-нибудь из его компании придет сюда, в «Олень». Сколько народу упоил он здесь на свои кровные, впрочем, составляя счет на будущее возмещение, – хотя знал по опыту, что если шпион появится, то первым глупым делом на свои угощать начнет. Но и сам Миша попадался на глупый свой крючок постоянно: глядишь, угощает он тебя, с грустью такой глядит, упаивает, а разберешься – так простой крупный растратчик оказывается перед посадкой, а шпиона никакого. Так что о поящих и непоящих Синельский даже и рапортов начальству не готовил. А уж об этом командировочном он и вовсе знал наперед: не поставит второй бутылки – все, конец, не шпион это никакой, а простой тюфяк из Могилева, очумевший от жизни московской, в кои-то веки увиданной. Первую он поставил к тому же початую, сроду шпионы таких не выставляли.
А Рампаль, собственно говоря, и угощал этого случайного хмыря-обывателя лишь потому, что имелась в его неказистом рюкзачке недопитая бутылка водки, остаток того снадобья, с помощью которого он снова стал человеком в полесской роще. Человеком он стал, но водка в Скалистых горах оказалась хоть и советская, но очень жидкого кокандского розлива, и полной чистоты превращения в себя самого Рампаль не достиг: осталась в нем от обезьяньего облика совершенно излишняя и неприятная ему волосатость. Даже на спине волосы росли. Так что водку эту было что выпить, что вылить. Да к тому же водки Рампаль, вскормленный и вспоенный виноградниками родного Аркашона, вообще не пил. Он уже бывал в Москве, дважды, приезжал с визитами – сперва неофициальным, потом официальным, в образе президента Никсона, будь он неладен. Приходилось выпить литр кельнской воды. Русские люди, конечно, знать ничего не знали. Из их подарков Никсон выделил потом Рампалю шубу. А вторую бутылку Рампаль выставлять, кстати, не собирался: как все французы, он привык к экономии.
Но что-то в его личности было Синельскому все же подозрительно. Едва ли не излишняя для русского человека волосистость, прямо как Татьяна говорит, «чтоб из рубашки торчало»; так тут торчало не только из рубашки, но даже, кажется, из ботинок. И все-таки так уж, для порядку, полагалось теперь его по обычной программе отвести к Тоньке. Хотя по степени волосистости – скорее к Таньке. А то пусть обе пользуются. Им обеим самый смак, что не молодой, и полковник за блядство в служебное время квартальную не снимет, – так, считай, пробное задание выполняли.
Рампаль, оборотень, не был телепатом, не был даже в той степени, в какой был им Джеймс («умел в крайнем случае»), – оттого, кстати, продолжал считать Аксентовича поляком и ни за что ни про что ненавидеть Польшу. Рампаль не сумел бы прочесть ни чьих мыслей даже в случае смертельной опасности, но интуиция по сей день не подвела его ни разу, и он сейчас, хотя поил неведомо кого, попавшегося ему на учуянных следах Джеймса, знал все-таки, что попал за его столик этот хмырь и алкаш неспроста. И он не собирался с ним особенно скоро расставаться. А Михаил тем временем побежал к телефону-автомату. Тот, кстати, не работал. Наконец, из четвертого по счету автомата Тонька расслышалась, хотя к разговору все время присоединялся человек, ультимативно требовавший у кого-то неслышимого, чтобы тот, неслышимый, задешево купил у него крест чугунный намогильный и еще большую гирю, тоже чугунную, но желтую. Тонька угрюмо буркнула: «Бутылку возьми, портвагена хотя бы, огнетушитель». Танька, кстати, уже сидела у нее. Полковнику о визите очередного гостя решили пока не докладывать.
Взяли «огнетушитель» и пошли молчановскими переулками к Тоньке. Рампаль все тем же своим природным чутьем почти физически ощущал, что где-то здесь недавно прошел Джеймс. Пожалуй, даже метки какие-то свои оставил, только искать их недосуг. Наконец пришли.
Тонька отворила дверь – мрачная и похмельная, вовсе без следов той красоты, что обольстила Джеймса. Пить у нее было совершенно нечего. Особо грустно было то, что в буфете в ряд стояли пять бутылок представительского коньяку, которые и пальцем тронуть нельзя без письменного потом за них отчета. Нечего было и думать распить хоть одну из них с этим лопухом-командировочным. Но, увидев под мышкой Михаила «огнетушитель», а у его лысенького и симпатичного спутника Геры – еще один, Тонька смягчилась. Даже свет зажгла в коридоре. Тусклая коридорная лампочка выхватила из темноты старого испанского коммуниста на стремянке – видимо, уже списав со счетчика цифры, он что-то подсчитывал в уме.
Проигрыватель не работал: по словам Тоньки, какой-то Марик пролил на него бутылку ликера «Бехер». Однако невообразимо пьяная Татьяна, немедленно оценившая волосистость Рампаля – правда, с сожалением вздохнув о его лысине и маленьком росте, – стала требовать музыки и песен («А цветов и любви?» грозно спросила куда более трезвая Тонька, но Татьяна сказала, что цветов сейчас не надо, а любовь потом) и предложила исполнить любимую песню «Если долго мучиться – что-нибудь получится», даже что-то насчет «доли лучшей». Рампалю показалось странным услышать из уст этой пьяной девицы текст явно духовного содержания, но Тонька оборвала сей негритянский спиричуэл грубым и совершенно уже негритянским тычком под вздох, от которого Татьяна рухнула в приоконное кресло и как бы задремала, из-под век поглядывая на Рампаля и на открываемые бутылки. Рампаль выпил и вздрогнул: в России пить полагалось залпом, до дна стакана, в котором напиток сочетал в себе очень гармонично цвет мочи нефритного больного, вкус гашеной извести и запах несвежего скунса. Обнаружил он, что на языке москвичей напиток этот называется «ядреный портваген», а не «бормотуха», как было несколько лет назад, и запомнил это.
Михаил и Тонька сидели на кровати, и Рампаль волей-неволей оказался кавалером Татьяны, да к тому же и виночерпием. Вторую бутылку прикончили махом, и, ясное дело, не хватило. Тонька предложила сходить в Смоленский, Михаил объяснил, что у него пусто, как во сне младенца, денег, то есть, нет, и раскошеливаться пришлось Рампалю, но сделал он это с такой искренней неохотой, что и тут никаких подозрений не возбудил. Идти пришлось Михаилу в единственном числе: Татьяна потребовала, чтобы Рампаль рассказывал анекдоты. Он и рассказал десятка полтора, не особо свежих, но смешных, особенно ржали над анекдотом про говорящую жопу, они его не знали, и, увы, надежды на казенный коньяк исчезали; никаким шпионом этот самый Гера быть не мог, чтоб такое знать, надо в СССР жить всю жизнь. На чем, кстати, угасли остатки сексуального интереса к нему со стороны Тоньки. Танькины же секс-интересы с политикой связаны не были, разве что начальство распорядилось бы. Она по должности значилась всего лишь «подругой», обязана была находиться в седьмой алкогольной форме и вообще не встревать без надобности. Что ее и устраивало. Она, кстати, имела бы право выписать из буфета одну бутылку коньяка для поддержания своей седьмой формы, но волосатость Рампаля помутила ее разум начисто. И вообще она портваген больше любила.
Вернулся Михаил, злобно истративший из врученных Рампалем десяти рублей девять: в Смоленском перед закрытием ничего достойного, кроме белого крымского портвейна по четыре пятьдесят, не оказалось. Оставшийся рубль Рампаль с него стребовал, пришлось отдать; тут и последние Михайловы подозрения вовсе отпали – на что шпиону рубль? Выпили и эти две. Потом оказалось вдруг уже очень поздно, Рампаль заторопился к себе в гостиницу «Дом туриста». Татьяна сказала, что это к чертовой бабушке, а у нее в квартире тут внизу комната свободная есть и в ней койка. Рампаль согласился, от Татьяны шел слабый звериный запах, который почему-то его тревожил, видимо, остатки гориллы проявлялись в нем не одной только волосатостью. Попрощались, с трудом доползли к Татьяне. В коридоре было темно, брошенный посреди него детский велосипед слабо хрустнул под Татьяной, потом она сказала, что покатается утром и уволокла Рампаля к себе.
Звериный запах по мере развития событий усиливался и тревожил Рампаля все больше. Бурный восторг Татьяны, наконец-то запустившей пальцы в волосяные дебри на пояснице и прочих местах Рампаля, подвигнул ее на добытие из буфета бутылки казенной водки, – по рангу ей ничего другого не причиталось, хлопнули по полстакана, после чего Татьяна несколько поутратила интерес даже к волосьям, их после водки стало меньше, кстати, но она не заметила, а проявила его уже больше к конкретным действиям. Рампаль пошел ей навстречу. Не обманул ожиданий.
Среди ночи события стали разворачиваться по второму разу, заодно и водку допили. С непривычки к водке Рампаль занятие затянул необычайно долго. Татьяна тихо рычала, Рампаль, впрочем, нутром чувствовал, что она не оборотень, но это ему тоже мешало, даже больше, чем водка.
В коридоре раздался грохот, и чья-то громадная фигура возникла на пороге двери, которую, оказывается, Татьяна не заперла даже, так увлечена была волосьями. Фигура застыла, чуть покачиваясь, но Татьяна словно бы даже ничего и не заметила. Рампаль почувствовал вероятность, что сейчас будут бить, а в своем природном облике он большой силой не отличался. Сделав еще несколько движений он, не сходя с Татьяны, дотянулся зубами до стоявшего рядом стула, рванул с него будильник и яростно сожрал. Стремительный ветер возник в комнате, Татьяна вскрикнула, а бросившийся было в комнату Винцас во вспышке какого-то загробного, матового света увидел, как огромный лебедь сорвался с тела Татьяны, ухватил в лапу свой рюкзачок, крылом вышиб оконное стекло и растаял в ночном небе.
– Дурак, – сказала голая и протрезвевшая Татьяна, зябко ища на стуле сигарету, – сам что ли не видишь, что лебедятня у меня тут теперь?
Литовец мешком опустился на пол.