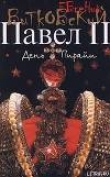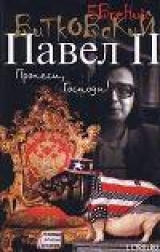
Текст книги "Павел II. Книга 1. Пронеси, господи!"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
11
Значит, ты истратил столько времени и сил на дело, которое считаешь бесполезным?
УМБЕРТО ЭКО. ИМЯ РОЗЫ
Сознание еще не возвратилось к нему, Джеймс еще не проснулся. Но уже понял, что лежит в постели с женщиной – и все вспомнил. Все, что могло произойти между ним и этой женщиной – уже произошло ко взаимному удовольствию. Женщиной была Катя Романова, а часы показывали без четверти одиннадцать.
Уже неделю Джеймс жил в доме Павла и Кати. Жил, не выходя на улицу, жил на деньги Павла, спал на раскладушке в его комнате, жил, ежечасно и ежеминутно перевоспитывая грядущего императора, инструктируя и обучая на все случаи жизни: учил хорошим манерам, дипломатическому протоколу, борьбе каратэ, основам прикладной телепатии и телекинеза, – последнее, впрочем, удавалось меньше всего, способности к телепатии обнаружились у Павла минимальные, дальше чтения общих эмоций дело не пошло. Павел же, понемногу увлекаясь предложенной ролью, в которую, правда, еще не до конца поверил, показывал Джеймсу записки отца – и на рисовых зернах, и уже расшифрованные, сложенные в толстую голубую папку с тесемками. Однако в ответ на прямые вопросы Павла – как же все-таки чисто практически откроется перед ним возможность взойти на российский престол – Джеймс замыкался и отказывался отвечать до тех пор, пока оба они находятся в Свердловске. Из этого явствовало, что в не очень отдаленном времени Джеймс Павла собирается из родного города увезти. И возникали совсем уж обычные советские вопросы: куда тогда деть квартиру, работу, Митьку, особенно Катю. Здесь Павел оказался непреклонен: на российский престол он желал взойти только рука об руку со своей женой Екатериной и никак иначе, пусть она и происходит от совсем незнатных прибалтийских переселенцев. Джеймс немедленно взялся гарантировать исполнение этого условия, хотя оно как-то отсутствовало в предварительных инструкциях, впрочем, немецкое происхождение, обычное для русских императриц, позволяло думать, что тут просто все само собой разумелось и введено в документацию поэтому не было. Во всех случаях лучше уж государь-семьянин, чем любой другой вариант.
Все перечисленное, кроме занятий каратэ, происходило на глазах у ничего не понимающей Кати; каратэ начиналось, когда она уходила в школу. Павел не скрывал от жены, что томский краевед, Роман Денисович, приехал сюда пока еще только для составления сметы на покупку всех без исключения рисовых шедевров Федора Михайловича: сумма ведь требовалась очень и очень большая, краеведческий музей должен будет испросить ее у министерства культуры и даже лично у министра культуры Устина Кирпичникова, – хотя, конечно, предварительное согласие этой инстанции уже есть. Поэтому Роман Денисович Федулов и приехал пока только предварительно. Роман Денисович произвел на Катю впечатление откровенно хорошее: красивый и высокий, по-французски неплохо разговаривающий, только с сибирским каким-то акцентом, он напоминал ей покойного отца, по которому в свое время все девки в родном алтайском селе с ума сходили. Она даже отважилась подать голос вечером, когда они на кухне чай пили, на шести квадратных метрах. Роман Денисович увлеченно рассказывал как раз о жизни и деяниях легендарного томского врача Сибирцева, а она перебила и спросила, не немец ли он, не из меннонитов ли, как ее родители. Томич не удивился, а только с сожалением развел руками – нет, мол, увы, пять поколений его предков жило на берегах родной Ушайки, да и сам он старается даже не покидать родного города, так, мол, его любит – это все сплетни чистые, что жрать совсем нечего, кедровые орехи всегда есть, сибиряк при них ни в жисть с голоду не умрет, и рыбу на Томи иногда продают тоже, никуда он из Томска не ездит – так привык, но тут уж такое сокровище, микрографика умельца Федора Романова… Катя все никак в толк взять не могла, отчего это покойный Федор Михайлович интересовал именно томских краеведов, но деньги были обещаны большие, вел себя гость на редкость порядочно, да и Павел ему доверял, лучше уж не затрагивать неудобных вопросов, почему да кому… Присутствие гостя в доме принесло Кате еще одну приятность, весьма неожиданную. Гость ночевал на раскладушке в комнате Павла и во время сна выдающимся образом храпел. Это почти ежедневно выгоняло Павла в Катину комнату со своей подушкой. Коль скоро будущий император выразил желание, чтобы императрицей была Катя, Джеймс считал просто необходимым, чтобы Павел чаще посещал супружеское ложе.
А Джеймс попросту ждал. Он использовал свободное время для обучения Павла. В одну из прошлых ночей он выпил залпом бутылку коньяку, купленную на последнюю десятку, выждал появления в его сознании Джексона со знаменитым вопросом и истерическим усилием воли заставил индейца выслушать краткий и сжатый, заранее продуманный монолог, в котором доложил Форбсу и центру управления в недрах Элберта об успешном завершении первой части операции, о полной готовности ко второй фазе, задерживаемой лишь безденежьем. Джексон тут же отключился. Отключился и Джеймс, коньяк был все-таки очень плохой, грузинский, три звездочки, бобруйского розлива, со ржавыми хлопьями по всему полулитровому объему.
А сегодня утром Павел пошел к первым урокам, Катя же до второй смены была свободна. Джеймс проснулся и ощутил настоятельную потребность посетить туалет. Меньше всего ему хотелось бы разбудить Катю, не дай Бог остаться с ней наедине и снова до бесконечности плести томско-краеведческую байку. Поэтому Джеймс не стал вставать с постели, а вылетел из нее, проплыл под самым потолком в коридор, нырнул в туалет. И только собравшись скользнуть обратно, открыл дверь и увидал, что на пороге другой комнаты в ночной рубашке стоит Катя и смотрит на него расширенными от ужаса глазами. Несомненно, она все видела, Джеймс выдал себя самым позорным образом. Инструкция всепредусматривающего Мэрчента гласила на такой случай однозначно: женщина, ставшая свидетельницей любых паранормальных способностей разведчика, будь она хоть девяностолетней старухой, немедленно должна стать любовницей разведчика. Джеймс подумал, как редко беспрекословное исполнение инструкции может действительно доставить радость, – тем более, что Кате было еще далеко не девяносто! – и прыжком, не касаясь пола, бросился к Кате.
Катя кинулась к себе в комнату, не вскрикнув и не успев запереть дверь. На изнасилование Джеймс разрешения не имел, все должно было происходить на его мужском обаянии, а при нарушении такового правила из его жалования начинались дикие вычеты. Но на обаянии все и устроилось. Тревога насчет возможного отказа во взаимности у разведчика прошла, едва только обхватил он будущую императрицу за плечи и закрыл ей рот поцелуем. Она и не думала сопротивляться, так что, наблюдай за этой сценой какой-нибудь инструктор-полковник, он бы и поцелуй-то записал как излишний. Ласки, лавиной рухнувшие на Катю, ошеломили ее и озадачили: Роман Денисович не повалил ее, не пытался сорвать рубашку, даже под подол не полез. Его сильные и жадные руки скользили поверх фланели, словно им и не требовалась нагота. Это продолжалось так долго, что Катя сдалась сама.
Время распалось на короткие отрезки, запульсировало, стало горячим и вязким. В сердце Джеймса клокотал восторг – одновременно от хрустальной точности, с которой было исполнено распоряжение Мэрчента, от шелковой кожи Кати, и все время подступал еще и главный восторг человеческой жизни, который непрерывно приходилось сдерживать. И поэтому все кончилось очень внезапно, ибо не имел права Джеймс Найпл становиться отцом еще одного возможного наследника престола, хватало Форбсу и законных. Любовь перешла в сон. Павел, по счастью, раньше часа дня вернуться не мог. Поспать полчаса они вполне имели право. И поспали.
Джеймс успел только на локте приподняться, когда в прихожей зазвенел звонок. Даже не чмокнув Катю, вылетел он из ее постели и скрылся за дверью бывшего кабинета Федора Михайловича. Перепуганная и недовольная Катя накинула халатик и пошла к двери.
– Кто там? – спросила она необычайно низким голосом.
– Дезинфекция! – ответил из-за двери мужчина. – Катя накинула на дверь цепочку и приоткрыла. За ней стоял средних лет человек с бакенбардами, очень бедно одетый, с чемоданчиком вроде балетного. Катя как будто видела его где-то раньше, да и выглядел он как-то безопасно. – Муравьи, тараканы черные, тараканы рыжие, клопы, блохи земляные, мухи, мыши, крысы, мокрицы, жучок мучной? Чем страдаете?
– Тараканы есть, рыжие. Боракс не помогает, кстати, и нельзя, собака у нас, так что если безвредного чего, – так же на нижней октаве сообщила Катя и дверь все-таки открыла. – Роман Денисович, вы проводите товарища на кухню, он там отравы посыплет, я как раз в школу тороплюсь очень. – И нырнула за свою дверь.
Джеймс выглянул. Человек, стоявший на пороге, был ему хорошо знаком. Счастью Джеймса не было предела, ликуя, он чуть пожал запястье незнакомца, провел его, слова не говоря, на кухню, взял из его рук чемоданчик, высыпал в угол полбанки муки и проводил незнакомца, ему столь знакомого, снова к выходу. Закрыв дверь, он, наконец, обратил внимание на Митьку, который у себя на подстилке не выл даже, а как-то стонал по-собачьи. Он и вообще-то рычал на любого гостя, а здесь вся шерсть встала на нем дыбом, ужас читался в его круглых спаниельных очах: он выл вослед дезинфектору. Удивляться не приходилось: поди успокой собаку в подобном случае. Этого и Бустаманте не сумеет.
Павел сегодня освободился раньше и шел домой не к часу, а к половине двенадцатого. Класс, которому он должен был на последнем уроке первой смены рассказывать об исторической неизбежности падения семейства, с коим состоял в недальнем родстве, – класс этот директор экспроприировал на нужды демонстрации седьмого ноября и отправил клеить пудовые макеты книг «Капитал», «Нищета философии», «Материализм и эмпириокритицизм», «Целина», которые школьники понесут вместо – и помимо, впрочем, – красных знамен. Отбарабанив подряд утренние уроки, должен он был сегодня провести еще только один во второй смене, в половине четвертого, но и тот класс был тоже под угрозой картонажной экспроприации. Поднимаясь по лестнице к себе домой, мурлыкая все ту же прицепившуюся «Маэстру», повстречал он между вторым и третьим этажом кого-то, кто, невзирая на не юношеский возраст, прыгал навстречу через две ступеньки, заложив руки в карманы, тоже, как и Павел, легкомысленно мурлыча, хоть и не «Маэстру», но чуть ли не «Марсельезу». Через секунду, когда незнакомец скрылся за изгибом перил, Павел понял, что, кажется, переутомился до галлюцинаций: на лестнице повстречался ему в советском партикулярном платье, да еще поношенном, не кто иной, как родной прапрадедушка, император Александр Романов.
Джеймс дожидался почти одетый, лежа на раскладушке, отчего-то самодовольный. Катя, похоже, только что выбравшаяся из постели, что-то жарила на кухне. Митька, не по возрасту оживленный, носился вокруг хозяина и пытался поведать ему какую-то важную историю, но Павел собачьего языка не понимал, хотя Митьку и любил. Очень, видимо, важная и страшная история это была, судя по интонации гавков, несколько зазывательных, необычных. Но перевести ее с собачьего на русский для Павла было некому. Самодовольный Джеймс, не вставая, пожал Павлу руку.
– Вот, Павел Федорович, мы и можем наконец-то обсудить последние подробности сметы… – Павел, понимающе кивнув, выглянул в коридор, а на кухне у Кати сжалось сердце: неужто Роман Денисович, который, оказывается, такой замечательный, и летает тоже хорошо, уже уезжать собрался? В глубокой тревоге потянулась она за подсолнечным маслом.
– Нет такого коньяка, дорогой Павел Федорович, которым мы могли бы отпраздновать сегодняшний день, – начал Джеймс, но Павел прервал его:
– Коньяк я как раз сегодня купил… К седьмому ноября…
Мертвое молчание повисло в кабинете. Джеймс крайне недоверчиво посмотрел на Павла. Тот очень смутился.
– Ну да, сила привычки, понимаю вас, – усмехнулся наконец Джеймс. Седьмого ноября мы ждать не будем, давайте бутылку. Бобруйский, наверное? Сойдет. И супругу, пожалуйста, тоже зовите. Скажите, что я получил из Москвы «добро» на покупку наследства Федора Михайловича.
– Так уж прямо из Москвы, – буркнул Павел, но Катю позвал. Та пить отказалась, на уроки ей вот-вот, но внутренне успокоилась: раз мужчины выпивают, грозы, стало быть, не предвидится. Даже пообещала заскочить с работы взять вторую. Павлу тоже нужно было к трем опять в школу, но Джеймс сказал, что сегодня у Павла Федоровича будут уважительные причины на работу не выходить. Павел усомнился, что после коньяка сможет получить бюллетень, но Джеймс клятвенно заверил его, что все будет в порядке и бюллетень не понадобится. Катя принесла им, что пожарила, ушла, и мужчины выпили по сто. И повторили сразу.
– Благодарю вас, государь, за гостеприимство, за хлеб-соль, – начал Джеймс. – Вы ведь поиздержались, меня-то откармливая. Примите уж в компенсацию. – Он достал из необъятного бокового кармана толстую пачку сторублевок и положил перед Павлом. – Самые настоящие, не волнуйтесь. И гораздо больше, чем у вас на сберкнижке. А надо будет, найдем еще. Эти лучше оставьте супруге на первое время.
Павел весьма небрежно сгреб пачку и сунул в письменный стол. Джеймс невольно восхитился: если Павел начинал принимать такие вещи как должное, значит, царские гены уже взяли верх над советскими. Самый раз, стало быть, начать действовать согласно новым инструкциям.
– Вы хотите меня увезти? А квартира?
– Вот уже это вас как-то не должно заботить, государь. Купите другую, в крайнем случае. А насчет работы… – Джеймс вытащил из кармана, на этот раз нагрудного, бланк заверенной телеграммы, которым секретарь Кировоградского обкома тов. Грибащук О.О. удостоверивал подпись Романовой Екатерины Алексеевны, а последняя с глубоким прискорбием извещала о смерти своего незабвенного мужа Петра, последовавшей после тяжкой геморроидальной колики, и требовала присутствия внука Павла на похоронах. Павел в ужасе поглядел на Джеймса.
– Вы думаете, меня в школе отпустят по такому документу?
– Если засомневаются, пусть звонят в Кировоград Грибащуку.
– И он подтвердит?
– Хм… в некотором роде. Он уже полтора года лежит в реанимации, видите ли, секретари посоветуются с ним и подтвердят что угодно, лишь бы шефа в мертвости не заподозрили и с работы всю компанию не поперли.
– Так он покойник, что ли?
– Хм… в некотором роде. Но сердце работает! Искусственным образом, знаете ли, это теперь не фокус. Но давайте к делу.
Ужас Павла достиг предела – и прошел разом. Он понял, что ехать придется, причем именно туда, куда велит Роман Денисович. Впервые за спиной Романа Денисовича начинала вырисовываться какая-то реальная сила. И то, что сила эта была советская, кировоградская, сильно успокаивало. А Джеймс разложил на столе маленькие листочки, – приглядевшись, Павел заметил, что все они исписаны клинописью, – разлил остаток по стаканам и приготовился к длинному монологу. Уши Павла словно бы заложило, такое случалось с ним не в первый раз с тех пор, как в памятную ночь обожрался он аспирином, и голос собеседника доносился к нему словно бы сквозь вату, будто бы ручейки бобруйского коньяка сочились и продирались по капиллярам к его закоченевшим, заждавшимся скипетра и державы всероссийских, пальцам.
– Итак, государь Павел, настало время перейти к конкретным действиям. Рад сообщить вам, что в ближайшие недели в международном суде в Гааге будет возбуждено дело о размораживании в пользу законных наследников так называемых «карманных денег» Романовской династии. Банк Ротшильда, швейцарские банки и все другие уже получили извещения. Однако ставлю вас в известность, что данное дело будет проиграно не позднее первых чисел декабря, выполнив свою функцию, а именно, успев привлечь международное внимание…
Затуманенное сознание Павла отфильтровало и осадило в песке забвения все многочисленные и совершенно астрономические цифры, которые перечислил Роман Денисович: ненужные и фантастические.
– Вопрос о реабилитации дома Романовых путем общенародного референдума должен будет, таким образом, стать насущнейшей проблемой ближайшего будущего России, каковую идею всемерно поддержат политические и религиозные деятели как диссидентской оппозиции, так, хотя это на сегодняшний день факт более отдаленного будущего, и советского официоза до политбюро включительно. Не удивляйтесь, идея реставрации русской монархии пользуется немалой популярностью и в высших слоях советской партократии…
Слух начал исчезать вовсе. Между тем Джеймсу было решительно все равно, воспринимает его будущий император или нет. Джеймс намеренно погружал Павла в состояние гипнообучения, информация шла сейчас от него прямо в подсознание Павла. В эти минуты он, Джеймс, малосильный маг, но зато разведчик высшего класса, выводил на сцену Павла: на сцену мировой истории, большой политики, красивой и настоящей жизни. Но приходилось предусмотреть многие трудности, неприятности, возможные осечки.
– … в первую очередь. И мы считаем своей обязанностью поставить вас в известность, что до самого последнего времени в качестве единственного законного претендента на российский престол рассматривался нами исключительно младший брат вашего деда, Никита Алексеевич Романов, он же в прошлом Громов, благополучно здравствующий по сей день. Однако ввиду крайнего отвращения, испытываемого этим вашим почтенным родственником ко всем формам государственной власти, возбуждать вопрос о возведении его на всероссийский престол не представлялось…
Где-то в мире что-то происходило. Где-то в далекой Латинской Америке, в лучах палящего весеннего солнца, совсем недавно взошедшего, сравнительно молодой, но совершенно лысый человек с кривоватым носом задумчиво катал по зеркальной поверхности стола странный пятигранный предмет, рассеянно слушая сбивчивую речь посла совсем молодой и необычайно северной державы, смиренно ходатайствующего об амнистии хотя бы части из тех тысячи семисот беженцев, что разместились на фламбойянах во дворе его посольства, как из-за невозможности их прокормления, так и трещания ветвей под ними. Где-то в столь же далекой северной Америке другой президент, отлично заранее осведомленный о результатах уж совсем под самый нос подкативших выборов по бюллетеню проклятущего голландца, будучи тем не менее вернейшим патриотом своей великой родины, в этот последний свой час оставался на небоевом посту и спокойным голосом диктовал ознакомительную записку для своего врага-преемника, долженствующую ввести того в курс дела касательно теперь уже неизбежной реставрации Романовых в России и грядущего, вечного, лет на пятьдесят совершенно естественного, американско-русского союза, – ах, если бы не проклятый брат-алкоголик со своими грошовыми взятками от ливийцев, если бы не провал с дурацким освобождением заложников, которых и так выпустят через три месяца, в последний день его несчастного президентства. Где-то в Лондоне, в Гайд-парке, жуткого вида старуха-суфражистка перед немногочисленными слушателями, очень похожими друг на друга, не пытаясь даже прикрыть свою седую прическу от мелкого осеннего дождя, напропалую цитировала Ленина, Троцкого, Бертрана Рассела и Бенджамина Спока, смело призывая слушательниц к грядущему светлому будущему всеобщей обоюдоженской любви, которое грядет из Тибета в Россию, а из России, озаренной хоругвями тысячелетней лесбомонархии, обратно в Лхассу. Где-то в бездонном ущелье на севере штата Колорадо группа проверенных еще на безупречной работе в Дахау врачей-нацистов, напялив белые халаты и противогазы, залив уши звуконепроницаемым воском типа «Одиссей-3», следила на экранах приборов, похожих на одичавшие в джунглях осциллографы, за невинным занятием тщедушного человека, находившегося в миле от них, на берегу подземного озера: тот разувался и обувался, лишь изредка отрываясь, чтобы пощупать лежащую сумку, из которой торчала длинная палка твердокопченой колбасы, деревянная дудочка и скатанный в трубочку оранжевый вымпел. Где-то все в том же Свердловске седой и несчастный еврей с русской фамилией щурил полные старческих слез умиления глаза над страницами любимого поэта, с которых звучала для него истинная, подобная державинской, бронза кимвалов, и клялся отомстить тому, другому, так подло и небрежно втоптавшему в грязь и тину все это бесценное наследие, неподдельную славу и роскошь российской словесности, и рука старика нервно поглаживала приготовленную наперед, залитую краденным на почте сургучом, бутыль с дефицитной жидкостью. Где-то в Москве необъятно толстый человек в генеральском мундире, почетный член всероссийского общества по охране подлинности «Слова о полку Игореве», вырвавшись с заседания правления, садился с трудом на заднее сидение своего неудобного, словно фасад гостиницы «Москва», ЗИЛа и предвкушал совершенно невообразимые по деликатесным достоинствам маленькие голубцы в виноградных листьях, уже, небось, готовые к подаче на стол в тесной квартире родственника-подчиненного, которому сегодня было предписано таковых выдающихся голубцов ради покинуть боевой пост и хоть один-то день не ловить пусть он считает что померещившегося ему шпиона, которого, кстати, и ловить-то чистая поповщина, с одной стороны, и не дай Бог поймает, – с другой; подумывал заодно, платить или не платить, а если платить, то сколько платить и какими деньгами, за гиацинтового ару, которого генерал собирался у тестя забрать и подарить возвращающемуся из Кейптауна с операции ближайшему начальнику по случаю выздоровления. Где-то опять-таки очень далеко в штате Колорадо нервный и почти еще молодой человек, из-за маленьких усиков одновременно похожий на Мастрояни и на Гитлера, обходил садик, притулившийся к склону первозданно-невыветренного исполина, обходил, роняя с кончиков пальцев крошечные капли, радужные стеклянные шарики, разлетающиеся осколками, едва достигнув земли, заставляя при этом сухие и высокие папоротники, которыми садик был засажен, немедленно зацветать невероятными алыми цветами, светящимися в туманном воздухе и, как подсолнечники, поворачивающими свои благородные чашечки к лицу бродящего меж ними человека. Где-то в двух сотнях верст от Брянска кряжистый и жилистый старикан с лицом Сократа, сидя в продувном сарае, несмотря на весьма холодную погоду, одетый только в розовые, до колена, подштанники, перекладывал отборные куриные яйца из плетеной корзины в ящик, слегка пересыпал их опилками и шептал, шевеля губами: «семь тысяч девятьсот девяносто три, семь тысяч девятьсот девяносто четыре, семь тысяч девятьсот девяносто пять, семь тысяч… тьфу, проклятая, тухлое, накажу, на горох положу, семь тысяч…», – а ветер, врывающийся в щели постройки, шевелил волоски его кустистых и седых бровей. Где-то в северной части Москвы, в двух шагах от Бутырской тюрьмы, на полу в коридоре собственной квартиры, устремив взор на самодельную галошницу, в позе лотоса сидело тело бледного тантра-йога средних лет, в то время как душа его, связанная с телом лишь тонкой ниточкой, уныло слонялась по курдскому эгрегору в поисках бесхозных умений, и не находила решительно ничего, достойного внимания. Где-то под Малоярославцем старый, огромный, совершенно одинокий пес с мордой лайки и телом овчарки, остановившись передохнуть, вылизывал подушечки лап, потому что годы уже не те, пес от таких побежек отвык совершенно, – хотя не было на этом пути еще никаких следов, и не читал пес бюллетень ван Леннепа, ибо не только не умел читать ни по-русски, ни по-английски, но и не требовалось ему, потому что будущее он видел своими подслеповатыми старческими глазами не хуже голландца, правда в своем, специфически собачьем ракурсе, а потом, долизавшись, поднимался, чтобы бежать своей странной дорогой по еще не оставленным следам.
– … Итак, необходимый срок нашего совместного с вами, государь Павел, исчезновения от глаз общества не превысит восьми, самое большое – десяти месяцев. И эти месяцы не будут для нас, особенно для вас лично, месяцами бездействия! Мы будем следить за ходом событий, находиться, можно сказать, в незримом их эпицентре, и одновременно вы, ваше величество, не боюсь этого слова, будете готовиться к принятию бремени высшей всероссийской власти! закончил Джеймс. – Выпьем же, государь!
К вечеру Павел, сунув немалую взятку в билетной кассе, купил два билета в купейный вагон до Москвы, на ночной поезд. В тот же самый час, отстояв очередь к другой кассе, Катя приобрела два билета от Свердловска до Томска в плацкартный вагон. И, наконец, Джеймс, напялив бифокальные, к тому же солнцезащитные очки, – в которых мало что видел, но маскировка нужна, – и старую ушанку, в третьей кассе взял два билета до Семипалатинска, общим вагоном, пассажирским поездом. Если кто-нибудь захотел идти по их следам, пусть копается – кто и куда уехал. Катя помогла Павлу упаковать все рисовое хозяйство Федора Михайловича, даже резцы, – а микроскопы для музея, для томского, как ей было сказано, уже выделил тамошний университет: Томск-то ведь как-никак – сибирские Афины! Собрала Катя мужу чемоданчик со сменой белья и прочим, что на ту неделю, которую он в Томске проведет, нужно, – а в осенние каникулы поедут они оба, Павел и Катя, к сводной Катиной сестре Веточке, Елизавете то есть, в Славгород.
Тем временем на темном и сыром берегу озера Шарташ Джеймс повстречался с очень бедно одетым дезинфектором в бакенбардах, который за истекшие часы стал лет на тридцать старше, то есть был уже не Александром Первым, а святым старцем Федором Кузьмичом: этот облик он приобрел совершенно неожиданно даже для самого себя, не прибегая к пресловутой формуле Горгулова-Меркадера, – он вкусил в свердловской пельменной настоящих сибирских пельменей с уксусом. Джеймс вручил святому старцу собственноручное письмо Павла для передачи Кате Романовой на шестой день после их отъезда и хотел дать еще тысячу-другую советских рублей лично от себя для нее же, но старец деньги брать отказался, сказав, что без крова и призора соломенная вдова не останется. Джеймс вспомнил о способностях собеседника, глухо возревновал без всякого на то повода и вернулся на Восточную в дом пятнадцать, где очень скоро выпили они с Павлом и Катей ту самую, заготовленную Катей бобруйскую бутылку, выпили совсем по-семейному, присели перед дальней дорогой, помолчали и уехали на вокзал, где Катя их покинула с поцелуями, а Павел и Джеймс, покурив за углом перонного туалета, в последнюю минуту нырнули в купейный вагон проходящего поезда на Москву. Проводник буркнул, чтоб шли в последнее купе, но Джеймс доверительно зашептал ему в седое ухо насчет того, что и проводникам жить надо, и водка дорожает, и мы же понимаем, как вам трудно, и вот, мол, тебе, отец, только не сажай ты к нам никого хотя бы до Перми, а если можно, то и дальше, но, отец, честное слово, больше не могу, свои, трудовые, кровные – и сунул в кулак проводнику четыре смятых трешки и рубль, тот руку в карман судорожно сунул и пробормотал, уходя в служебное купе: «Тогда в предпоследнее».
Прошли в предпоследнее. Вещей у них было всего ничего, только чемоданчик у Джеймса и побольше у Павла. Джеймс отпер трехгранкой окно, в купе было душно, и опустил раму ладони на две, отчего из открывшейся щели сразу ворвался ветер, поздний, осенний, сырой, запах шпал, холода, шум колес. Проводник подозрительно быстро приволок им четыре стакана чаю, когда Павел попытался два вернуть, презрительно на него зыркнул и хлопнул дверью. Джеймс выставил на столик к чаю еще одну бутылку коньяку, на этот раз хорошего и дорогого. Молча выпили и стали укладываться на ночь. Свет погасили, оставили синюю лампочку. Павел увидел, как Джеймс закурил в темноте, сам курить не стал, отвернулся к стене, решил спать.
А сон не шел никак, даже наоборот, от выпитого коньяку тревога какая-то возникла, нервная бодрость, неспокойствие. И куда это мы едем? – думал Павел. – Работа у меня приличная, жена хорошая, квартира лучше, чем у многих. Устроен я. На сберкнижке опять же восемь тысяч, деньги. И не хочу я ничего такого, ни корон, ни скипетров, ни дворцов, ничего не хочу. Но тут прапрадедовы гены взяли верх, «властитель слабый и лукавый», победитель Наполеона, святой старец Федор Кузьмич, шестом отталкиваясь, выплыл на плоскодонке из кровеносных недр и сурово вторгся в сознание праправнука. То есть как это ничего тебе не надо, – вопросил старец. Затем ли пять поколений тлел крошечный огонек истинного романовского рода, чтобы ты, боясь потерять восемь тысяч своих, на «Ниву» приготовленных, накрылся хвостом и лытал от престола, который я тебе, недоноску, завещал? Ты что, не видишь, ЧТО с твоей страной, да, да, не отворачивайся, с той самой землей русской, которой ты, а не кто-нибудь, ты, ты, настоящий хозяин? Ведь не потому в стране жрать нечего, что земля истощилась, даже не потому, что все негры-китайцы повымантачили, а потому что ты, хозяин! «Так уж прямо и я», – попробовал вяло отбрыкнуться от прапрадеда Павел, но понял, что защититься от собственной совести, оборотившейся этим самым старцем, которого он и портрета-то сроду не видал, решительно нечем. Однажды, пусть от страха, пусть только оттого, что пригрозили ему раскрытием его главной тайны перед заинтересованными и компетентными организациями однажды признав себя наследником верховной российской власти, взвалил он на свои плечи чудовищную ношу, которую не то что человеку, никакому Атласу не под силу бы нести, – взвалил ответственность за судьбу четверти миллиарда людей, за их голод, обворованность физическую и духовную, нищету умственную и телесную, за чудовищно низкий уровень жизни, всенародный алкоголизм, бесплодие женщин и бессилие мужчин, за каждую каплю березовской нефти, по бесхозяйственности и безразличию утекающую в Ледовитый океан, за каждую каплю донорской крови, сворачивающейся без употребления, за каждую минуту детства, украденную у школьников уроками лживых и бесполезных предметов, за предсмертный вой студента МГУ, каждого десятого из тех, кто, не сдавши экзамен в третий раз, кидается с восемнадцатого этажа, ибо отчисление грозит потерей надежд на нормальную нищенскую советскую жизнь; за сотни тысяч эмигрантов, выгнанных с родины страхом и голодом, за срамную олимпиаду с распродажей апельсинов среди лета, за Нобелевскую премию, со страху перед ядерными боеголовками врученную шведской академией проспиртованному вору и дегенерату, да мало ли еще за что в конце-то концов, какому бы Атласу все это горе четверти миллиарда людей снести, когда в те времена, когда он, как дурак набитый, за Геркулесовыми столпами торчал, все население земли было во много раз меньше нынешнего населения России!.. Чем исчислишь людское горе, кроме как числом самих людей?