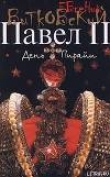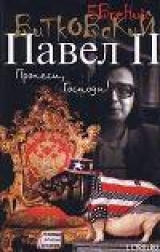
Текст книги "Павел II. Книга 1. Пронеси, господи!"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Аракелян тем временем вежливо отказался от «конспиративных блинчиков», которые по долгу службы принесла ему Мария Казимировна, работавшая на этой квартире «хозяйкой дома». Следовало бы ей выговор дать: блинчики полагалось предлагать на пятнадцатой минуте беседы с гостем, а она притащила их почти на тридцать восьмой, когда и гость-то уже ушел. Да к тому же и пахли они как-то не так, пригорели, что ли, или не на том масле пожарила, старая дура. Но гость был с точки зрения Казимировны несерьезный, – не разубеждать же ее! – да и вообще все рабочее настроение Аракеляна как-то улетучилось. Хотелось домой, к семье. И досмотреть хотя бы второй тайм тоже хотелось.
Полковник сел в машину, на этот раз в свою собственную, и через десять минут запер ее уже у себя во дворе: он жил возле «Ударника», в «доме правительства», где правительства никакого особенного давно не было, где квартиры были неудобные, со стеклянными дверями, с идиотской планировкой, где жил он в пяти комнатах со своей русской женой, четырьмя сыновьями, прижитыми за шестнадцать лет супружества, – а также, увы, с отцом жены, человеком невыносимым, но невыселимым: по совместительству состоял дед не только тестем полковника, но и тестем прямого начальства, генерал-полковника Г.Д. Шелковникова.
Жена Аракеляна, Наталия, в золотые молодые годы была полной русской женщиной из города Риги, – Наташенькины формы, умные беседы и хозяйственные наклонности в самый короткий срок склонили молодого лейтенанта из Армении к самозакланию на ЗАГСов-ском алтаре, ну, конечно, и то, что сестра жены замужем была за генерал-майором той же службы, что и сам Игорь, некоторую роль сыграло. Выйдя замуж за Аракеляна, Наталия со всем рвением взялась управляться с домашним хозяйством, через сестру и впрямь быстро повысила мужа в чине, перевела его в Москву, деловито, со средней частотой раз в два года, даря ему по черноволосому потомку. Но чем дальше, тем меньше времени уделяла она мужу и дому, тем больше гналась за крупицами уходящей молодости, – нет, не чувства мимолетные коллекционируя, не поклонников, – стала Наталия, как за сорок зашло, следить за собой. И оглянуться не успел вечно занятый полковник, как обнаружил, что женат отнюдь не на полной русской женщине, а на тощей, как жердь, сухой и спортивной даме, сидящей на диете и совершенно переставшей поэтому готовить, – любимую его армянскую еду, кстати, она вообще никогда готовить не умела. И домработница Ираида, которую завели теперь супруги, армянского тоже ничего состряпать не могла и не хотела: «Не буду я готовить, чего пробовать не могу, перец один, паскудство!» Так что помимо нехорошей перемены во внешности жены получил еще Аракелян и возможность готовить на всю семью – обязанность приятную, но хлопотную. Тем более, что шеф, генерал-полковник Г.Д. Шелковников, необычайной толщины и прожорливости мужчина, в «Москвич» не помещавшийся, минимум два раза в месяц приезжал к полковнику подхарчиться, ибо всерьез полагал, что лучше Аракеляна никто на всем белом свете ни долму, ни кюфту готовить не умеет. Так что кулинария превращалась в дело уже просто служебное. Занятая своим здоровьем и внешностью, передоверила Наталья мужу и воспитание четверых сыновей. А мужа то и дело дома не было. Так и доставались четыре сорванца на попечение тестю жуткому, с точки зрения Аракеляна, бездельнику и вообще фрукту. Из-за него в квартире Аракеляна порядок решительно был ненаводим. Ибо разводил Эдуард Феликсович Корягин, как звали тестя, гиацинтовых ара, чудовищно дорогих попугаев, по полторы-две тысячи птичка. В доме жили одновременно шесть попугаев, не знавших притом, что такое закрытая клетка. Разводил их Корягин для души и на продажу, чуть ли не у него одного на всю Восточную Европу эти птицы неслись в неволе, птенцы вылуплялись и вырастали; человеком Корягин был очень известным, – но, впрочем, не только по попугайной линии. Каждую субботу и воскресенье брал дед птичку, заворачивал поплотнее и ехал на птичий рынок, где стоял от открытия до разгона. За птичку просил он две тысячи, и, самое удивительное, раз в три-четыре месяца находился остолоп, который ему эти две тысячи выкладывал. Так и получалось, что тесть-бездельник, считая пенсию его в сто двадцать рублей, зарабатывал едва ли не столько же, сколько сам полковник – ни хрена, по мнению полковника, при этом не делая. Деньги тесть тратил в основном на своих черноглазых и чернобровых внуков, у старшего, кстати, уже усы наметились, и боялся Аракелян, что вот-вот станет дедушкой. Была седая тестева борода для Аракеляна тайным оскорблением, торчала она над обеденным столом, возвещая не только дедову финансовую независимость, но и унижая его, Игорьмовсесовичево достоинство, ибо виделась полковнику в этой бороде не столько борода тестя собственного, сколько тестя начальственного, – а начальник в тесте, увы, души не чаял, благо жил не с ним и не с попугаями. А вонь от попугаев была хоть и небольшая, но для тонкого кулинарного обоняния неуместная.
Полковник наскоро состряпал на кухне один-два баклажанных деликатеса из заготовленных с утра Ираидой материалов, одним глазом досматривая по телевизору огорчительный матч – ихние наклали нашим по первое число, особенно после того, как насмотревшийся на желтую карточку Полузайцев был удален с поля. Ихние выиграли со счетом четыре – один, от огорчения Аракелян чуть баклажаны не пережарил. А Наталия сидела тут же, в кухне, пила кофе с сухариком, с отвращением изредка поглядывала то на пышную сковородку с баклажанами, то на яркие майки на экране. И демонстративно есть ничего не стала, ушла к себе, не то массаж делать, не то маску – а ведь полной русской женщиной была когда-то, ох как только давно! Покормив всех, разогнав сыновей по постелям, – благо деду нынче нездоровилось, а то стали б они отца слушаться! – помыл полковник посуду, прибрал все и сел на кухне за столик выправить заготовленные на завтра списки закупок для домработницы, которые жена без понятия до его прихода составила. Но кулинарные мысли в голову отчего-то не шли – все не давала покоя полковнику улыбка Абрикосова, когда тот говорил про необходимость уважения к Романовым. Что именно он имел в виду Аракелян и представить-то боялся. Он мысленно пытался припомнить еще каких-нибудь Романовых, вспомнил конферансье пятидесятых годов, отмел его кандидатуру как несостоятельную, еще кого-то тоже отмел, и в конце концов перед его умственным взором повис жуткий образ серебряного рубля, царского, с бородатым профилем, именно такие рубли, по хронологии годов чеканки – что стоило деду Эдуарду немалых денег, – собирал старший сын Аракеляна, Ромео. Причем профили Александра III и Николая II вспоминались полковнику одновременно, одна борода наползала на другую, получалось очень похоже на Маркса, и, чтобы развеять наваждение, требовалось спешно заняться хозяйственными делами.
«Картошка – 1 кг», – писала жена, тут Аракелян ничего от себя добавить не мог, он знал, что это не для еды, а для компрессов, не то для ингаляций.
«Морковь – 2 кг», – Аракелян решительно приписал: СЛАДКУЮ!
«Лук репчатый – 3 кг», – он приписал ниже: ФИОЛЕТОВЫЙ!
«Баклажаны – 5 кг», – Аракелян почесал авторучкой висок, подумал, потом написал: В ПРОШЛЫЙ РАЗ БЫЛИ ВЯЛЫЕ! СЛЕДИТЬ!
«Помидоры – 6 кг», – Аракелян нарисовал, какие помидоры должны быть, надеясь, что сорт «бычье сердце» спутать ни с чем нельзя. Но проклятая Ираида все раз от разу чаще приносила магазинную болгарскую гадость, экономила его же деньги. И ругать ее было нельзя, где другую домработницу нынче отыщешь? – и кушать тоже.
«Сельдерей – 10», – Аракелян гневно прибавил: «ЧЕГО ДЕСЯТЬ? ЕСЛИ КОРНЕЙ 10, ТО МАЛО, А ЕСЛИ КИЛОГРАММ ДЕСЯТЬ – ТО МНОГО!» – хотел съязвить насчет того, что жена уж и не знает, как сельдерей-то продают, поштучно или на вес, потом вспомнил, что список адресован не ей, а домработнице, все зачеркнул и написал: «3 кг».
«Петрушка – 2, кинза – 10, тархун – 6…», – весь список трав полковник перечеркнул: и как она смелость-то на себя берет писать о том, сколько и каких трав покупать! Из того, что она написала, он не взялся бы сготовить даже горчичник, – а ведь начальство жрать хочет!
«Языки говяжьи – 3», – полковник перечеркнул цифру «3» и аккуратно вывел: ВСЕ. Это означало, что Ираида должна быть на базаре ни свет ни заря, когда мясо только привозят, и скупить все языки, сколько их ни будет на рынке. Полковник знал, что все равно не хватит. Но все-таки.
«Печенка куриная – 2 кг». – Тут полковник жену даже похвалил в душе: не забыла. И дописал для Ираиды: ХОТЬ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ!
«Яблоки…», – Аракелян дописал: ЯБЛОК НЕ НАДО!
«Орехи…», – полковник со злобой вывел: ГРЕЦКИЙ! ГРЕЦКИЙ! ГРЕЦКИЙ! Как ей объяснишь, что лесные орехи в кавказскую кухню не идут, по крайней мере, грецких ими не заменишь.
«Чернослив…», – НЕ МОКРЫЙ!
На этом список кончался. Полковник подумал чуть-чуть и дописал ниже:
МАСЛО РЫНОЧНОЕ – 2 БАТОНА.
СМЕТАНА – 3 ЛИТРОВЫХ БАНКИ. И добавил, распалясь: БУДЕТ ОПЯТЬ ГОРЬКАЯ УВОЛЮ! Потом долго зачеркивал последнюю фразу, чтобы не прочла ее Ираида ни в коем случае.
Приколол к списку скрепкой пять бумажек по пятьдесят рублей и положил все на холодильник. Поглядел на часы: только что перевалило за полночь. Но романовское наваждение не прошло даже за хозяйственными размышлениями. Рубль с Марксом так и стоял перед глазами, напоминая о загадке. Аракелян со вздохом потянулся к телефону и набрал номер Абрикосова.
– Слушаю вас, – послышался голос йога.
– Это Аракелян, Валериан Иванович, извините, что так поздно. Вы не могли бы, что ли… разъяснить мне чуть поподробнее тот совет об уважении, который вы мне дали? Может быть, не по телефону…
– Отчего же, Игорь Мовсесович. Я вам отвечу и по телефону. Я бы настоятельно советовал вам утвердиться в худших своих подозрениях. А сейчас спокойной ночи, я, извините, на голове стою.
Аракелян повесил трубку, вздохнул глубоко-глубоко и подвинул к себе другой список – тот, что был предназначен Ираиде для похода по магазинам. И сразу рассердился, потому что жена заказывала домработнице купить для нее две пачки диетических хлебцев. Потому что было ясно, что всю следующую неделю Наталия будет есть одни эти хлебцы и с отвращением наблюдать за его готовкой.
Аракелян выругался по-армянски. Послал же Бог жену, полную русскую женщину!
10
И живи также в мире с соседским чертом! Иначе он будет посещать тебя.
Ф.НИЦШЕ. ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА
– Не очень-то страшен черт, даже когда его малюют совсем уж страшно. Посмотрите на картины старых мастеров – ни у кого черт не получился страшным. У Босха – смешной. У Содомы – тоже смешной. Так чего бояться, даже если он и кажется вам страшнее черта? Чувства юмора не теряйте, генерал. Мне-то и вовсе бояться нечего. Сами видите, в подлинном облике перед вами сижу. Не Брижит Бардо, и не будет ему Брижит. Это его живые боятся, а я покойник. Только макаронник ваш пусть не следит и не присутствует, терпеть их не могу, это они меня прикончили во Вторую мировую, когда дуче неудачный десант на Мальте высаживал. Я его не трогаю. Пусть и он про меня забудет.
Форбс медленно поднял глаза к потолку. Смотреть на собеседника было не то чтоб страшно, но как-то негигиенично: в истинном облике Джузе Кремона являл собою полуразложившийся труп, безгубый к тому же, и его изумительной белизны зубы, включая четыре вампирских клыка, были просверлены дырочками разных размеров: дань музыкальным склонностям вампира-оборотня. Под певучим псевдонимом «Тони Найтингейл», давши на обложку свою довоенную фотографию, периодически выпускал вампир в соседнем Пуэбло диски-гиганты с изумительными концертами художественного свиста. Их раскупали. На гонорар покупал Кремона в местном ларьке донорскую кровь, и для окружающих был совершенно безопасен. Отчего тихий мальтийский юноша, погибший во время высадки итальянского десанта, превратился в вампира, – сам Кремона помалкивал, а спрашивать не всякий бы решился. К тому же его очень ценил Форбс: это был единственный оборотень, находившийся в двойном административном подчинении, – с одной стороны, он, как оборотень, числился в треклятом секторе трансформации у псевдополяка, с другой, как бесспорный покойник, мог подчиняться только медиуму Ямагути и Форбсу, – двое последних очень дружили, настолько, насколько вообще возможна дружба японца с древним китайцем. Впрочем, всем было известно, что подчинение Кремоны медиуму – липовое, у того и отдела-то не было, а дух мальтийца обитал не на том свете, а прямо здесь, в бренных останках, шляющихся день и ночь по коридорам и пугающих лаборанток. Однако же вампир обладал легким характером, его шляние в природном облике было всего лишь мальтийской шуткой, – а ведь он замечательно умел превращаться в козу, в волка, в медведя, в Братца-Кролика, в Статую Свободы, в президента Гардинга (на что тот безумно обижался на том свете), в певца Синатру, в Красную Шапочку, еще кое в кого и кое во что.
Форбс медленно опустил глаза.
– Ходячий ты труп, – ласково сказал он.
Вампир сидя щелкнул каблуками и просвистел два первых такта «Боевого гимна республики». Уже двадцать лет он был полноправным американским покойным гражданином. Плохо получалось, однако, что он и лучший маг Бустаманте терпеть не могли друг друга.
Кремона ушел. Форбс расслабился: сейчас предстоял разговор куда более тяжелый, скорей не разговор, а поединок. Вчера Джексон неожиданно вышел на связь с Гербертом Киндзерски, когда тот лежал на полу без сна в задней комнате «Иверии». Так и стало известно, что группа Гаузера осталась в СССР почти немой. Конечно, Гаузер за его алкогольно-лингвистический дар, внезапно проявившийся в таких сложных обстоятельствах, заслуживал и поощрения, и повышения в чине. Но особой надежды на успех его миссии возлагать не приходилось, слишком много сил, видимо, уходило у группы на поддержание алкогольной кондиции Гаузера. Форбс уже и в документах именовал этих несчастных не иначе как «семеро пьяных». И теперь приходилось, черт побери, снова в обстановке крайней спешки слать на помощь Джеймсу агента, притом безотказного. Таковым мог быть только оборотень-профессионал. Или же – если выражаться на языке донесений Форбса Конгрессу – «трансформатор». О том, что Джеймс жив и, кажется, здоров, Форбс уже знал: Джексон изловил его, осознал, что тот в Свердловске, что пьет водку, – но, увы, на этом связь оборвалась, не хватило времени спросить, нашел Джеймс наследника престола или хотя бы финскую баню, нет, ворвался в пьяное сознание пьяного Джексона пьяный лепет какого-то советского дояра, не то доярки, и понес индеец что-то такое, что полночи потом целая лаборатория расшифровать не могла, а когда расшифровала – только и выяснилось, что чья-то мать была непорядочной женщиной. Но к Джеймсу это отношения, видимо, не имело: его мать держала на Ямайке в городке Монтего-бей дорогую гостиницу, фамилия у нее была совсем другая, кому до нее какое дело в России, да и вообще кто о ком что знать может, о бабах особенно… Чероки скоро уснул.
Оборотней в институте Форбса ценили и берегли. Ушедший ныне на пенсию заведующий этим сектором Дионисиос Порфириос, сам обладающий редчайшей способностью превращаться в демонстрацию, десятилетиями подбирал сотрудников по всему миру, – выявляя, вербуя, обольщая, шантажируя, гипнотизируя и оборачиваясь. Порфириос, чье здоровье было подорвано многочисленными тысячемильными маршами протеста от побережья до побережья, оставил институту отлично укомплектованный штат из более чем пятидесяти оборотней-профессионалов. Каким же ударом стало для Форбса и для всего института, когда на освободившееся место президент внезапно назначил человека совершенно чужого, с некоторых пор известного под именем Вацлав Аксентович. В первый же день по водворении нового начальства в Элберт обнаружился конфуз: ни для Форбса, ни для прочих телепатов не составляло ни малейшей тайны, что человек этот не только не оборотень, но и не поляк даже. Под именем Аксентовича скрывался широко известный советский генерал-перебежчик Артемий Хрященко, человек уже немолодой, на родине еще при прежнем кукурузном премьере приговоренный к некоей мере высшего наказания. В былые времена, когда генерал еще состоял на советской службе и числился корсиканским графом, носил он клички «заместитель посольства» и «оборотень» – видимо, последнее прозвище и надоумило президента дать ему нынешний пост.
До того как перебежать, Хрященко инспирировал и провел ряд государственных переворотов в южноевропейских и латиноамериканских странах, в результате которых там на какое-то время водворялись просоветские режимы, сразу влетавшие Советам в круглую сумму; впрочем, эти режимы долго никогда не держались. Дважды он довел правительство одной серьезной европейской державы до кризиса, вотума недоверия и до прихода нового правительства, относившегося к СССР уже с открытой злобой. Он годами не бывал на родине, не оставлял себе на личную жизнь ни часу, единственным его увлечением навсегда оставалась серьезная кинематография. Никто никогда не заставал его ни на порно-дешевке, ни на вестернах, ни на «звездных войнах», зато на каждом фестивале в Каннах он неизменно появлялся в виде степенного, короткошеего, по-наполеоновски лысоватого корсиканца. Хрященко знал, что рука Москвы близко, он чувствовал ее за спиной, знал, что в любую минуту может обернуться и эту самую руку пожать. Чины ему шли незаметно для западных специалистов, недра Лубянки поднимали его все выше и выше, и, когда лет пятнадцать тому назад он внезапно явился в американское консульство в Марселе, сдался и попросил политического убежища, его чин генерал-лейтенанта КГБ некоторых даже ошеломил, – из-за чего, быть может, о нем в дальнейшем столь неусыпно пеклись обе заинтересованные сверхдержавы. С тех пор поочередно президенты США, принимая при вступлении в должность бремя государственных тайн, получали в виде платного приложения и пресловутого Хрященко. От покушений болгарской – почему-то – разведки его не могли спасти ни бетонные стены, ни подводные бомбоубежища. Правительство США, гарантировав ему политическое убежище, взвалило на плечи налогоплательщиков немалую ношу: за истекшие годы обошлась охрана сверхшпиона каждому из них чуть ли не в недельное жалование. Наконец нынешний президент, окончательно запутавшись в международных делах, в угаре полономании объявил Хрященко почетным гражданином города Чикаго и почетным поляком: в конце концов, комплект к Папе Римскому и прочим. Сразу после этого почетный поляк был направлен в институт Форбса как в наименее доступное для болгар место, и, к несчастью, событие это совпало с уходом на пенсию главы сектора трансформации – вот и попал президентский ставленник на вакантное кресло. Ничего плохого президент сделать не хотел, он счел, что с какими-то там обязанностями главы чего-то там мелкого Хрященко уж как-нибудь да справится: справляется же он, президент, со своими, а ведь даже и не думал, что справится.
Никогда и никого не интересовала личная жизнь бывшего лжекорсиканца, ныне лжеполяка, – ее просто не было, разве что снимал пенки с мирового кинематографа; ничего больше, быть может, потому он себе и не позволял, что нигде никогда не чувствовал себя в безопасности и ощущал готовую к пожатию руку слишком близко. Кто же мог знать, чем все это обернется? Знать мог предиктор. И теперь Форбс с горечью вспоминал, как в день появления Аксентовича-Хрященко в недрах Элберта он самолично вызвал голландца к прямому проводу и спросил: все ли, мол, будет в порядке. Предиктор улыбнулся в третий или четвертый раз за все годы работы в США и ответил, что повода для тревоги нет ни малейшего, что Аксентович – фигура некрупная, но еще очень пригодится. Выше предиктора в знании будущего стоял один Господь, а в Него Форбс не верил. И очень скоро улыбка предиктора получила разъяснение. Войдя в должность, Аксентович созвал сотрудников, опросил насчет индивидуальных склонностей и кинематографических пристрастий, в следующие сутки занимался писанием инструкций, а потом, как выразился невежливый Бустаманте, «сорвался с цепи», использовал служебное положение для компенсации десятилетий сублимации и киноложества вприглядку. 90 % персонала, согласно приказу, вынуждены были превратиться в западных кинозвезд, 10 % – в советскую секс-бомбу Целиковскую в разных ролях, для этого пришлось смотреть занудные советские фильмы и выводить через премудрую формулу Горгулова-Меркадера новые методы переоборачивания. Аксентович в километровых недрах Элберта наконец-то ощутил себя в безопасности. Перебрав почти весь мировой экран, Аксентович остановился на основных образах, более всего заставлявших его чувствовать себя молодым и сильным, – Брижит Бардо и в меньшей степени – Мэрилин Монро. Почти все оборотни к моменту, когда положение представилось Форбсу нетерпимым, пребывали в шкуре двух этих кинозвезд, в различных возрастах – от двенадцати лет до пятидесяти пяти. Еще несколько унылых Целиковских бездельничали, Аксентович звал их к себе разве что вечером в воскресенье, а единственным, кто был освобожден от необходимости ублажать почетного поляка, был мальтиец Джузе Кремона: грешить с покойником генерал-перебежчик считал для себя, видимо, зазорным. Администрация нынешнего президента доживала последние месяцы, поднимать в Конгрессе скандал с сомнительными шансами на успех Форбс не стал, и поляк попал не под суд, а в стекло: звякнули протянувшиеся от потных пальцев бывшего венецианского стеклодува хрустальные нити, завертелись огромным радужным пузырем, очнулся же сомлевший зав. трансформ. сектором только в здоровенной, похожей на бутылочную тыкву, наглухо запаянной посудине. Вентиляцию оной, ассенизацию и кормление почетного поляка Бустаманте осуществлял в свободное время. Чисто механически почетный гражданин, оказавшийся секс-маньяком, был разлучен со своим гаремом и теперь глухо рычал от злобы, созерцая многочисленных Б.Б. и М.М. с Целиковскими сквозь стенки исполинского презерватива, и поделать не мог ничего: Форбс провел свои действия по меморандуму, согласно которому обязан был гарантировать полную безопасность Аксентовича «любой ценой». Теперь она и вправду была гарантирована, никакие болгары не проникли бы в заколдованную бутылку, и лжеполяк мог отомстить лишь одним способом, что и сделал немедленно: даже в бутылке он все же оставался начальником сектора, работу которого полностью парализовал, запретив всем сотрудникам изменять облик. Теперь, когда Форбсу до зарезу был необходим оборотень, это неизменно вело к безобразным сценам и торгу: за любую услугу Аксентович требовал чудовищных сексуальных взяток. Теперь все ждали смены президента, Аксентович, видимо, тоже, хотя он не верил ни в предсказания, ни в левитацию, ни в тавматургию, ни – тем более! – в оборотней, он полагал, что все, конечно, может быть и так, – а ну как если с другой стороны посмотреть, то все иначе и причины совсем другие? Из воздуха перед генералом возник новый референт, О'Хара, сменивший негра, по вине которого группа Гаузера осталась в СССР почти немой; после проведенного расследования негр оказался болгарским агентом, был понижен в звании до рядового и отправлен на полуостров Юкатан следить за НЛО. О'Хара дожидался этого места двенадцать лет, с самых чешских событий. Форбс ощупал его привычным взглядом – сперва снизу вверх, потом сверху вниз. Ирландец ему годился.
– Аксентовича, – тихо сказал генерал, – и немедленно.
Референт щелкнул каблуками, явное свидетельство того, что он, как и полагалось, внимательно следил за разговором с Кремоной. Форбсу это понравилось, недоброй памяти негр так не делал. Через несколько минут генерал расслабился, мысленно созерцая какой-то из любимых сунских свитков дверь кабинета отъехала вбок, дверной проем неясным образом раздвинулся, и сквозь него вплыла огромная бутылка на тележке, которую без видимых усилий толкал ирландец. В бутылке сидел опрятно одетый, при галстуке, хотя и скинувший обувь с ног, человек лет под шестьдесят, с горящими глазами, похожий сразу и на великого корсиканца, и на героя какой-то русской книги, которую Форбс видел однажды, такого старинного украинца с отвислыми усами. Форбс сдержанно поздоровался, а потом с места в карьер напал:
– Не советую приглашать польских свидетелей, как, слышно мне, вы решили. Разговор не тот. Уверяю вас, что ваши поляки вам не помогут.
Аксентович покачал головой, и крупная слеза поползла из его правого глаза, утонула в отвислой щетине уса, дотекла в нем до конца и повисла на волоске.
– Курить охота, – сказал он, – трубку бы. Люльку. Тогда поговорим. Генерал наклонился к селектору:
– Луиджи, дай ему сигарету.
Бутылку заволокло дымом: это Бустаманте переслал в нее уже раскуренный «Кент».
– Слишком слабые… Трубку дайте!
– Нету!.. Скажите, Аксентович, ведь вам уже шестьдесят, в конце концов, зачем вы… Постыдились бы… мм… вельможный пан, а?
– Эх, генерал, генерал, вам бы мой тридцатилетний – как бы выразиться? недобор, я бы, знаете, еще посмотрел…
– Словом, к делу: есть пять минут. Нужен трансформатор. Работать придется в России.
Аксентович затянулся и отвел глаза.
– Не слышу ответа, – сказал Форбс.
– А что слышать-то, – отозвался почетный поляк, – откуда мне взять-то его? Вон, вампир есть, его используйте. Другие все занятые. Кто на задании, кто готовится к заданию. Так что и говорить не о чем. Хорошо вас кормят, генерал, хорошо вас кормят, вот что я вам скажу. Экий вы, генерал, смешной. Откуда ж я возьму вам оборотня? После Нового года, тогда, может быть, и смогу выделить. А сейчас… Трубки тем более не даете. Да нет. Видимо, не смогу весь будущий год.
– Будто неизвестно вам: что к январю вас здесь уже не будет.
– Н-да, а если все-таки буду? – сказал зав. трансформацией и сам, кажется, испугался – сидеть столько времени в бутылке не хотелось ему даже ради удовлетворения врожденного чувства противоречия. Но он понял уже, что Форбсу оборотень нужен позарез, а дать или не дать – зависит от него, от почетного поляка. В принципе он готов был и на компромисс, но на выгодный, только на выгодный. – Можем поторговаться, а?
– Я могу предложить вам отключить ассенизацию.
– Меня дерьмом не испугаешь, генерал, я его хлебнул во! Отчего вас удивляет, когда, скажем, хорошая вещь стоит действительно дорого? Кстати, я хотел бы перекусить. И трубку все же найдите. Негоже мне без трубки. У нас в Польше без трубки разговоров о делах не ведут.
– Кстати, о делах: глубокоуважаемый мистер Порфириос недавно побывал на родине, заехал в Болгарию, выявил двух прекрасных оборотней и вам предстоит принять их в ваш сектор. Близнецы, оба дипломаты, оба уже завербованы… Словом, примете сотрудников. Контракт подписан президентом.
Магическое слово «Болгария» мигом сбило часть спеси с почетного поляка, но сдавать позиции он не собирался. Он требовал свободы, дотаций, трубку, грозил пожаловаться помощнику президента и Папе Римскому, соглашался вести переговоры только после совещания со всеми своими подчиненными поочередно, а генерал, в свою очередь, грозил посадить к нему под колпак жутких джексоновских кобелей, никакими способностями к трансформации не обладающих, отвратительно голых, горячих и неполнозубых. И все время расхваливал болгарских сотрудников, незаметно умножив их число сперва до трех, потом до четырех. Наконец, нашли где-то трубку для Аксентовича – если честно, то отобрали у Мэрчента, но полковник с начальством не спорил – Форбс отослал ее в бутылку аппетитно раскуренной и прибавил, что табак в ней очень высокого качества, болгарский. Зав. трансформацией трубку с полузатяжки в ужасе выронил, пяткой растоптал просыпавшиеся угольки, обжегся и рассвирепел вконец. Через час-другой черты общего соглашения все-таки начали намечаться: почетный поляк согласился выделить для нужд Форбса требуемого оборотня на весьма длительный срок, а Форбс соглашался предоставить ему для довольно длительного совещания совершенно новую советскую кинозвезду, как раз сейчас выступающую в Пуэбло, совсем не болгарку, это гарантировалось. Для давно покинувшего Россию экс-генерала новые советские звезды, особенно такие, которые поют, были весьма интересны. Он сам иногда на досуге напевал старинные казацкие песни. Поставляемых Форбсом кинозвезд изображал, понятное дело, Кремона, но насублимировавшийся Хрященко об этом знать не знал. Кремоне шли сверхурочные, он блаженствовал в ларьке института, выдувая литры «Консервированной Донорской № 1», и все норовил пригласить лаборантку-другую разделить с ним кайф. Все непривычные в ужасе разбегались, а Кремона только свистел им вслед, для него вопроса девичьей чести не существовало, он был гурман и шутник.
В кабинет Форбса почти сразу вслед за исчезновением проклятой бутылки впорхнула, вбежала, влетела, сияя всей своей девятнадцатилетней юностью, безупречными губами, дивной парижской прической, какими-то необыкновенными чулками, фантастическим маникюром – сама Б.Б. влетела к генералу, как к долгожданному возлюбленному; подлинная Б.Б., кстати, никогда так скверно бы эту роль не сыграла. Древний китаец в душе генерала, впрочем, на весь этот спектакль не отреагировал никак, а сам генерал протянул кинозвезде маленький и грязный клочок бумаги за подписью поляка, отдававший данную Б.Б. в пользование генералу на длительный срок. Кинозвезда качнула бедрами, рухнула в кресло, закурила, затем яростно, с хрустом съела фирменную зажигалку – и вот уже на ее месте в кресле сидел небольшой, средних лет, почти вовсе облысевший француз с усиками, небритыми щеками и воспаленными глазами, потный и замученный. Это и был Жан-Морис Рампаль, герой вьетнамской войны, в свое время выменянный американским правительством у Северного Вьетнама на десять тысяч пленных, – и тот самый, который, узнав, что евреи дали Египту за своего Визенталя двадцать тысяч пленных, хотел застрелиться, столь было уязвлено его тщеславие. Рампаль хлопал глазами и почти рыдал.
– О Господи, генерал, скорее выпить! – в изнеможении выпалил он, протянул было руку за стаканом виски, которое Форбс собственноручно и заблаговременно поставил на край стола, но тут же, вовсе не стесняясь присутствием посторонних, запустил ее себе за пояс, в чем-то убедился, покраснел и схватил виски. – Господи, генерал, почему вы не сделали этого раньше… Семь месяцев… и пять дней в этом борделе! Неужели я затем сменил гражданство, затем стал американским военным, а вы, генерал, выменивали меня на десять тысяч вьетконговцев, чтобы я больше полугода сидел в борделе тюремного типа! Я прошу об отставке! Я должен пройти врачебное освидетельствование! Я определенно чувствую, что со мной что-то не в порядке! Я слишком долго был женщиной!